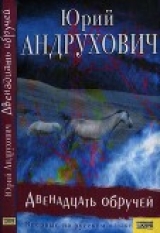
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Во Львов он, таким образом, попадает не в 28-м, как об этом поговаривали в околобогемных кругах, а в 29-м, то есть годом позже. Существует большая папка достаточно противоречивых воспоминаний о том, кто, когда и при каких обстоятельствах впервые увидел и – какая наглость! – приветствовал его. Не стоит верить ни одному из них, особенно тем, которые происходят из университетских кулуаров и аудиторий. Все эти попытки (что примечательно – датированные позднейшими десятилетиями) изобразить Антоныча эдаким первым студентом, который всегда и на все имел готовый рассудительный ответ и не пропустил ни единой лекции по сравнительному языкознанию, – это ничто иное, как наивные и спазматические попытки того же галицкого театра защитить свои традиционные ценности, в соответствии с которыми великий поэт просто не может не быть первым студентом, в противном случае откуда бы взялось его поэтическое величие? Да, именно благодаря этим лицемерно-филистерским представлениям о том, каким должен быть поэт, выразитель и властитель дум народных, и распространились со временем легенды о боязливом и беспомощном девственнике, о домашних тапочках и халатах, о склонной к мигреням и потому вечно перевязанной полотенцем лысеющей голове, о неуклюжести и мешковатости, а главное – о чуть ли не животном страхе перед всем на свете: собаками, девушками, автомобилями, бациллами, сквозняками и прежде всего – перед деспотичной тетушкой, у которой он в ее доме по Городоцкой, 50 якобы вынужден был обитать.
Эта версия выглядит особенно показательной для бесцеремонности всех постантонычевских фальсификаций. Ведь в действительности никакой тети там и близко не маячило. Особа, у которой поэт и в самом деле проживал на Городоцкой, была его многолетней (1929–33) любовницей, неудержимой в телесных наслаждениях и кондитерских выдумках вдовой императорского почтового чиновника, королевой новогодних балов и благотворительных лотерей на изломе столетий, последние всполохи бабьего лета которой сумел украсить своею бессонной ночною службой зеленый страстный лемко. О ее более чем телесной привязанности к молодому квартиранту ясно говорит хотя бы тот факт, что Антоныч был оставлен на проживание у нее даже после постепенного завершения их сексуальных отношений. Кроме совместного увлечения абсентом и крепкими длинными самокрутками они сохраняли еще и множество других платонических взаимностей. Иногда он играл ей на скрипке, иногда, когда напоминала о себе ее тяжелая наследственная болезнь, подавал ей кофе и сливки в постель. По свойственной большинству тайных любовников конспиративной привычке он и в самом деле игриво называл это вамп-существо тетушкою – так же и она звала его котярой — и вовсе не потому, что ей была известна настоящая фамилия его отца! Но лишь Ярослав Курдыдык[63], один из братьев-блудяг и ближайших друзей поэта, осмелился в своих до сих пор так и не опубликованных воспоминаниях туманно процитировать, как выпивший Антоныч, где-то уже за год до смерти, говоря о тетушке, пробалтывается редкостным признанием: «Не существует такого, чего б мы с нею не вытворяли». А потом добавляет: «Изо всех явлений самое удивительное явление – существование».
Именно его, Курдыдыка, воспоминаниям об Антоныче, кажется, ныне только и можно верить, хотя и не безоговорочно, ибо и они не лишены отдельных натяжек и фальсификаций. Но что важнее – там есть жизнь, описание пульсирующих пьяных дискуссий и ночных сборищ в пролетарско-бандитских логовищах, там есть невыразимо сочная сцена импровизированного чтения Антонычем «Ротацiй»[64] 11 июня 1936-го года (первая во Львове джазовая кофейня «За муром»[65], соло на кларнете Альфонса «Негра» Кайфмана), а также невыразимо пронзительный эпизод, когда, повиснув на подножке первого утреннего трамвая, смертельно утомленный круглосуточной вакханалией поэт, раскланиваясь, шутовски прощается с ватагой знакомых актрис и трубочистов не совсем им понятными, но совершенно пророческими словами «Пора в дорогу. Здесь я был лишь мимолетным гостем». Трамвай трогается, а значение этих его слов все они поймут только через несколько недель, когда будут опускать легкое тело поэта в землю Яновского кладбища[66]. Хотя не только это мы найдем в воспоминаниях одного из братьев Курдыдыков: есть там и напряженность интеллектуальных метаний, и горы проработанных словарей, и вечная борьба с нормативным ударением, и тихая охота на редкостные эзотерические рукописи по закоулкам Оссолинеума[67].
И что не менее важно – там присутствует Львов. Тот, каким он был в тридцатые, город, которого уже фактически не существует. А если все-таки существует, то где-то в недосягаемости, отделенный от города сегодняшнего непреодолимой пропастью, имя которой Сон.
Так вот, Львов и Антоныч. Была там любовь или наоборот? Никто теперь не отважится сразу дать ответ на этот вопрос. Ибо что ни говори, именно тут поэт прожил самые главные последние восемь лет. И были они как раз теми годами, что сделали его самим собой. Хотя согласно всем дальнейшим аналитическим расправам (да, именно расправам – это правильное слово!) он должен был чувствовать себя плохо. Его угнетали камень и асфальт, а также непомерные скопления людей, церкви, кондитерские, биржи. Многие из ученых поэтоведов, по природе своей в основном мудрых лисов, видят Антоныча прежде всего эдаким лемковским Маугли, до беспамятства погруженным в глубинное, корневое, этнографическое, зеленое. Кое-кто даже доказывает при помощи тех же его текстов, что по мере появления и разворачивания в творениях поэта урбанистической картины мира его приветно-витальный дух наполняется все более ощутимой мертвенностью и место буйного празднества биоса занимает серо-черное танатическое священнодейство с откровенно зловещим знаком техноса, а следовательно и хаоса.
Такую концепцию в целом стоило бы принять, как говорят в кругах тех же аналитиков, за основу, если б не уверенность, что на деле ее насильно подгоняют к той модели Антоныча, которая имеет ужасно мало общего с его реальной (и сюрреальной) фигурой. И это уже хотя бы потому, что эта модель была отчасти прижизненной, но главным образом посмертной западней, устроенной поэту упоминавшимся уже галицким общественным театром.
Ибо на деле ничто иное не притягивало его с такой жестокой и неотвратимой силой, как Львов. (К слову, намеки многих аналитиков на Вену, Париж, Лондон или Нью-Йорк только свидетельствуют о запутывании ситуации: поэт как раз готовил себя к Большому Путешествию, пиша и не посылая все более отчаянные письма на имя митрополита графа Шептицкого с просьбой о финансовой поддержке его будущих странствий.)
Да, Львов – город полицейских духовых оркестров, провинциальных публичных собраний, народных кофеен и общественных чайных, город с огромной тюрьмой на главной улице, совсем рядом с беспутным приютом поэта. Несложно заметить в этом городе два главных привлекательных для Антоныча сегмента.
Первый из них – это Львов подземный, похороненный и затопленный, с глухими шахтами и коридорами, тайными полузасыпанными лабиринтами и замурованной речкой, о берега которой до сих пор спазматически трутся табуны ослепших рыб, давя на здания снизу и распирая во все стороны трескающуюся асфальтовую скорлупу.
Второй – это Львов пролетарский, по видимости, даже люмпенский, все как есть его ужасно освещенные и непролазные осенне-весенние предместья со всеми возможными винокурнями, дубильнями, маслобойнями и пивоварнями, с вездесущими грязными базарчиками и вагончиками, а также разбитыми и навеки застрявшими в грязи лимузинами, с уличной торговлей собачьими пирожками, маковой соломой, денатуратом и девицами; ясное дело – с неисчислимым количеством темных и теплых притонов, где днями и ночами, погрузившись в нещадно дребезжащую музыку и беспрерывно лузгая семена подсолнухов, высиживают какие-то бритые мужчины и размалеванные, с волосами, выкрашенными в синий, их подруги.
Заметим, между прочим, что именно этот Львов во многом определил жизненную позицию Антоныча и подтолкнул к безустанным заигрываниям с ним тогдашних коммунистов. Пытаясь как-то приобщить его к своей прессе – как легальной, так и подпольной – они не скупились на знаки внимания и заинтересованного сочувствия, умело чередуя комплименты с претензиями, но так и не достигли окончательной цели.
Сегодня остается только верить свидетельствам упоминавшегося Курдыдыка-старшего, среди которых весьма показательной выглядит сцена в одном из борделей на Левандовке, вероятно, имевшая место где-то приблизительно на переломе 36-го и 37-го годов, скорее всего, в декабре, перед самым Рождеством. «В тот день, – пишет Курдыдык, – было как никогда уныло и серо, смеркаться начало уже в три пополудни. Мы встретились с Богданом на Валах [Гетманских][68] и, взяв по одному подогретому пиву, не спеша двинулись Подвальной в сторону площади Резни, а потом на угол Вуглярской и Котельной, где тогда действовал популярный среди карманников кинотеатр „Омана“[69]. Богдан любил кино, особенно хронику разных стран мира. По дороге мы купили еще бутылочку довольно гадкого ягодного – позарившись исключительно на смехотворно невысокую цену. Сидя в затемненной кинозале, мы передавали бутылку друг другу и так из нее потягивали. На белой простыни экрана показывали сначала эпизоды с испанской войны. Какая-то чертовски плохо обученная дивизия целых сорок дней брала приступом крепость противника. Альказар – так, кажется, называлась крепость, хотя минуло много лет и я не могу помнить точно. Мы сидели в первом ряду, поскольку у Богдана было слабое зрение. Он часто ходил в кино, а садился всегда в первом ряду. Мы попивали вино и время от времени смеялись. Было смешно видеть нелепые горбатые танки, а воры позади нас разговаривали громко по-польски, уж и Богдан, обернувшись, сказал им заткнуться. „Напиши это себе на лбу“, – недобро пробормотал один из воров, мол, после кино он ему еще попадется. У тех воров была большая шайка на Краковском рынке и в его окрестностях. Богдан на это промолчал, но я бы никогда не подумал, что от страха. Потом показывали еще одну хронику, из Абиссинии, где итальянские войска никак не могли справиться с вооруженными черными племенами. Как только показали черных бойцов, из луков стрелявших по итальянским аэропланам, банда позади нас прямо-таки загалдела. Тогда Богдан одним духом допил остатки ягодного сладкого и, развернувшись, влупил тому наибольшему пустой бутылкой по дурной польской голове так, что просто искры из нее брызнули. Пока воры приходили в себя, мы с Богданом выбежали на улицу и сквозь какие-то, только ему известные, подворотни и закоулки перебежали в самое начало Яновской, где уверились, что никто за нами не гонится. После того мы засели у знакомого Федя в „Вавилонской Святой“, где все имели привычку заказывать пиво „Бокк“ (темное) и по сотке питьевого спирта „Бон-Гут“. Внутри сидело уже полным-полно пьяниц, а мальчишка с улицы принес вечернюю газету и выкрикивал на всю кнайпу, что японский министр объявляет войну. „Славко, Славко, – говорил Богдан, потирая посерьезневшее лицо. – Что-то недоброе деется на свете: Испания, Абиссиния, Япония“. И то и дело повторял: „Рим, Берлин, Токио“. Не помню уже, как долго мы там сидели и не заказывали ли себе часом еще по сотке спирту. Зато припоминаю, что глубокой ночью оказались в одном клубе на Левандовке. Там собрались сплошь путейские рабочие, были, правда, и пара инженеров, но тоже с железной дороги. К нам сошли по лестнице женщины со смешными кокардами на задницах. Я взял себе, как обычно, нескладеху Орыську, потому что не очень-то люблю привыкать к новой заднице, и купил ей ликеру. Ну а Богдан только и повторял свое „Рим, Берлин, Токио“ и никак не мог кого-нибудь выбрать, даже инженер Поворозник начал его поддевать: „А что, пан поэт ищет тут свою музу?“ В сердцах Богдан взял себе мелкую костлявую Люизу, дочку левандовского нотариуса-алкоголика, которой не было еще и пятнадцати лет. Та Люиза была страшенно глупая и вечно сосала свой палец. Ее обычно никто не брал, потому что говорили, что у нее падучая. Мы еще о том о сем дружески с путейцами поболтали, а как настало время расходиться с женщинами по спальням, тогда Богдан купил для малой Люизы сладкий леденец, чтобы перестала уж сосать себе тот палец. Так мы разошлись, а Богдан все повторял „Рим, Берлин, Токио“. Я молодым был очень скорый, потому уже через каких-то полчаса в прекрасном настроении спустился вниз подождать Богдана, поскольку мы условились, что недолго там пробудем. Сижу час – нет, сижу другой, тогда думаю себе: „Э-э, что-то тут не так“ – и иду снова наверх к Люизиной спальне. Потому что там было такое заведение, что в нем иногда клиентуру даже и грабили или чем-то травили, если хорошо пошло. Стал под дверью, а там Богдан как раз декламирует: „На кучах черных рук и черных ног дымится кровь алей кармина, // смертельной пеной – желчь из уст, растерзанных шрапнельным поцелуем“. Я постучал в дверь и, совершенно изнервничавшись, вхожу, а он дальше свое: „Тюльпаны недр подземных – рвутся вверх кустами огненными мины, // из радостных глубин земли непобедимо-звонко салютуя“. И что же я вижу, войдя? Стоит Богдан посреди спальни на табуретке и декламирует свежесочиненное стихотворение, а малышка Люиза, чисто ангелочек, лежит себе в кровати, аккуратно укутанная одеялом, сосет Богданов леденец, глядит на него и так внимательно, с полным респектом, слушает. То было, как я теперь уже знаю, „Слово про черный полк“, которое мне тоже пришлось выслушать до конца, а потом еще и „Слово про Альказар“ – оба этих стихотворения Богдан сочинил в ту ночь. И пока он их не закончил, никуда мы оттуда не пошли. А на прощание мой незабвенный друг и коллега церемонно поклонился, величаво сошел с табурета и, склонившись над дитятей, поцеловал ее в лоб. Не сказал „Спокойной ночи“, сказал только, чтобы за всех за нас и за него, прекрасная нимфа, молилась. Где-то я потом слыхал, будто ее во время войны прямо посреди улицы застрелил немец. А мы с Богданом сяк-так пешочком и под мокрым снегом доплелись до Городоцкой, где-то около четырех утра. „Знаешь, – сказал мне, когда уже курили на двоих последнюю папиросу около его парадного под номером 50, – иногда у меня бывает ощущение, будто эти стихи мне кто-то нашептывает в ухо. Слово в слово нашептывает“. У меня прямо мурашки побежали по плечам, а он еще раз повторил то самое свое „Рим, Берлин, Токио“ и после этих слов пошел в дом, немного сгорбившись, наверно, в предчувствии тетушкиного шкандаля».
Интересно, что те же слова – о нашептывании стихов – Антоныч говорил по меньшей мере еще двум людям. Мы их тоже встречаем в воспоминаниях – другого приятеля поэта, художника Владимира Ласовского, и невесты поэта Ольги Олийнык.
Владимир Ласовский, автор исключительно точной в деталях и поэтому убедительной статьи «Два облика Антоныча», был при жизни поэта с ним не менее близок, чем оба брата Курдыдыки. Достаточно вспомнить, что именно Ласовского Антоныч приглашал для графического оформления своих печатных сборников. Тем удивительнее, что из его, Ласовского, писаний ярко предстает иная личность – тот самый примерный студент и образцовый отличник, дисциплинированный тетин племянник, типичный галицкий попович с недвусмысленной склонностью к академическому прозябанию, домашним шлепанцам, халатам и полноте.
Если сравнивать поведенческие характеристики Антоныча, приводимые Ласовским и Курдыдыком, у нас никак не получится избавиться от интригующего впечатления, словно речь идет о двух разных людях, в реальной своей жизни настолько взаимно удаленных, что их траектории даже случайно вряд ли могли пересечься. (При этом Ласовский будто бы даже намекает на присутствующую там тайну, пользуясь образом «двух личностей».)
И правда: если у Ласовского Антоныч предстает преимущественно вялым и даже каким-то апатичным, то у Курдыдыка – удивительно бодрым, чуть ли не испепеляемым изнутри никому не ведомой жаждой, «…внезапно выхватил скрипку и смычок из рук Ференца, цыганского виртуоза, и пустился нарезать „Дьявольский бридж“[70], а следом сразу же аркан[71], так что присутствующая публика прямо повскакала со своих мест, приветствуя его», – пишет, например, Курдыдык об импровизированном музицировании Антоныча в ресторане отеля «Жорж» весной 36-го года.
В то время как у Ласовского Антоныч – чаще нудный, да к тому же замкнутый, неспособный ни начать беседу, ни поддержать ее, у Курдыдыка напротив – он невероятно изобретателен и временами весьма остроумен: «Все мы так и попадали от хохота, когда Богдан выскочил на цирковую арену в шутовских широченных штанах в красно-зеленую клетку, а потом они с него еще и слетели. В тот вечер он поспорил с Гаврилюком и Тудором, что покажется прилюдно без штанов. И, ясное дело, выиграл».
У Ласовского Антоныч противоестественно боязлив (можно ли себе представить, как он, чуть ли не парализованный ужасом, семенит по львовским тротуарам, из последних сил пытаясь держаться подальше от автомобилей, и потому втискивается всем телом в стены зданий!). Зато у Курдыдыка имеем дело с личностью скорее безрассудно-бесцеремонной. Цитированный выше эпизод с разбитой на голове уголовника бутылкой может служить этому наилучшим подтверждением. Хотя нет, есть подтверждение еще более красноречивое – вот он первым вылезает на крышу горящего дома и спасает четырехлетнюю девочку с прижатым к ее груди котенком (жаркое лето 35-го, околицы Кайзервальда[72]).
Ласовский пишет, что Антоныч имел репутацию субъекта довольно скупого, поэтому, если уж кому-то из друзей и удавалось затянуть его, к примеру, в кофейню, Антоныч неминуемо создавал целую кучу проблем во время расчета, мялся, краснел, лепетал что-то невразумительное – не говоря уж о том, что себе заказывал в основном самый дешевый бледный чай – и тот без лимона. Курдыдык не просто делает акцент на гипертрофированном расточительстве Антоныча – из его воспоминаний всплывают заказанные и оплаченные Антонычем реки пива с соответствующими потоками водки, шнапса, пунша, коньяка и бренди; Антоныч так и сыплет вокруг себя монетами, покупая себе экстраординарные парижские тряпки, самых дорогих проституток с Театральной или, скажем, иранский гашиш из лавки колониальных товаров на Замарстынове.
И если у Ласовского Антоныч в целом вырисовывается в эдакого не по годам стариковатого и совершенно кабинетного толстяка в очках, то у Курдыдыка перед нами несомненный любимец женщин и сердцеед, бродячий музыкант и плотник, в каждом селе и местечке оставляющий после себя вытоптанные цветники, бессонные ночи – выплаканные очи и внебрачных детей. В конце концов, сам поэт сказал об этом лучше всех: «Горели молодухи и девицы в пьяном счастье. // Ой, не одна осталась без венка!»
Но, с другой стороны, Ласовский вполне тактично уравновешивает созданный им довольно несимпатичный образ одним-единственным, зато определяющим противопоставлением. Его Антоныч – он в то же время и поэт. К тому же не просто поэт, а ночной визионер, истинная жизнь которого разворачивается в сновидениях. «Утром полусонный Антоныч надевал очки, вставал с постели и тут же садился за расшатанный столик, чтобы торопливо записать стихотворение, созревшее во сне», – пишет Ласовский, не избегая при этом некоторой, мягко говоря, беллетризации (ну отчего, отчего тот столик должен обязательно быть расшатанным!), но вместе с тем достойно проецируя иерархию. Что касается Курдыдыка, то у него как раз мы почти не находим каких-либо глубоких проникновений в метафизику поэта – Антоныч для него прежде всего дружище, с ним хорошо пить и волочиться по городу, встревать в скандалы, убегать от полиции, но ничего кроме того. Время от времени, правда, предстают колоритные сцены с декламацией стихотворений – если не в борделе, то в кнайпе, однако все они не очень-то гармонируют с реальной хронологией творчества поэта, порождая небезосновательные сомнения у каждого, кто знаком с этим предметом не поверхностно.
В поисках третейского судьи обратимся к воспоминаниям еще одной особы – невесты поэта Ольги Олийнык. Это круглолицая и подстриженная по моде того времени панянка, внешне напоминающая – так на снимке – типичных киноактрис второго плана, имена которых сегодня бесповоротно забыты даже историками жанра, должна была стать главной спутницей жизни Антоныча. Женитьба планировалась на осень 37-го года и, если бы не смерть поэта в июле, дело неминуемо должно было увенчаться их счастливым браком. Антоныч посвятил ей несколько стихов из двух строф из «Первого лирического интермеццо» в сборнике «Зеленое Евангелие», прежде всего «Свадебную», где, словно нарочно, целомудренно обойдена всякая эротика. Ну разве что считать эротическими намеками слова «А в волосы твои, родная, // заплелся лунный серп кудрявый» или «зачем ладонь трепещет снова».
Похоже, совершенно смело можно предположить, что поэт не имел никаких добрачных половых контактов со своей нареченной. Того требовала тогдашняя мораль, эти нестерпимо ханжеские правила игры, навязанные седоглавыми интендантами галицкого публичною театра. Потому-то даже такой beasty bad boy[73], как Антоныч, ничего не смог против этого придумать. Все его попытки соблазнить твердую в убеждениях панну преждевременной интимной близостью разбивались о ее непоколебимую добропорядочность и гордость на грани с фригидностью. Можем полагать, что Оля ни разу не позволила обстоятельствам обернуться таким образом, чтобы они с суженым оказались наедине. Нет, всегда в чьем-то присутствии – каких-то подруг, воспитательниц, монашек-василианок[74] и не в последнюю очередь ее родителей. Все они обладали препаскудным свойством беспардонно рассматривать и неодобрительно оценивать Антоныча, словно перед ними какой-нибудь Минотавр или Фантомас, взявшийся втянуть их неразумное дитя в свое тайное развратное логово. «А чем он живет?» – неоднократно допытывалась, насквозь лорнируя дочь, пани Олийныкова, которую уж никак не мог удовлетворить ответ о какой-то эфемерной премии Товарищества писателей и журналистов или глубоко символической стипендии от Его Высокопреосвященства митрополита графа Андрея[75].
Поэтому ничего удивительного, что в воспоминаниях своей невесты Антоныч выглядит скорее никаким. Она предпочитает концентрировать внимание на его мягкости, добротен мечтательности. Или, скажем, на том, каким старательным он был в учебе, как целыми вечерами и неделями не вылезал из библиотек (сама собой напрашивается гипотеза об истинных мотивах и местах его слишком регулярного отсутствия). Из всех размыто-неопределенных фраз Антоныча, будто бы промолвленных в ее присутствии, запоминается по-настоящему лишь одна, возможно, вычитанная ею у того же Курдыдыка: «Знаешь, иногда у меня ощущение, будто мне кто-то нашептывал в ухо. Слово в слово нашептывал».
Излишне говорить, что Антоныч переживал такого характера отношения как довольно болезненную драму. Ясно осознавая свое особенное место в метафизическом сообществе проклятых поэтов, со всех сторон раздираемых демонами бунта и разрушения, он слишком отчетливо видел ближайшую жизненную перспективу: женитьба, бытовая рутина и скука, отказ от самого главного, капитуляция, а потом – позорное доживание в окружении бесконечно чужой и требовательной семьи на учительской должности где-нибудь под Коломыей. Именно эти его настроения просто-таки вопиют к самым внимательным из нас, когда читаем у него: «Мой череп – балдахин над брачным ложем двух гадюк…» или – еще показательнее – «Цветисто размалеван семейных норок быт, // лежанка, кенар, песик и любовь – в комплекте». А самое главное – и здесь уже драма перерастает саму себя – отсутствие вариантов, то есть полное осознание того, что так оно все и будет, что по-иному просто не бывает.
Лето 1937 года должно было стать последним летом его свободы. Время неумолимо приближало его к женитьбе. Оторваться от этой зависимости он уже не мог – известный нам театр человеческих взаимоотношений уже не простил бы такого дезертирства и никуда не отпустил, а вдруг бы даже и так, то все равно не позволил бы дышать. Ситуация ощутимо усложнилась его новым бурным увлечением, обещавшим стать даже чем-то большим, чем просто увлечение. Антоныч встретил ее в городских дебрях, среди призрачных каменных домов и душных дворов с узкими и мокрыми лестницами, где-то то ли на Армянской, то ли на Сербской улице.
Его пассия по имени Фанни была чуть старше тридцати, и у нее было двое детей, которых она выгоняла на дно двора из своей захламленной искусственными цветами каморки, как только наведывался кто-то из ее постоянных клиентов (а таковыми были участковый полицейский, вечно подвыпивший тачечник с Галицкого ринка, несколько студентов медицины и вислозадый регент хора Успенской церкви). С появлением в ее жизни Антоныча Фанни перестала принимать их всех, чем накликала на себя ужасный гнев именно участкового, единственного, кто пользовался ее телом задаром, учитывая особые служебные полномочия. У Фанни были длинные, как молочные струи, ноги, шелково-теплый живот и бархатное чистое влагалище, а кожа ее была настолько белой, что, как написали бы в средневековом романе, когда она пила красное вино, было видно, как оно течет по ее пищеводу. В свое время ее уговаривали стать ночной танцовщицей в «Золотом Козле», но Фанни отвергла это предложение как слишком непристойное.
С течением недель и месяцев Антоныч открывал в ней все новые и новые потаенные источники. При этом вряд ли они когда-нибудь говорили о поэзии – они сами были поэзией, и этого достаточно. Занимаясь любовью на грудах искусственных цветов, они достигали той утраченной целостности двух половин, которой так много и безуспешно пишется в религиозных и медицинских трактатах. Для обоих это было чем-то подобным происшедшему впервые в жизни, то есть раньше каждый из них мог только слышать о чем-то таком. Но – что важнее – однажды и он и она почти одновременно осознали, что это великая случайность и ни в коем случае, никогда и ни с кем им этого не удастся пережить снова. «Когда у тебя свадьба?» – спросила Фанни как-то в начале июня, в одну из тех ночей, что переходят в рассвет, так и не начавшись. Точнее, это было днем, поскольку Фанни ни разу не выгоняла детей на дно двора среди ночи, поэтому они с Антонычем встречались только днем.
«Через три с половиной месяца», – ответил Антоныч и в тот же миг почувствовал, как у него перехватило дух. Кажется, именно тогда в нем поселилось его намерение.
В конце июня он зашел к ней в условленный час, и они плотно закрыли все окна и двери. Раздеваясь, они не промолвили ни слова. Тогда Антоныч написал углем на стене свои последние шесть слов, которые значительностью, возможно, превосходят все шесть строф его мистики: «Виновных – нету, злодея не искать!» После чего открутил газовые краны, и они легли на ложе. Нет, конечно, была еще пластинка – Фанни поставила на патефон «Синего ангела», их любимую джазовую пьесу с соло на кларнете Альфонса «Негра» Кайфмана. Они умели любить настолько отдаваясь и в то же время собранно, что смерть – то бишь вечная пустота – должна была бы их накрыть непосредственно после последнего всхлипа кларнета и – также последнего – истомного взрыва. Все это уже было описано им в «Балладе о голубой смерти», о чем она, скорее всего, не догадывалась.
Все уже было описано – кроме финала, которого даже он в своих давнишних видениях не мог предвидеть. Так, теряя сознание – то ли от любви, то ли от отравления – они еще услыхали снаружи, из почти несуществующего мира, грохот взламываемых дверей. А уже через минуту, когда им все стало все равно, в каморку Фанни вломилась ватага перекошенных и очумелых спасателей во главе с крикливым участковым. Хотя даже его командирски-перепутанные крики не сумели вернуть Фанни обратно – ее уже было бесполезно звать.
Зато Антоныча срочно перевезли в клинику на Кульпаркове[76] (карета медицинской помощи бешено клаксонила среди забитого пешеходами, селянскими возами и трамваями города), где сбежавшиеся на короткий консилиум самые титулованные и, соответственно, самые циничные врачи приняли решение начать борьбу за жизнь потерпевшего. Эта акция должна была заключаться преимущественно в детоксикации, то есть полном переливании крови. Таким образом, следующие полтора суток Антоныч проторчал в еле освещенном коридоре меж двух миров, под бессильно-бдительным медицинским наблюдением и громоздким, но оттого не менее хрупким сооружением из стеклянных посудин.
Весть о его пребывании в больнице сразу же овладела Львовом. Но руководство театра не могло согласиться с истинной версией его катастрофы: попытка самоубийства никоим образом не принадлежала к принятым на поприще родной литературы сюжетам. С другой стороны, самого факта тяжелой болезни не было ни малейшей возможности ни притемнить, ни скрыть. Моделируя сознательно своего собственного Антоныча, театральные деятели запустили в оборот первое из того, что пришло кому-то из них в голову и выглядело достаточно невинным, то бишь нейтральным: острый аппендицит с последующей операцией слепой кишки. При этом исходили из соображений, что после успешного переливания крови больному придется отлежать в клинике приблизительно столько же времени, сколько длится послеоперационное выздоровление. Не было, правда, никакой уверенности, как поведет себя сам пациент, выйдя со временем из больницы – не начнет ли он сразу распространяться налево и направо о настоящей причине своего балансирования между светом и тьмой. Но самые решительные из манипуляторов брались уладить и это. На третий день после несчастного случая они отрядили в клинику целую делегацию, которая, обсевши постель Антоныча и обложив его со всех сторон пионами да апельсинами, таки выдавила из него вымученный кивок головой в знак покорности.
«Он изрядно осунулся, его кожа землистого цвета, но духом он совершенно бодр и еще долго будет служить великому общественному делу», – так отчитались члены делегации о своих впечатлениях, и большинство журналов подхватили эту их формулу. Тем временем уже в следующую после их визита ночь Антоныч почувствовал себя категорически хуже и снова впал в беспамятство. Его тело не желало мириться с чужеродностью в себе – скорей всего, при переливании была допущена ошибка с группой крови. Не стоит исключать и факта сознательных злоупотреблений: то были годы, когда весь город полнился слухами о черном рынке доноров и о махинациях с внутренними органами.








