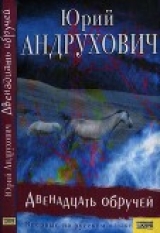
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 16 страниц)
Я не желаю это слушать, сказала пани Рома, в сотый раз отходя от окна. Крылья фантазии вмиг отнесли ее на берег Речки, и она увидела Карла-Йозефа, как он, потусторонне переступая через груды пустых жестянок, полусогнувшись, входит в закопченную черную халабуду, облепленный со всех сторон крикливыми и вертлявыми цыганчатами. Почему мы сидим тут и никуда не идем, спросила она. Так я когда еще об этом говорил, напомнил Артур Пепа. Походим над Речкой, посмотрим – и на тринадцатый. Можем спуститься двумя как бы группами, подбросил идею Волшебник. Одни дорогой через лес и потом на мост, а кто-то другой тоже через лес, но левее – к этим самым плащунам. В случае чего – встречаемся перед мостом.
Я дал бы ему еще полчаса, сказал Артур Пепа. Он как раз нащупал в подкладке куртки, где-то под прорванным карманом, забытую пачку «прилуцких». Можно я пойду с папой, спросила Коля, завязывая свои приятные на ощупь волосы в боевой хвост. Нет, ты остаешься здесь, отрезала Рома, и будешь сидеть у себя в комнате – это я пойду с папой. На это ее решение Коля только чуть надула губы, но не слишком. Ибо девятый обруч – это когда остаешься один на один и от этого некуда деться.
А вы, Волшебник, продолжала организационное построение Рома. Нам нужно успеть до темноты. Лучше выходить сейчас же, немедленно, никаких не через полчаса. Вы идете или вы остаетесь, Волшебник?
Сейчас, ответил режиссер, только забегу к себе, возьму там это самое – газовый баллончик и тэ дэ. А вы – это самое – вы меня все равно не ждите, нам разными, как бы это сказать, путями.
Так и порешили, что Рома с Артуром пойдут через лес по дороге, а Ярчик Волшебник – вторая как бы группа – спустится к Речке левее, ориентируясь на старую колею, шум воды и заросли орешника.
Да, говорил себе Ярчик Волшебник, да, да, да. Ничто не забыто? Никто не забыт, откликнулось, а точнее отбрехнулось в нем далекое пионерское детство с групповым онанизмом в хлоркой засыпанных сральниках. Ничто не забыто, согласился с детством Ярчик Волшебник.
А все же какое чудо эти мальтийские штаны – сколько всего можно унести в карманах! И еще раз: тотальная проверка. На левой штанине четыре кармана. В первом из них – боковом и глубоком – помещался сложенный ввосьмеро и запаянный в полиэтилен оригинал договора со взаимными подписями; конверт потоньше – со всеми необходимыми визами и гербовой печатью Фонда «Карпатская инициатива»; конверт потолще – с гонораром. Кроме того – бутерброд номер один, то есть самый большой из бутербродов, четырехъярусный майонезный.
Во втором из карманов – так называемом нажопном – помещалась та самая кассета, ради которой все затевалось. Отснятый материал обещал стать бомбой. Такой же бомбой, но калорийной обещал стать бутерброд номер два из того же кармана – корейка, маслины, горчичное масло.
По обоим бокам колена находились еще два симметричных кармана. В первом помещался только бутерброд номер три, симфония сыра. Во втором – бутерброд номер четыре (познаем вкус Океана!) и недочитанное карманное издание «Сделай Себя Достойным Спасения». По пути сюда Ярчик Волшебник дошел до страницы двадцать восьмой, но в брошюре их было целых пятьдесят две, и ему хотелось узнать, что будет дальше и чем там все закончится.
Зато на правой штанине – еще три кармана. И в первом из них – тоже боковом и тоже глубоком – помещался не только проанонсированный Волшебником газовый баллончик (как раз под правую руку, выхватываешь и поливаешь!), но и второй баллончик – с дихлофосом, а также банка 0,5 литра местного пива «Варцабыч Премиум», светлого.
Что касается правого нажопного, то в нем была еще одна кассета – с копией отснятого. И там же, разумеется, бутерброд номер пять, крекер-салями – так себе, легонькое вступление к полноценному питанию.
Оставался еще набедренный карман, последний на правой штанине, в общем, тоже очень важный, ведь в нем пребывали: бутерброд номер шесть, большой универсальный, сложенный изо всех компонентов, присутствующих в ранее перечисленных бутербродах, апофеоз Волшебникового искусства; банка 0,7 литра местного пива «Варцабыч Оксамыт[97]», темного; вибратор в форме мужского члена длиною 22, 5 см, одолженный для съемок на фирме «Утеха-2»; два золотистых напиздника треугольной формы с серебристыми завязками, арендованные для съемок на той же фирме.
Ярчик Волшебник еще раз окинул самым пристальным взором комнату, в которой ему довелось провести эти несколько дней и ночей. Поотворял все возможные дверцы, перетряхнул ящики, заглянул под подушку и ковры. Ничто не забыто? Кажется, ничто. Кассеты, бутерброды. Должно быть еще что-то на «ка», но ничего, кроме кандалов, ему не пришло на ум. Да и времени уже не оставалось на припоминание. Уё, сказал себе Ярчик Волшебник, уё и атас.
Ярчику нравилось в себе то, что он такой практичный. Даже еды набрал, сколько было положено – за двое будущих суток. В договоре так и стояло: «…а также трехразовое полноценное питание на весь период исполнения заказа». Сбегая по ступеням вниз, он удовлетворенно думал о том, как грамотно все обставил. Чистая работа, подумалось ему, как только входная дверь с веранды защелкнулась за ним. Далеко внизу, на границе можжевеловых зарослей и опушки леса, он увидел эту комичную пару. Даже с такого расстояния была заметна их беспомощная нервозность. Ярчик Волшебник мысленно расхохотался и взял категорически влево.
Карл-Йозеф Цумбруннен лежал в водах Речки, немного ниже того места, где в нее впадает Поток. Его много часов волокло по течению, два-три раза ударило о прибрежные скальные выступы, нещадно покрутило в центрифугах нескольких водоворотов, потерло твердым песком на мелководье, однажды хорошенько потеребило на перекате в самой узкой горловине, но потом снова сорвало с места и – хоть протянутые с обоих берегов ветки и пытались тысячу раз его поймать если не за разбухший свитер, то за полу куртки – все-таки вынесло в Речку. И только там уже он налетел на известняковый гребень посреди русла, где его вольное плавание ногами вперед было окончательно остановлено: ноги Цумбруннена по колени застряли в подводных расселинах, а верхняя половина тела очутилась над волнами, намертво перекинутая поперек гребня. И только свесившуюся вниз полупогруженную голову беспрестанно подбрасывало течением, словно Речка решила вымыть из нее эту вот остекленелость и эту вот беспамятную попытку улыбки. Потому что Карлу-Йозефу повезло: лицо ему почти нигде нисколечко не побило, и любой мог бы его узнать. Но ему это было в общем-то все равно.
Удивительное дело мертвец. В основном они попадаются нам значительно реже, чем все другие люди. Мы привыкли к тому, что людское тело подвластно своей индивидуальной пластике. Оно передвигается в пространстве, жестикулирует, защищает себя от столкновений, придерживается собственных, очерченных сознанием координат. Мы привыкли к тому, что это неделимая целостность, говорящая и смеющаяся, апеллирующая к себе подобным, отвечающая на взгляды, рассматривающая саму себя в зеркалах. Эта подвижная физическая оболочка настолько для нас важна, что затеняет собой все иные понятия и значения – да, мы прежде всего телесны, и потому любое отклонение от норм нашей телесности выбивает из-под нас все основания во взаимоотношениях с остальным миром. Мертвое человеческое тело – самое абсолютное из упомянутых отклонений. Оно не может передвигаться и говорить, оно пассивно и равнодушно ко всему, не способно к раздражению. Оно неестественно (как кажется нам), ведь ведет оно себя не так, как положено вести себя человеческому телу. Проще всего назвать это сном, но как тогда быть с пробуждением? Ладно, назовем это сном, но вечным. Хотя при этом метафора, призванная успокаивать уподоблением нормальному, оборачивается еще более ужасной стороной: нет ведь ничего более нечеловеческого, ничего нет ужаснее вечности. Поэтому не стоит смерть уподоблять сну. Разве что наоборот. Впрочем, весь этот ужас возрастает в тысячи раз, когда мы смотрим на мертвое тело, которое только что знали живым, которое еще совсем недавно, никчемно короткий миг назад, вело себя как все нормальные тела. Как такое возможно и почему? Наше изумление не знает пределов – надо же: мертвец! Но самое удивительное во всем этом то, что все мы, нет, лучше сказать – каждый из нас однажды и сам отчебучит подобную штуку и станет мертвецом.
Карл-Йозеф Цумбруннен любил купания в зеленоватой горной воде. И вообще – как и все мои герои, он любил воду. Так что, может, оставить ему и себе надежду? И написать, что ему было хорошо? Что его тело не чувствовало боли, но ощущало течение? Что его волосы текли в струях, как водоросли Тарковского? Что он чувствовал себя в этой воде, как рыба?
Наконец-то ему стало хорошо.
Ярчик Волшебник смотрел на него с берега и думал: «Идеально красиво». Такой фантастический ракурс – только снимай: закинутая назад и беспрерывно подбрасываемая волнами голова, эффектно развернутый на камнях торс, интересно изогнутый локоть, распрямленная в сторону вторая рука погружена по запястье (Ярчик Волшебник ничего не знал о трех переломах костей, но это несущественно – мы уже договорились, что тут нет никакой боли), стало быть, Карл-Йозеф любовно гладит рукой текучего речного пса.
К сожалению, не было видеокамеры. Ярчик Волшебник отснял бы колоссальный сюжет – тело в воде, игра двух текучих субъектов, смерть как воплощение сущности, то бишь возвращения к себе домой. Смерть как находка собственной ниши, ванны, нирванны (Ярчик Волшебник был уверен, что это слово пишется с двумя н). Наплывом камеры он показал бы отдельные фрагменты этого роскошного обтекания, например островки пены вокруг пальцев. Но лучше всего смотрелась голова – понуждаемая невидимыми механизмами влияния, то бишь волнения, то есть подбрасываемая силой течения, она безустанно кивала, со всем соглашаясь. Так физика переходила в метафизику, а та в диалектику.
Но дольше пяти минут Ярчик Волшебник эстетом не бывал. На шестой минуте созерцания Речки он еще раз молвил себе: «Уё, уё немедля – и атас!» Становилось уже страшно – стоять на этом берегу, рядом с трупом, который вот-вот начнет раздуваться и испускать ядовитые пузыри. Тем более что уже наступали сумерки, а за ними приближалась темнота. Не слишком мудро оставаться тут одному. Звать этого алкоголика с его неврастеничкой? Волшебник лишь скривился от такой мысли. Куда-то бежать, кому-то сообщать? А потом еще эти беспомощные ментовские разборки – болячка на голову (Волшебник называл эту боль – головний бiль, то есть по-русски – главная боль). Нет, уж лучше – уё, уё немедля – и атас! Тут еще был и такой дополнительный фактор, как чуйка. А чуйка его никогда не подводила.
Вот и на этот раз, когда ему навстречу выскочили из своих черных руин с десяток вопящих цыганских недоносков, им же, кстати, этим вечером и напророченных, он не стал разворачиваться и бежать назад: сколько бы ни бежал, а эти догонят и забьют, как уже забили того австрийца – берег длинный, Речку не перебежать. Нет, Ярчик Волшебник пошел прямо на них, на их щенячий лай (gimme, gimme some money, sir, gimme some candy, some cigarette, gimme your palm, your soul, your body!), и с разбега протаранил их порядки (отделавшись при этом некоторыми потерями: бутерброд номер три и бутерброд номер шесть, черт побери!), они рассыпались во все стороны, а уж тогда-то он наддал ходу, хоть цыганва и не слишком гналась за ним, но это нам здесь и сейчас известно, а у его страха глаза были такие огромные, что он только хватал ртом воздух (впереди запрыгал мост) и не оглядывался; цыганчата, правда, немного посвистали ему вслед, но тем и закончилось, ибо как раз тогда старший среди них и самый высокий заметил то, что уже успел увидеть Ярчик: Цумбруннена в Речке.
Только перебежав через мост и ступив на шоссейную обочину большой земли, Ярчик Волшебник позволил себе немного отдышаться. Но это не означает, будто он остановился. Тот же внутренний рефрен, никак не оставлявший его все это время, и дальше гнал его вперед, в чертопольском направлении, чуть видоизмененный и глуповатый: уё, уё – полцарства за уё… Всецело захваченный изнутри своей медитацией, он резво шагал вдоль дороги, не желая замечать ни того, что до ближайшей станции указатели обещают целых шесть, а то и семь с половиной километров (и километры те, вне всяких сомнений, были километрами гуцульскими!), ни того, что климатическая неопределенность прожитого дня напоследок начинает определяться в снежную бурю. Где-то примерно на двадцатой минуте его марша по вымершей дороге все и началось: в небе несколько раз блеснуло, сразу после того прокатился раз, второй и третий гром и, если б Ярчик Волшебник больше интересовался фольклором, он мог бы при этом вспомнить о предпраздничном выезде святого Ыльи на своей колеснице. Увы, ничего такого он не вспомнил, а только закутался плотнее в куртку и ускорил ход. Еще через полчаса, промокший насквозь и до ослепления залепленный снегом, он сообразил, что не видит, куда ему идти – дальше вытянутой вперед руки начиналась безвестность. И даже неиспользованный баллончик с газом ничем тут не мог помочь.
Как раз тогда и возник первый и очевидно единственный на всю сеть региональных дорог автомобиль. Он выскочил из грома и снега, а точнее из-за Ярчиковой спины, и съехал на обочину, визгливо тормозя и чуть ли при этом не сбивая ходока. Авто лязгало музыкой, и в нем сидело полно лысых (реально только четверо, но такие пьяные, что казались по меньшей мере втрое многочисленней). Очутившись на заднем сиденье, аккурат между двумя самыми опухшими и хрипатыми из них, Ярчик Волшебник впервые не пожалел, что не покусился в пансионате на одну из видеокамер (чуйка, снова чуйка, хвалил себя мысленно). Все лысые, включая водителя, передавали из рук в руки початую бутылку и, продираясь голосами сквозь шумовую завесу магнитофона (ветер с моря дул, ветер с моря дул, ветер с моря дул), взялись его расспрашивать, кто такой и куда; авто резко рвануло с места и через минуту превратилось в тряский лунапарковый аттракцион, для дополнительного эффекта вброшенный в снеговой хаос и всякий миг готовый врезаться или перевернуться куда-нибудь к хренам собачьим. Особенно если водитель только с третьей попытки выговаривает слово парабеллум. Послушав ответ-легенду Ярчика про заблудившегося на самом дне снегового безумия идиота-грибника (гогот и улюлюканье могли запростяк развалить эту кнайпу на колесах изнутри), задние все же дали ему глотнуть из бутылки и, выдыхая в него слева и справа все, что накопилось в их нутрах за двое-трое суток беспробудного пьянства с курением, пообещали довезти хоть до пекла. «А ты сам чертопольский?» – прозвучал при том вопрос, от которого Волшебник по-хитрому отвертелся: «Я там кой-кого знаю». И так они мчались дальше, а из магнитофона лезла их бандюковская попса (и Шуфик, и не валяй дурака, и как упаительны, и любэ), и так продолжалось до бесконечности долго: взрывоопасный лимузин в четырех непробиваемых стенах снежной белизны, отчаянные торможения на поворотах, перегар, сидение на полузаднице между двумя расползшимися отморозками, неудобно формулируемые вопросы, заносы, буксования, истерика мотора, наигранно глуповатые ответы, анекдоты, хохот – пока в конце концов не успокоилось все, а главное, буря. И тогда Волшебник начал испуганно думать о приближении момента расплаты, и как при этом ему придется вытаскивать всю ту толстую гонорарную пачку из кармана номер один, ведь сквозь свои сощуренные глазные щели они обязательно засекут тот набитый баксами толстый конверт; а впрочем, нет способа отвести прочь от себя всякую беду лучшего, чем своевременно о ней подумать и – главное – во всех мельчайших деталях себе вообразить; выходит, ему и тут повезло: ценой двух бородатых анекдотов про чукчу и молдавана, большей банки с пивом и – наконец – чертопольских номеров Лили и Марлены (режиссер, классные телки во как нужны – бабла подвалило немеряно, а трахаться не с кем!) он был счастливо отпущен на свободу бля, свабоду бля, свабоду – и в десять вечера уже стоял перед главным входом чертопольского жеде-центрального.
Еще через два часа, прилипая так и не просохшей спиной к немилосердно жесткой полке, один-одинешенек в купейном вагоне очень неспешного и единственного поезда, он сказал себе: «Поехали». А сойдя утром на сероватый перрон, продолжил мысль и тут-таки ее завершил: «Львов».
Они еще успели вытянуть тело из Речки (ледяная вода переливалась за голенища резиновых сапог) и положить его лицом вверх на берегу, у самого леса. С другого – запрещенного – берега его можно было увидеть совершенно отчетливо, и если б кто-то там проходил, он обязательно заметил бы на противоположной стороне эту большую дунайскую рыбу на траве под боярышником. Но это завтра, потому что сейчас уже начинает темнеть.
Однажды это должно было случиться. Об этом рассказывали испокон веков: однажды воды Речки принесут большую дунайскую рыбу. Никто из них не понимал, как это на самом деле может случиться. Ведь воды Речки не могут потечь назад и воды Дуная тоже. Таким образом, суть пророчества оставалась неясной, с годами они даже понемногу переставали в него верить, все более сомневаясь в правдивости предания.
Но вот это случилось – дунайская рыба оказалась человеком, иноземцем, еще недавно прогуливавшимся тут по берегу, вязко ступая по траве в своих дорогих и массивных башмаках. И единственное, что они могли для него сделать – это вытянуть из воды на берег его мертвое рыбье тело с наполненными водою легкими, тремя переломами костей и смертельной травмой головы. Пусть другие теперь найдут его и пусть им занимаются – завтра. Может быть, тот мохнатый фраер, убегавший вдоль берега и растворившийся в перспективе шоссейки за мостом? Может быть, уже через несколько часов он приведет сюда целую толпу ментов и начнется то, о чем говорилось в пророчестве?
Ибо в нем говорилось, что, как только воды Речки принесут большую дунайскую рыбу, отсюда нужно уходить. Это знак, что все изменилось и время переваливает в новое измерение.
Им удалась последняя в этой стране снежная буря и, подобрав там и сям самые необходимые пожитки, они пустились через лес, в который никогда до того не входили. Тем не менее шли они совершенно уверенно: чтобы знать лес, не обязательно в нем бывать. Они продвигались вверх растянутой среди деревьев молчаливой цепочкой из семи-восьми человек – не считая малолетних, а также короля. Метель накрыла их своим белым колпаком, атмосферные разряды высвечивали фрагменты пути, все на свете пограничные посты были засыпаны с головой, солдаты и их собаки попрятались в случайных укрытиях, впереди был хребет, ветер и двухчасовое восхождение к трансильванской стороне, где притаилось в ожидании иное будущее.
10
О чем, войдя в лес, могли говорить два человека, прожившие вместе двенадцать лет? Известное дело, они молчали.
Лес накрыл их с головами своим предвечерним сумраком. Перейдя его границу, они сделались неспешнее и внимательнее. Так, во всяком случае, каждый из них подумал: неспешнее, внимательнее. Сломанные ветки, боковой лаз в зарослях, прорезанная вдоль ствола стрела, а также развернутый поперек дороги брошенный прицеп – что угодно могло оказаться намеком для бдительных и указывать на возможную лежку исчезнувшего Карла-Йозефа. Но ничто не намекало и не указывало!
Потому-то что Рома, что Артур прочесывали свой весенний предвечерний лес молча, иногда только одна останавливалась и сдавленно изрекала «слышишь?», на что второй тоже останавливался и говорил в ответ «что?» Но первая тогда снова ступала со словами «ничего, показалось». В целом это могло походить на какую-то совершенно дурацкую игру для недоразвитых подростков, правда, со своим, глубоко скрытым мистическим смыслом: слышишь? – нет, а что? – ничего, показалось… И так много-много раз.
Однако лес, а точнее переполненная символами и намеками девственная чаща, был лишь поводом для их куда более долгого молчанья. Поскольку на самом деле за этим стояли усталость, разочарование и время. Человеческая жизнь вообще позорно печальная штука. Кто-то сказал бы, что она слишком длинна, что в действительности это несколько разных жизней в единой цепочке, но при этом каждая последующая из них выглядит все бездарнее и никчемнее. Ну к чему им, Роме и Артуру, понадобилось быть вместе целых двенадцать лет? Ну почему бы им обоим не умереть еще где-то примерно на середине этого пути, когда они по семь раз на день перезванивались друг с другом, лишь только бы услыхать голос (или, куда правду денешь, по семь раз на день любились, вот так они друг друга вечно хотели)?
А теперь каждый из них только то и делал, что составлял мысленно свой собственный перечень претензий к партнеру. Интересно получается: их встречные претензии, хоть никогда и не были высказаны вслух, складывались в определенную симметричную структуру. И только нам с вами дано оценить всю ее симметричность.
Например, значительная часть претензий Ромы к Артуру сводилась к его стремительно прогрессирующим физическим недостаткам, о которых раньше она даже не догадывалась и которые, однако, не могли не выползти за столько лет совместного существования на общей жилплощади. Так, наступил какой-то из годов, когда он начал храпеть, потом у него из зубов повыпали пломбы, его ноздри и уши заросли волосами, а лентяй пенис превратился в совершенно самостоятельное и весьма капризное существо, часто действовавшее вопреки его воле (или с равным успехом никак не действовавшее). Этот перечень можно было бы расширить и до таких проявлений его окончательного окозления, как привычка бесконечно долго высиживать на очке (а это шуршание газетой, Господи ж ты мой милый!) или, скажем, заваливаться в постель с немытыми зубами после многочасовой пьянки, курения и грязных пересудов. Более всего на свете Роме Вороныч было жаль того мальчика (а двадцатипятилетний Артур, однажды попавшийся ей на выставке цветных литографий, был для нее именно мальчиком, пажем, корабельным юнгой и юннатом одновременно) – так вот, он, тот мальчик, постепенно и бесследно исчез, оставив вместо себя мужика, невнимательного, а порой брутального. И это было ужасно.
С точки зрения Артура все выглядело более-менее адекватно, поэтому ему оставалось утешать себя циничной дефиницией старого Иммануила Канта о том, что брак является юридическим и легализованным обществом договором между особями противоположного пола с целью совместного использования половых органов. И это было точно так же ужасно, поскольку ничего, кроме кантовского инертного использования, уже не удавалось – ни следа от когда-то переживаемых радостей, так что другая цитата, на этот раз из другого гения минувших эпох, воспринималась как никогда уместной: you сап’t give те satisfaction…[98]
Рому все ощутимей раздражала так называемая богемность Артура, его отчаянные порывы проваливаться в дыры забытья, изображая при этом предводителя плейбоев. Вдогонку за богемностью след в след ступала лживость – Рома была совершенно уверена, что, гуляя с утра до ночи по всем, какие только возможны в их городе кнайпам и забегаловкам, этот мужчина не может не изменять ей со случайными юбками и задницами. Последние в ее воображении были обтянуты джинсами и принадлежали всяким глуповато-неразборчивым малолеткам, которые только и мечтают о соблазнении постаревших, с торчащими из ноздрей волосами горе-ловеласов.
Мужчины около сорока – это как открытая рана: только коснись. Артур Пепа как раз забрел в эти окрестности.
Притом он все более ненавидел ее домашность, патологическую склонность к недвижимо-загипнотизированному лежанию перед телевизором или любым иным источникам безволия. Из года в год катастрофически уменьшалось число компаний, в которых им обоим было бы одинаково хорошо. В последнее время таких компаний не осталось вовсе, поэтому Артур совсем не случайно вынужден был врать, мастерски запутывая трассы своих выдуманных передвижений по городу и предместьям и подменяя лица немилых Роме бродячих комедиантов лицами, ей хотя бы небезразличными.
Безразличие – так называлась крупнейшая из ее претензий. Десять лет назад он любил меня, как пес, иногда думала Рома. Ему достаточно было только подглядеть, как я надеваю (снимаю?) чулки, не очень-то прикрываясь от него нашей старой ширмой или дверцами шкафа, чтоб этого с успехом хватило на добрых полночи. Да что там чулки? Одной только улыбки, поворота головы, интонации голоса оказывалось достаточно. Теперь же он мог не касаться ее месяцами, отстраненно и пренебрежительно погруженный в свое лицедейское существование.
Такую же претензию – безразличие – Артур мысленно адресовал ей. Об этом уже говорилось – он склонен был приписывать это обвальное угасание страсти годам и их инерции. Сгоряча он даже начал ужасно преувеличивать ее нарастающую закрытость и отчужденность. Знаете, мысленно обращался он к воображаемым собеседникам на воображаемом же общественном суде, если у женщины полмесяца менструация, а еще полмесяца насморк, то ее мужу крайне тяжело сохранить любовную страсть. Особенно после двенадцати лет семейной жизни. И церковного брака, да.
Иногда он пускался в сладостно-мазохистские фантазии и представлял себе настоящие причины такого отчуждения, рисуя при этом бурные сцены ее свиданий с другими. Сначала это был ее в Бозе почивший бывший муж – он возникал в своей квартире в бесчисленные часы отсутствия Артура и по-хозяйски брал ее прямо на кухонном столе, доводя до исступленных взвизгов все более неистовыми толчками безжалостно холодного и твердого поршня. Но эти видения были вскоре решительно отброшены – настолько они не вязались с настоящим образом кроткого подвижника-писанкаря с его запущенными телесными недугами и могучими духовными идеалами. Куда более реальным казался какой-нибудь хамовато-всесильный декан факультета, две трети жизни положивший на достижение своей невыразимо влиятельной общественной позиции и перед выходом на пенсию пользовавшийся ею, как умеет, принуждая всех без исключения женского полу подчиненных, подлежащих его контролю (студенток-должниц, аспиранток, ассистенток и преподавательниц) к настоящему под лежанию. Следовательно, он время от времени ложился и на нее, например, на кожаной оттоманке в своем кабинете и тяжко дышал ей в ухо, а бедняжка Рома должна была притом еще и вертеться и притворяться, будто умирает от удовольствия. Вскоре Артур отказался и от этой версии – деканом факультета, как оказалось, был не какой-то гнусный хряк в апоплексической стадии злоупотребления должностью, а вполне приятная утонченная дама, знаток языков и литератур Востока.
Но унизительные фантазии все равно навещали его. Чего только стоили все эти сверх всякой меры эрудированные ребята-неофрейдисты, которых она обслуживала как переводчица на разных местечково-международных конференциях! О, они могли бы ей показать все свое коллективное подсознательное! А шайки несытых студентов по общежитиям и окрестным паркам, с бритыми головами и татуировками FUCK ME на лбах и лобках! Да что там говорить – все на свете самцы, включая батальон солдат по пути из бани на полигон – могли в действительности оказаться Ромиными любовниками, то есть на деле она была похотлива, как кошка, и только одного желала, ежеминутно цепляя встречных джентльменов если не словом, то взглядом и провоцируя их на экстатические безумства в лифтах, телефонных будках и вагонных тамбурах.
Опомнись, говорил Артур Пепа в такие минуты своему издерганному, испорченному кинематографом воображению. Но в такие-то минуты он и чувствовал, как его неудержимо тянет к ней и как много остается в нем неисчерпанного. Значит, я все еще люблю, думал он.
А сейчас в этом лесу, где они оказались вместе в поисках третьего, он думал еще и о том, как вчера она бинтовала ему голову. Ласка, которой он уж никак не заслужил. Артур ненавидел некоторые слова, придуманные разве что составителями словарей для увеличения объемов: стремглав, почитай, небось. В его любимчиках ходило и выраженьице ей-же-ей. Только теперь оно отчего-то весьма гармонировало с его мыслями о ласке, которой он, ей-же-ей, не заслужил, да еще о том, как ловко и споро ее руки сделали все, что следовало сделать. Черт побери, говорил себе Артур Пепа, черт побери меня вместе с нею в этом лесу!
В туже минуту Рома думала приблизительно о том же (интересно, что они, почитай, всегда думали об одном и том же): это его вчерашнее дуракаваляние день-деньской, шахматы, в которых он ни в зуб ногой, бой на мечах и наконец – эта стойка на руках. Неужели он все еще способен на подобные идиотизмы ради меня, допытывалась Рома у своей внутренней легковерной собеседницы. Но если нет, то ради кого и чего? Ну, хорошо, там были еще те две лахудры из райцентра, укрощала она свои не в меру поспешные выводы. К тому же разные средства помрачения – алкоголь, сигареты, гашиш. Такие, как он, просто дуреют от передозировки, теряя голову. Но именно подобное умопомрачение и бросило его в объятия ее молодого вдовьего одиночества двенадцать лет назад. И потому-то оно ей больше всего в нем нравилось, его умопомрачение.
Чуть погодя ее мысли несколько виновато поплелись к пропавшему Карлу-Йозефу. В последние недели он сделался невозможным, при всяком удобном случае он донимал ее своими намеками на тему разрыва с мужем и дочерью, то есть с этими двумя, и с переездом куда-то в Вену, Амстердам, Лиссабон, к черту лысому (куда захочешь, говорил он, куда захочешь, этот мир так огромен, к тому же мы всегда сможем бывать во Львове, ходить в Карпаты, ночевать под звездами на полонинах!). И сколько она ни просила его выбросить дурь из головы, забыть об этих глупых звездах на полонинах и об этой преходящей истории ошибок, остаться при этом друзьями, которые вместе трудятся на ниве львовско-венского объединения, он только раздражался да иногда бил кулаком в стену. «Хорошо, я согласен, чтобы твоя дочь была взята нами с собой», – сказал он как-то, очевидно, после долгих болезненных раздумий, при этом использовав привычную для его языка пассивную форму глагола. Но Рома отреагировала на это совсем не в манере опытной германистки: «Моя дочь – не вещь и взятой никогда не будет». Иногда я говорю с ним слишком резко, это надо прекращать, подумала она, чтоб отпроситься у Карла-Йозефа. Ну да, ведь теперь она внезапно осознала еще и новую тревогу – ее девочка осталась совершенно одна в том странном большом доме, где-то на горе, в средоточии всех ветров. Точнее, даже не одна, а один на один с тем незнакомым парнем, и что из того получится? (Десятый обруч – это плен, из которого невозможно вернуться, ничего не утратив, определила для себя Коля приблизительно в ту же минуту.)








