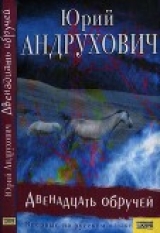
Текст книги "Двенадцать обручей"
Автор книги: Юрий Андрухович
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 16 страниц)
Другое обстоятельство, тяжко поразившее Карла-Йозефа в процессе обследования дома, было связано с дверями, но не столько с их необозримым количеством, что должно было бы свидетельствовать о соответствующем им количестве помещений и переходов, сколько с надписями на них. Более того, на весь дом не было двух дверных табличек, исполненных одинаково – так, словно их просто посрывали отовсюду, где только удалось, а потом свезли в это удивительное место, отчего ощущение придурковатой хаотичности лишь усиливалось, загоняя довольно неуверенного в себе Карла-Йозефа в глухой угол бесплодных блужданий и догадок.
Определенная часть табличек (ПРОЦЕДУРНАЯ, ДЕЖУРНЫЙ ПРОКТОЛОГ, ПРОЗЕКТОРСКАЯ) будто бы указывала на теперешнее санаторно-оздоровительное предназначение заведения, другие выглядели в целом универсальными и ничего не сообщали (ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ, КАФЕ-СТОЛОВАЯ, ПТИЦЕРЕЗКА, АККУМУЛЯТОРНАЯ, ОТДЕЛ ЖАЛОБ И ДОНЕСЕНИЙ), некоторые прочие имели совершенно обычный в этой стране рекомендационно-приказной характер (КОМНАТА ДЛЯ ДЕПУТАТОВ, КУРЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО, ЗАКРЫТАЯ ПАЛАТА, ХОДА НЕТ). Но если со всем этим еще можно было как-то разобраться, то уж совершенно непонятными представлялись надписи КАБИНЕТ ПЕЧАЛЕЙ, ПОСЛЕДНЕЕ ПРИЧАСТИЕ или К ТУННЕЛЮ. Попадалось кое-что и вовсе легкомысленное: ВЕСЕННЯЯ БИЛЬЯРДНАЯ, МОЛЧАЛЬНЯ ЯГНЯТ, КОМНАТА СМЕХА № 6.
Карл-Йозеф уже склонялся к мысли, что все эти недоразумения происходят от его недостаточного владения местным языком – версия, которую в целом можно было бы и принять на веру, если б его тут-таки не затравили таблички на языках, ему известных более: FUCKING ROOM, RED ARMY OF THE UNIVERSE, DO NOT MASTURB’ PLEASE, потом шли EXQUISITE CORPSE, ETERNAL DAMNATION, HELLFIRE, KISS OF DEATH, TORTURES NEVER STOP (невольно вспомнились какие-то кроваво-черные обложки из того времени, когда он ходил в гимназию и фанател от металла, со дна памяти почти автоматически вынырнула какая-то первая, вся в черных кожах и цепях лахудра с кровавыми губами на мертвенно-белом фэйсе), далее было ничуть не хуже – DANCE MACABRE, SUICIDE REHABILITATION, просто THE DOORS, почему-то во множественном числе, а потом еще ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА КАДРОВ, ОТДЕЛ ВИЗ И РЕГИСТРАЦИЙ, PIEPRZENIE NA ZIMNO, ACHTUNG – SCHEISSE, VAMPIRENTREFFPUNKT, совсем уж неуместное REGIONALBAHN NACH BADEN (со стрелкой, указывающей почему-то в подвал) и бесконечно алогичное DAMEN-PISSOIR…
От всего этого ему захотелось поскорее куда-нибудь на воздух; каким-то удивительным образом он попал на веранду, там увидал сложенные с ночи и до сих пор не распакованные сумки, саквояжи и рюкзаки, минут тринадцать провозившись с замком на входной двери, он выскочил на склон под крыльцом, еще не оттаявший склон, где наконец-то успокоил себя мыслью, что поскольку вышел из своего номера без очков, то большинство увиденного ему просто померещилось.
И вот теперь он, решительно рубя воздух руками, сходит вниз, притормаживает где скользко, озирается и ищет среди первых можжевеловых зарослей какую-нибудь тропку в долину, где нет этого ветра, холода, птичьих криков, где уже несколько недель как весна. Карл-Йозеф идет по этой дороге впервые, но не в последний раз.
И нам необходимо идти следом, если мы действительно хотим разглядеть эту местность. Итак, позади – хребет и трансильванская граница, а впереди, то есть внизу – весна, которой с каждой сотней метров становится все больше, и вот она уже дышит из блестящих камней старой военной дороги, а потом напоминает о себе запахом нагретого можжевельника. Камни, можжевельник, а также горная сосна, а дальше новая, уже этого года трава. Спустя неделю-другую, согласно всем святоюрским прописям[38], сюда должны были б явиться пастыри с отарами. Но они не придут, ибо на полонину Дзындзул они не приходят никогда. И по этой причине трава на ней, вероятно, самая сладкая.
Справа на склоне, метрах в двухстах мы оставим кривоногую конструкцию недостроенного трамплина, который Карл-Йозеф Цумбруннен отметит в памяти как объект для его будущего мазохистического альбома: поржавевшие, через одну выломанные ступеньки на эстакаду и желоб для спуска с полностью уничтоженным покрытием.
Ниже начнется дикий лес, то есть не посаженный человеческой рукой, а самим Антидухом посеянный. То есть никакой Карл-Йозеф Цумбруннен-старший, заслуженный императорский лесовод, к этому отношения не имел, однако сумел подсмотреть за Антидухом (природой?), как следует сажать деревья в этой стране.
На уровне леса, куда, словно в здание гигантского вокзала, входит через некоторое время Карл-Йозеф Цумбруннен-младший, так вот, на уровне леса дорога делается более покатой, иногда почти ровной, зато наполненной всяческими препятствиями: насиженные мухами огромные вымоины, поваленные деревья, окаменевшие глиняные гребни гусеничных следов (что-то тут еще делалось прошлым летом, не так ли?), далее и сам застрявший без надежды на возвращение трактор – вот если бы за лето он зарос травой, лианами, цветами, получилось бы неплохое фото для кичевой открытки! – потом откуда-то появляется колючая проволока, останки столбов, позеленевшие шлагбаумы, фанерные щиты с предупреждающей запретительной символикой, но здесь только мы, а никакой не шпион-фотограф имеем право догадываться о близком присутствии покинутых ракетных шахт, об их пропахших грибами, мочой и совершенной секретностью колодцах, о выпотрошенных пультах и разбитых на самом дне бутылках из-под пива.
Но не только это: тут, совсем рядом, есть еще одна подземная сеть, в свое время не менее секретная: бункеры. Последний из них был забросан гранатами где-то в начале пятидесятых, и никто не вышел наружу. Право, версия с гранатами куда благороднее иной, с нервно-паралитическим газом.
А потом на нашем с Цумбрунненом пути возникнет еще один рудимент – железнодорожная колея, точнее ее абсурдный отрезок, ниоткуда в никуда без начала и конца обрубок, как раз удобный для гадюк, впервые выползающих на шпалы днем 7 апреля и живущих меж ними до глубокой осени. Карл-Йозеф ничего не знает об этом змеином обычае, потому сейчас, ступив на те самые шпалы и ничего не видя под ногами, он рискует. Хотя на этот раз ему как иностранному гостю простится, поэтому он без повреждений пройдет над невидимыми гадами, случайно ставя ступни как раз куда следует и не прислушиваясь особенно к недовольному шипению снизу.
Этот железнодорожный рудимент, как и все прочее в лесу, теперь принадлежит Варцабычу, но никто не скажет, зачем он ему. Может, просто так?
Колея закончится, врезавшись в каменистую насыпь, и Цумбруннену придется какое-то время продираться сквозь заросли орешника, снова отыскивая легкомысленно им оставленную лесную дорогу. Если б он ее нашел, то вышел бы по ней прямо на речную излучину, уже совершенно пригодную для выпаса, то есть молодую и зеленую, но еще с глубокими следами недавнего паводка, всю в болотных западнях и с глиной, чавкающей под его добротными грубыми башмаками.
Именно по ним, по этим саламандровским башмакам, а еще по особенной неуклюжей нездешности они и узнают его – трое или четверо подростков в продранных на локтях старых свитерах, фланелевых просторных штанах, заправленных в резиновые чеботы до колен; измазанные и крикливые, они выбегут ему наперерез из своей курной халабуды чуть поодаль над Речкой, они начнут со всех сторон к нему цепляться, далекие дети покаранных брахманов с индийскими сережками в ушах и носах, они станут умолять на всех языках этого края (gimme, gimme some money, sir, gimme some candy, some cigarette, gimme your palm, your soul, your body![39]) – ну, о’кей, о’кей – не на английском, тут я загнул, но на всех остальных языках, точнее многими словами многих языков, включая санскрит. Они будут сопровождать его до самого моста, поскольку он двинется именно к мосту (это там, где заканчивается лесная дорога), и он подумает, что по возрасту они могли бы быть его детьми, но все равно не даст им ни эскудо, только пять гривень напоследок.
Когда же он ступит на мост, они без единого лишнего шага отстанут – ведь туда, за мост, им уже нельзя, там запрещенный мир – шоссейная, вся в выбоинах дорога, по другую сторону которой пропасть, летом буйно зарастающая лопухами, а на дне пропасти – десятки старых разбитых автомобилей – это такая автомобильная яма, последний мир, десятки кузовов, кабин, ржавых «роллс-ройсов», «мерседесов» и «фольксвагенов», не говоря уж о «ладах» и «шкодах», и все это тоже его, Варцабыча, хотя никто не знает, зачем его люди свозят сюда весь этот хлам. Так вот, пропасть, а там, примерно напротив моста, от шоссейки ответвляется еще одна дорога, точнее шлях, или даже Шлях, то есть какая-то стежка лесорубов, она петляет вдоль Потока вверх по его течению, забираясь выше и выше, но по ней идти не надо, не надо, не надо, потому что там – конец концов, 13-й километр, тупик с последней на свете кнайпой[40] для все тех же лесорубов или сомнамбул.
Итак, подростки отстают и остаются на своей зеленой пойменной полосе. Им нельзя на другой берег Речки, но и в лес им тоже нельзя. Вот так они тут и существуют, меж двух запрещенных территорий, на узеньком мысу между страхом вчерашнего и страхом грядущего.
4
Только на тридцать седьмом году жизни Артур Пена почувствовал, что у него бывает сердце. Все начиналось с ночных пробуждений, когда он внезапно оказывался один на один с вязкой черной пустотой, наполовину погруженный в растрепанные остатки сновидений. Другая половина вполне осознавала свою подвешенность в здесь-и-сейчас, но от этого не становилось легче. Самому себе он решил это объяснять алкоголем. И в самом деле, проклятая тахикардия сразу давала о себе знать после особенно долгоиграющих карнавалов и джемов с хождением на головах и перетасовыванием бездн. Достаточно было решительно стартовать пополудни (два по сто, томатный сок, что-нибудь), по-настоящему расправить крылья к вечеру (oh show те the way to the next whisky bar[41]) и в довершение бесповоротно застрять в первой попавшейся точке до рассвета, с разгону добивая остатки во всех бутылках и потроша все сигаретные пачки (кто бежит в нон-стопы, я?) – да, достаточно было в очередной раз пройти по всем этим нон-стоп этапам, как на следующий день с железной неотвратимостью возвращалось оно. Кто-то видел, как однажды он потерял сознание в кофейне, как сигарета упала в чашку с кофе, как со скрежетом – металлической ножкой по скользкому полу – отъехал в сторону стул. Сам он этого не видел, проваливаясь на несколько минут в изолированное одиночество, на дно сплошной тускнеющей ряби и монотонного звона (неужели и там будет также, думал он после, неужели всего-навсего тускнеющая рябь и монотонный звон?). Разумеется, тогда это стало настолько же очевидным, как и тот пот, что залил его, как только попустило.
Честно говоря, случай в кофейне не был единственным. Настолько, что Артур Пепа начал привыкать и даже полюбил эти состояния – с той же самоотдачей, с какой бросался навстречу дурманящему смещению эмоций при переходах из трезвости в опьянение. Что-то было в этом внезапном обрыве ошалевшего сердца, в его трепетном подкатывании куда-то к горлу, в той железной ладони, которая не без ловкости птицелова любила стиснуть его и не отпускать. «Хорошо, что случилось именно так, – иногда убеждал он себя. – Теперь я по крайней мере знаю, что мне светит. Внезапная остановка сердца – не такой уж плохой вариант, могло быть что-то совсем медленное и сокрушительное». При этом он перебирал в памяти кое-какие иные варианты, разрастание в теле каких-нибудь амебно-бесформенных опухолей, метаморфозы с иммунодефицитом, жуткое и позорное отмирание мышц или неумолимое впадение в вегетативную пропасть Альцгеймера – нет, его жребий предполагал абсолютно отличную перспективу. Хотя иногда, угадывая среди ночи, где-то между вторым и четвертым часом, неотвратимое возвращение аритмии, он все же пугался. Он боялся, что его сердце однажды не выдержит и разорвется – и не потому, что оно должно не выдержать и разорваться, а от страха, что оно может не выдержать и разорваться. Иными словами, он боялся бояться.
Мысли о смерти – неопровержимый признак жизненного кризиса, это понятно. Прежде всего, кризис Артура можно было пояснить тем опасным возрастным периодом, к которому он приближался. Но этот период не приходит сам по себе, он вообще ничего сам по себе не означает.
С другой стороны, было несколько оглушительных издательских провалов, случающихся всегда и со всеми любимцами публики в тот момент, когда их вольное и радостное плавание перестает быть исключительно их внутренним делом. Осознание того, что от тебя постоянно чего-то ждут, это любовно-нетерпеливое и беспрерывное давление снаружи, заставляет спешить и тратить себя. В случае с Артуром Пепой хуже всего было даже не то, что в последние несколько лет он сподобился рекордного количества негативных рецензий на каждый свой опубликованный жест (а творчество было для него в частности и в целом жестикуляцией). Все это ничто, внешнее, временная накипь, все это всего лишь проявления странной любви наивняков, завистников и мелких интриганов, ставил их на место (как ему казалось) Артур. Но было и другое: утрата удовольствия от письма. Проще всего пояснить это тем, что, как и все нарциссы, он болезненно желал восхищения и признания. Без них Артур Пепа терял легкость. Он переставал нравиться самому себе, и это отражалось в написанном. Иными словами, только на тридцать седьмом году жизни Артур Пепа почувствовал, что он не любит писать, что на самом деле он просто ненавидит это занятие, что письменный стол неизбежно превращается для него в место ужасных психических пыток и жгучего стыда за все, что в результате оставалось на бумаге. Иногда он запинался уже на второй фразе, иногда даже на первой, не в состоянии двинуться дальше, чтобы как-то от этого избавиться, изгнать из себя этого демона косноязычия. Иногда в результате его неистово изнурительной трехчасовой войны с одной-единственной фразой оставалось что-нибудь вроде: «Весна является причиной временной порчи кожи у женщин». Хотя иной раз ему пока что случалось бывать довольным собой, написав: «Его дурацкий мозг расплескался во все стороны, словно птичье дерьмо». Возможно, оставлял он себе намек на надежду, мне стало труднее писать, потому что пишу лучше? Возможно, сочиненье настоящей литературы и есть погруженье в мученье – кривился от неуместной сволочи рифмы. Если б я мог не писать, я работал бы на земле, менее цитировал, чем передразнивал он кого-то другого, отчего вся компания закатывалась хохотом. Они понимали цитаты. Они и его, Артура Пепу, понимали.
Бесспорно, он преувеличивал общественное внимание к своей персоне, да и просто интерес к ней. На самом деле мало кого волновало, что там себе пописывает этот сукин сын, поэтому весь болезненно нацеленный на себя извне энергетический пресс Артур Пепа скорее воображал, чем чувствовал. Да какая там, к черту, литература с ее раздутой цеховой мелочностью! Какое там, в пизду, служенье слову! Речь шла о куда более реальный и существенных вещах.
На тридцать седьмом году жизни Артур Пепа вдруг заметил, как вокруг него начинает кружить, вальсируя, смерть. Это проявилось в ближнем, доступном прикосновению протянутой рукой, кругу: умирали и гибли какие-то родственники, знакомые, знакомые знакомых, поэтому необходимость посещать похороны, выносить гроб, класть венки, креститься на поминках чуть ли не дважды в месяц не могла не парализовать каких-то определяющих центров его – ну простим же ему! – капризно-болезненного «я». С ее, смерти, стороны это было тем более мерзостно, что напоминало элементарную расправу за допущенное Артуром Пепой в ранней молодости вольнодумство. Когда-то, во дни какой-то там ошеломительной весны, когда она еще не смела портить женской кожи, у Артура почти бессознательно написалось безответственное и патетическое «Ни слова про смерть. Это всего лишь форма // с вечным смыслом: жизнь и шмели и роса». И смерть ему этого не забыла, отметив для себя, словно зарубкой на дереве: за базар ответишь.
Таким образом, она подсунула ему личный тридцать седьмой год, увенчанный убийством близкого товарища, открытого любым смертельно опасным (буквально) авантюрам газетчика-пролазы, выброшенного на полной скорости из пассажирского поезда где-то между Здолбуновым и Киевом (пьянка в купе, курение в тамбуре, случайные попутчики-сообщники, полет меж искрами, смертельная опасность). Артур Пепа почти ничего не знал о проводившихся погибшим многообразных репортерских расследованиях, но время от времени мог догадываться об их рискованной напряженности. Поэтому, когда через пару месяцев после того, что случилось, представитель органов правопорядка успокоил присутствующую на пресс-конференции общественность по поводу того, что данное убийство не имеет ничего общего с профессиональной деятельностью потерпевшего, извините, убитого, Артур Пепа тоже подписался под каким-то крикливым письмом протеста, две трети слов из которого гневно пучились заглавными буквами. Впрочем, что там все эти письма да подписанные спьяну конвенции – больше весила переполненность его внутренней чаши. С того момента, как его рисковый приятель полетел навсегда в свою завагонную, размазанную рельсами и столбами ночь, Артур Пепа понял: что-то ушло бесповоротно, золотых времен больше не будет, впереди сгущение тьмы и холода.
Но даже эти обстоятельства никоим образом нельзя считать определяющими в его кризисе. То были скорее следствия: вялость письма чаще всего говорит о чувственном опустошении, а смерть обязательно вламывается туда, где не хватает любви. Поэтому никто, кроме самого Артура Пепы, не мог знать, что все, что с ним происходит, происходит как раз от утраты любви. Или – если последнее словосочетание кажется слишком громким – от все яснее ощутимого равнодушия к когда-то любимой женщине. Или – и этого Пепа боялся больше всего – от утраты способности к любви вообще. Да, поначалу это было постепенное угасание его сексуальности, хотя иногда невзначай замеченное мельканье всяческих уличных бедер и ягодиц еще могло расшевелить в нем прежнего сперматозавра. Того самого, который совсем еще недавно, во времена куда лучшие, в свободном плаванье за день-деньской набравшись вволю электризующих взглядов, взмахов, ожогов, надышавшись весной, вином, духами и секретами секреций, мог в ту же ночь так щедро все это отдать, что Рома Вороныч, его жена и лучшая из любовниц, почти теряла сознание.
Она была старше на неполных пять лет, но это не могло иметь никакого значения тогда, в миг их первого сближения.
Все началось с выставки литографии в историческом музее. Они наслаждались привилегией жить в городе, где подобные акции просто необходимы, чтобы время от времени несколько порастрясти гнетущее окружающее оцепенение. Артур Пепа не очень-то разбирался в особенностях литографии, в частности цветной (а была выставка именно цветных литографий), но и не прийти он не мог – хотя бы просто памятуя о неизбежной при таких оказиях последующей пьянке с участием целой армии странствующих комедиантов. («Знаешь, во мне все замирает, стоит лишь подумать, что в тот вечер я мог не дойти», – скажет он ей уже через несколько лет, в постели, счастливый от изнеможения, положив едва успокоенную ладонь на ее скользкий от любовных ласк живот. Она поймет, что он о той выставке, поскольку ответит: «А я собиралась заглянуть только на пять минут, там были несколько моих знакомых».)
Хотя, возможно, то была и не выставка литографии в историческом музее. Может, выставка механических часов в музее патанатомии? Или какой-то перформанс с Пластиковой Рыбой и ртутными термометрами? Сейчас это для нас не имеет значения. Сейчас это уже почти не имеет значения и для них.
Но тогда, обгоняя на узкой деревянной лестнице какую-то молодую женщину в плаще и пытаясь не наступать на пятки маленькой девочке, которую та вела за руку, Артур Пепа вынужден был притормозить, чтоб подхватить упомянутую женщину под локоть. История сломанного на лестнице каблука должна была иметь продолжение: ощущая себя в некотором роде пародийным пажем игнорируемой чернью королевы и неосторожно дыша в лицо спасенной даме странной смесью употребленного незадолго перед тем пива, кофе и коньяка, Артур Пепа принялся за поиски главного героя выставки («Только не уходите, я сейчас, я сейчас…» – это ей, а сам по лестнице сломя голову в выставочную толпу, из которой наконец-то извлек своего дражайшего приятеля Фурмана с его золотыми запонками и руками); в тот вечер Фурман как хозяин акции был облачен в одолженный в опере фрак, что не помешало ему, будучи героем и также выпивши, вооружиться музейным молотком и гвоздями и восстановить сломанный каблук на – пусть уж! – золотой туфельке незнакомой пани Незграбы. «Держите», – торжественно заявил Фурман, по-сапожницки и несколько покровительственно выплевывая из уст лишний гвоздик, за что был поцелован в щеку, а Пепа, чтоб не утратить инициативы, куртуазно попросил позволенья надеть туфельку на ножку (исторический музей! клавесины! галантный праздник! рококо! охохохо!), разумеется, имелась в виду ее ножка, однако он и не позволил себе сказать «разрешите, я обую вас» – хотя язык у него чесался. «А это Коля», – зачем-то сообщила она, указывая на девочку и нервно посмеиваясь. «Коломея Вороныч», – торжественно поправила малышка, нажимая на «р» посередине своей фамилии так, чтобы получился по меньшей мере звук «ррр». Обе были в одинакового покроя плащах, разнящихся, разумеется, только размерами, и прически у них были ужасно похожи. Поэтому нетрезвый Артур Пепа подумал, что перед ним фея со своей ученицей. «И все же я выпил бы оттуда шампанского», – кивнул он на туфлю. «Ладно, меня там ждут», – уверил умница Фурман и вовремя растаял, золотой.
И когда через каких-то десять минут они уже шли через Рынок[42] в поисках своего шаманского шампанского (эпоха не слишком благоприятствовала подобным идеям, как раз стоял агонизирующий коммунизм и шел нестерпимый в апреле дождь со снегом), поэтому, когда очередной порыв неистово-фатального ветра вырвал из ее руки зонтик и она зачем-то бросилась его ловить, цаплей переступая по мостовой на тех-таки каблуках, к тому же без малейшей надежды на успех, поскольку зонт и без того был напрочь сломан, – итак, как раз в тот миг Артуру Пепе показалось, что эта фея уже давно в опале у всех на свете высших сил, что ей в жизни не так уж все и удается, как обычно удается феям, что ей скорее плохо все удается, что он хотел бы для нее что-нибудь сделать, иначе ему самому капец.
Вот что в самых общих чертах он имел в виду, когда через пару лет прошептал в постели свое типичное для влюбленных: «Знаешь, во мне все замирает, стоит лишь подумать, что в тот вечер я мог не дойти». Ибо в тот вечер он все-таки дошел.
Рома Вороныч вела языковой практикум немецкого и была молодой вдовой. Однажды она вышла замуж за некоего этнографа родом с Коломыйщины. Намного старше ее, он как раз выискивал какую-нибудь львовянку, чтобы привести в порядок свою личную жизнь, немалую коллекцию сардаков и вытынанок[43], а также становящуюся все более мучительной холостяцкую язву желудка. «Пан Вороныч, вы себя погубите, – говаривали ему заботливые энтузиастки незамутненных родников красы народной, – вам требуется постоянная женская опека!» Но все они прикусили языки, когда пан Вороныч однажды заявил, что женится. И вправду, то был весьма неравный брак, даже поклонницы его пшенично-опушенных и опущенных усов это признавали. Что вынудило Рому связать свою жизнь (ну да, связать свою жизнь, именно тот случай!) с этим неопрятным стареющим мужчиной, с его кашлем, желтыми зубами и кальсонами, с его медалью отличника народного образования, с его коломыйками[44], записанными химическим карандашом в школьных тетрадках, и с его – что правда, то не грех – досадным запахом от носков – этого вам не скажет никто. Остается верить более чем сомнительной и типично львовской сплетне о том, что подвижник краеведения и этнографии был настоящим мольфаром[45], который, применив весь арсенал своих тайных средств, сумел подчинить волю неопытной и склонной к фантазиям идеалистки.
Как бы там ни было, но через год совместной жизни у них даже родилась дочь, окончательно перекрыв Роме все возможности отступления и сцементировав семейное статус-кво. Последующие времена (какая-то там очередная вечность) минули в отстирывании пеленок и тех-таки кальсон, хотя в какой-то мере и в отстаивании предрассветных очередей за детским питанием. Я уж молчу про всякие диетические штучки и фармацевтические настойки, способные убаюкать капризную язву мужа. Однажды утром Рома Вороныч словно очнулась ото сна и, глядя на себя в зеркало, подумала так: «Мне двадцать восемь лет. У меня плохой цвет кожи. Жизнь кончилась». И оказалось, что этого было достаточно – только подумать, только сформулировать, только попросить. Достаточно, чтобы в тот же вечер его не стало. Кто-то вышестоящий, кто-то просто дунул – пух одуванчиков снегом завихрился над старым Львовом, двое переодетых подвыпившими работягами гебистов взяли его под руки на трамвайной остановке и, несколько перестаравшись, толкнули вниз лицом на рельсы. Трамвай затормозить не успел – видать, не был старик никаким мольфаром.
После него в их двухкомнатной, и без того тесной квартире осталась громадная коллекция, которую Рома, пережив первые месяцы пронзительной пустоты, со временем пыталась распихать по музеям. Она и без тех сардаков не очень-то ловко управлялась с вещами. Однако до наступления новых, более либеральных времен музейное начальство не слишком охотно шло ей навстречу, всегда ссылаясь на нерешенность проблемы с фондами. Лишь под конец восьмидесятых все отмерзло, именем собирателя сокровищ народных Вороныча был даже торжественно назван какой-то научно-практический кабинет писанкарства[46], но остатки накопленных им раритетов в виде всяческих инкрустированных шкатулок, топориков и разобранной кафельной печи еще долго и раздражающе напоминали Артуру Пепе о том, что в этом доме жил когда-то другой хозяин, то бишь даже газда[47], что он тут ходил, кашлял, подвязывал к животу резиновую грелку, испражнялся и – неминуемо – спал в этой самой постели с этой самой женщиной. Эта мысль, правда, привносила в их с Ромой сексуальное взаимонасыщение определенный мотив запретности или даже греховности, отчего их отношения делались порывистей, наслаждения острее, а падения слаще. Выглядело так, словно тот мог в любую минуту вернуться и поймать их на горячем. Выглядело так, будто им отведено не слишком много времени и все нужно успеть.
Однако с годами эта горячая полоса их отношений должна была, несомненно, миновать, уступая место семейному автоматизму и инерции. Угроза мольфара бесповоротно уходила в глубины подсознания. Взамен подрастала его дочь со своей сравнительно ранней половой заинтересованностью. Все это сплеталось в довольно мучительный для Артура Пепы клубок: равновесие и равномерность, регулярно-неспешный, все более формальный здоровый секс, засыпание и просыпание в одной и той же (нудной) постели, привыкание к упорно когда-то игнорируемым ночным сорочкам, пижамам и халатам, утреннее и вечернее позевывание, проваливание в свой собственный, отдельный сон и, конечно, весенняя испорченность кожи. Нет, нельзя сказать, что между ними ничего не было, изредка это случалось, но именно между ними и где-то, честно говоря, вне их.
Движение времени вообще издевалось над Артуром как могло, открывая в нем до того не подозреваемые ужасные свойства. Приближаясь к собственному тридцать седьмому году, Артур Пепа заметил за собой не только накопление усталости, что проявлялось, в частности, в позорном и непозволительном ранее храпе, и не только зарастание ноздрей и ушных раковин невиданными прежде отвратительными волосами (чем Ты еще меня одаришь, Друже-Боже – перхотью, выпадением зубов, простатитом? – бунтовал в нем алкогольный агностик). Хотя первым делом он заметил за собой способность замечать, и это было хуже всего. Он заметил, что предпочитает не касаться ее руками. И не очень хочет смотреть на ее тело утром, когда она одевается. И как его раздражают эти ее поскальзывания, спотыкания и расплескивания – все, что когда-то вызывало в нем искреннее желание защитить, спасти, приласкать.
Ход времени подсунул ему еще одно паскудство в виде взросления Коли. Нестерпимо тесные бытовые условия не могли не провоцировать даже ненарочных наталкиваний и взглядов (о нарочных не будем). Девочка выросла ужасно длинноногой и, бесспорно, осознавая этот факт, не знала никакого предела в укорачивании юбок. Последние года два он на всякий случай старался не заходить в ее комнату, где стены были завешены портретами Моррисона и Джоплин. Впрочем, в ее возрасте он тоже слушал их обоих. На ее восемнадцатый день рождения они с Ромой подарили ей восемнадцать компактов с музыкой семидесятых. Проводив целое кодло гостей, порядком упитый Артур Пепа заперся в ванной и, откручивая кран горячей воды, подумал: «Неужели можно трахать женщину, у которой совершеннолетняя дочь?»
Это тогда он впервые заметил, как отчаянно жалеет о том своем («Знаешь, во мне все замирает, стоит лишь подумать, что в тот вечер я мог не дойти») умопомрачении. Стоило, думал он, еще полчаса никуда не рыпаться, Бомчик как раз брал третий раз по пятьдесят, стоило не спешить, она сама говорила, что только на пять минут, что только к знакомым, стоило разминуться, пусть бы кто-то другой ловил ее за локоть, пусть бы кому-то другому так везло, зато сегодня я был бы собой, а не кем-то, я жил бы собственной жизнью, брал бы женщин налево и направо, соблазнял бы юных макак, вроде этой, трепетал бы от весен, как двадцать лет назад, и не превращался в потенциально патентованного импотента. Последнее словосочетание, хоть и не бог весть какое изысканное, извлекалось из его склонности ко всяческим фонетическим красивостям. Ибо, даже оставаясь наедине с собственными потоками и монологами, Артур Пепа не переставал быть профессиональным литератором.
Это означало не что иное, как только то, что он должен жить на литературные заработки. Как-то ему пришло в голову написать бестселлер (во внутренне-процессуальном гетто с параноидальной навязчивостью как раз дискутировалась эта перспектива – а где наши бестселлеры? а почему у нас нет бестселлеров? а кто наконец написал бы для нас бестселлер? Казалось, что на этом пунктике поехали крышей абсолютно все вокруг, от высоколобых авторитетов-идеологов до вечно дезинформированных и активных в сплетничанье газетных парвеню), таким образом, ему захотелось показать всему этому кодлу полруки, язык и что-то там еще. Понятно, что нужен роман. Понятно также, написанный под вымышленным именем. Такая себе история про мужа, который убивает свою жену – в порыве или, скорее, в прорыве годами накапливаемой усталости и ненависти. После убийства у него начинаются хлопоты с трупом. Он хочет избавиться от него таким способом, чтобы никто и никогда не наткнулся на останки, или – как это по-украински – рештки? Привязать к нему два камня и утопить на дне черного лесного озера, например. Черное озеро с белыми асфоделиями, думалось ему. Для этого следовало положить тело в багажник автомобиля и вывезти его далеко за город. Собственно, это должна быть история одной ночи. Как он ездит с трупом убитой жены в багажнике, а на его пути возникают все новые и новые препятствия (полиция, знакомые, друзья, какие-то шлюхи, бандиты и прочие), и таким образом он все фатальнее отдаляется от цели. Событийная линия должна иногда прерываться лирическими фрагментами. Последние проливали бы кое-какой свет на их прежнюю жизнь и должны были поразить читателей предельной и даже брутальной откровенностью, например, в деталях, которые отображали бы физиологию старения женщины, все те осенние запахи, морщины и складки, шуршание сухих листьев, холод лона. В целом это должна быть несколько неожиданная смесь триллера с исповедью и черной комедией. Должна была бы, да не вышла: Артур Пепа в конце концов похоронил свою идею, вдруг осознав, что соблазн воплотить этот кошмар наяву делается все неотвязнее. Тогда он вовремя остановился, оставив другим написание давно ожидаемого чтива, которое должно спасти национальную литературу от читательского забвения.








