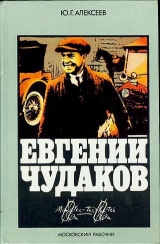
Текст книги "Евгений Чудаков"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
Все эти и им подобные машины обладали наряду с немалыми достоинствами и многими недостатками. Методов создания совершенных автомобилей, автомобильной науки не было в то время и в Европе, несмотря на то, что здесь начали строиться испытательные автодромы. Одним из первых среди них стал автодром фирмы «Фиат». Открылась возможность экспериментальной проверки в короткое время многих новых материалов и конструктивных решений.
Сподвижникам Брилинга и Чудакова приходилось начинать автомобильную науку почти с нуля. У молодой республики не было средств на создание сложных испытательных стендов и автодромов, не было возможности строить, подобно американцам, по сотне двигателей или других агрегатов с деталями различных параметров для выбора наилучшего методом простого сравнения. Может быть, поэтому в НАЛ развернулись научные исследования, подобных которым не велось еще нигде.
Первый по-настоящему крупный вопрос, которым занялись исследователи, – какие требования к грузовым и легковым автомобилям предъявляет их эксплуатация в условиях России? Вопрос второй – как сконструировать автомобиль, наилучшим образом удовлетворяющий этим требованиям? Третий вопрос, без которого решение второго недостижимо, – какие взаимодействия возникают между автомобилем и дорогой, между отдельными узлами машины и между деталями узлов в процессе эксплуатации?
Решение общих вопросов распадалось на десятки частных. Те в свою очередь зависели от ответов на сотни и тысячи других. Для их решения требовались время, силы, материальные средства. Но Чудаков был уверен, что именно с разработки основ и путей становления автомобильной науки должно начинаться автомобильное дело в России. Здесь оно будет служить не удовлетворению прихотей толстосумов, не обогащению нескольких десятков крупных промышленников, не развлечению богачей, а государственным интересам, социальному прогрессу миллионов людей. Только наука могла уберечь от ошибок в конструировании, от затраты лишних материальных средств. Только наука могла обеспечить будущей автопромышленности республики успех на собственном пути развития.
В конце 1919 года в тетрадках Чудакова, которые иногда удавалось раскрывать в перерывах между заседаниями и совещаниями по административным проблемам, в паузах между решением хозяйственных вопросов, появились первые записи по расчету и теории автомобиля. Через десять лет они оформились в общие курсы «Теория автомобиля» и «Расчет автомобиля». Эти работы, став крупным явлением автомобильной науки, сделались первыми в мире стройными учебными пособиями по теории автомобилестроения. Благодаря им советская автомобильная наука и лично Чудаков получили международную известность. Но все это произошло позже.
А тогда, на рубеже двадцатых годов, пришлось решать целый ряд частных задач, поставленных на повестку дня временем. К ним относились помимо названных постройка аэросаней, сравнение различных типов заграничных автомобилей и тракторов, испытание авиамоторов, закупаемых за границей. Некоторые из этих работ, казавшихся перспективными, впоследствии были прекращены, например, развитие конструкции аэросаней, хотя и была создана специальная межведомственная комиссия по постройке аэросаней – КОМПАС. Другие работы с самого начала не сулили великих открытий. Но все они давали неопытным еще исследователям навыки научной работы, экспериментальный материал для фундамента будущих достижений и приучали молодых людей быть хозяевами дела, отвечать за сделанное в полной мере, самим строить завтрашний день.
А строился он не только по линии научно-технической. Люди оставались людьми и в то напряженное время. К Евгению Чудакову это относилось в полной мере. Тем более что был он молод, привлекателен и умел ценить красоту.
Осенним вечером 1919 года в Хамовническом районе вооруженный патруль задержал для проверки документов автомашину марки «форд», в которой находились двое. Выяснили, что машина принадлежит НАЛ, что управляет ею Евгений Алексеевич Чудаков. Пассажиркой была Вера Васильевна Цингер, сотрудница того же учреждения. Путевого листа у водителя не было, в связи с чем был составлен протокол «об использовании шофером Чудаковым автомобиля в частных целях». Протокол отправили по месту жительства водителя – в комиссариат Пречистенского района «для принятия соответствующих мер».
Из НАЛ в комиссариат послали бумагу, в которой вежливо предлагали прекратить дело «ввиду незначительности проступка». В ответ пришло письмо, в котором утверждалось, что езда на автомобилях по частным делам является проступком серьезнейшим, подсудным Революционному трибуналу. В документе, который завершил «дело шофера Чудакова», говорилось, что в НАЛ «шофера Чудакова» нет, а есть заместитель председателя коллегии инженер Чудаков, который «в соответствии со своим служебным положением имеет право распоряжаться транспортом лаборатории, как считает нужным».
Между тем поездка «по частному делу» была совершена неспроста. Чудаков катал по городу девушку, к которой был весьма неравнодушен. Ее звали Вера. Одно это имя могло привести в восторг молодого человека в то романтическое время. Но девушка обладала и иными достоинствами. Ей было девятнадцать лет. Была она ясноглаза, стройна, длиннонога, способна увлекаться и добиваться желаемого.
Вера Цингер родилась в семье профессора Московского государственного университета. Казалось, благополучное детство ей было обеспечено. Но судьба распорядилась по-другому. Через пять лет после появления Веры на свет умерла ее мать, еще через два года – отец. Веру с сестрой Наташей взяли на воспитание в семью тетки. Там сестры познали цену куска хлеба, приучились к постоянному упорному труду. Едва окончив гимназию, они попали в круговорот бурных событий революции и гражданской войны. Наталья уехала из Москвы, а Вера после краткосрочных курсов поступила на работу машинисткой в Басманный совдеп (так тогда называли районные Советы).
Активной, любознательной девушке скоро наскучило, перепечатывание бесконечных бумажек, и она перешла на работу в МВТУ лаборанткой. Но и здесь ей хотелось большего. Она стала посещать занятия драматической студии сада «Эрмитаж», а в самом МВТУ искала работы поинтересней. Так она попала в только что организованную НАЛ на Вознесенскую улицу (ныне улица Радио).
Увидев Веру, Евгений Чудаков сразу же заинтересовался ею. В ней удивительным образом сочетались европейский облик и манеры, к которым он успел проникнуться уважением в Англии, с живой русской душой, столь желанной и любимой. Но Вера была девушка с характером, держалась независимо, и Евгений долгое время не знал, как говорится, с какой стороны к ней подойти. Помогли, как ни странно, бандиты.
В девятнадцатом году в Москве появились «прыгунчики». Обряженные в устрашающие костюмы, часто на ходулях, они нападали на одиноких прохожих, отнимали деньги, одежду. Вера, несмотря на предостережения знакомых, продолжала почти каждый вечер через полгорода ходить на занятия в студию. Чудаков предложил сопровождать ее. Иногда он подвозил ее на авто. Ей, разумеется, он не сказал, что рискует нарваться на неприятности, используя автомобиль лаборатории «в личных целях». Вера великодушно приняла услуги невысокого, сдержанного, малоразговорчивого молодого человека, на которого раньше особого внимания не обращала.
Однако от поездки к поездке ее мнение о Чудакове становилось все выше. Оказалось, он прекрасно разбирается в театре, тонко понимает природу, отлично знает английский. А как умеет рассказывать об изобретателях, автомобильных гонках, причудливых судьбах машин! Через несколько месяцев Вера обнаружила, что у Евгения удивительные глаза, замечательные мягкие волосы. Их поездки от Вознесенской до «Эрмитажа» и обратный путь до Немецкой улицы (ныне улица Баумана), где Вера жила у тетки, постепенно превратились в долгие ночные прогулки по Москве, во время которых они изучали созвездия на небосклоне и вели разговоры обо всем на свете. Одну из таких прогулок, как уже было сказало, и прервал однажды ночной патруль.
Лишившись возможности использования современной техники для «обольщения», Евгений не растерялся. С упорством, проявленным уже не раз в жизни, он продолжал начатое дело. Узнав, что Вера неплохо знает французский, Евгений заявил ей о своем горячем желании изучить этот язык с ее помощью, разумеется, за соответствующую плату. Вера, как девушка деловая, на эти условия согласилась. По существовавшей в те времена традиции, платный преподаватель давал уроки ученику у него на квартире. Потому Вера стала регулярно ходить к Евгению домой. Весной 1920 года она совсем переехала в две маленькие комнатки в Токмаковом переулке.
26 ноября 1920 года сыграли свадьбу. На это ушли все «материальные фонды». Но все же молодые сумели устроить себе свадебное путешествие, и довольно экзотическое. На две недели они уехали к Вериной подруге в село Дулепово неподалеку от подмосковной станции Подсолнечная. Отец подруги работал там директором копного завода. Первый снег, прекрасные кони, солнце, играющее в гривах, быстрый бег легких санок навсегда остались в памяти четы Чудаковых.
А в январе 1921 года в ВСНХ был утвержден составленный Чудаковым проект преобразования НАЛ в НАМИ – Научный автомоторный институт. По замыслу автора проекта институт должен был стать головной научной организацией республики по исследованию автомобилей и моторов. «Амурные обстоятельства» не помешали Чудакову составить проект с чрезвычайной тщательностью. В нем оказались предусмотренными не только лаборатории, конструкторское бюро и гараж с автомобилями, но и обширный автомобильный музей, издательство для печатания технико-пропагандистских материалов по автомобилизму, столовая для сотрудников.
Итак, начало двадцатых годов внесло два крупных изменения в жизнь Евгения Чудакова. Он стал заместителем Директора одного из первых в стране научно-исследовательских институтов и мужем самой интересной из всех когда-либо встреченных им девушек.
6. Начало науки
1921 год стал знаменательным в истории страны. Советская власть доказала всему миру свою жизнеснособность. Войска Антанты были вынуждены убраться восвояси. Гражданская война закончилась разгромом белогвардейцев. Но последствия двух войн обернулись страшной разрухой, поразившей все отрасли хозяйства, охватившей все сферы жизни.
В 1920 году объем промышленной продукции России сократился по сравнению с 1913 годом в семь раз, выплавка чугуна – в тридцать пять раз, стали – в двадцать один раз. Более чем в три раза снизился грузооборот железных дорог – основного вида транспорта для дальних перевозок. Почти 70 процентов паровозов к началу двадцать первого года стояли в ремонтных депо негодные для эксплуатации.
Текстильные фабрики страны дали в 1921 году в двадцать три раза меньше тканей, чем в 1913-м. К тому же резко сократилось производство топлива и промышленного сырья. Неурожай в ряде губерний России, падение производительности крестьянских хозяйств привели к нехватке продовольствия. По сравнению с зимами 1917–1918 годов, экономическое положение страны зимой 1920/21 года было еще более суровым. Недаром последнюю часть своей трилогии «Хождение по мукам», действие которой относится к этому времени, Алексей Толстой назвал «Хмурое утро».
Но работа по становлению советской науки, по подготовке кадров квалифицированных инженеров и техников не прекращалась ни на месяц, хотя трудности, переживаемые страной, в полной мере легли на плечи и преподавателей высших учебных заведений и ученых-исследователей.
Жизнь Евгения и Веры в двухкомнатной квартирке старого двухэтажного деревянного дома в Токмаковой переулке устроилась не лучшим образом. Одну из комнат закрыли с наступлением холодов, так как топить ее было нечем. Другую, меньшую, отапливали с помощью легендарной «буржуйки», пожалованной Вере теткой в качестве свадебного подарка. Основу меню составляла «пша» – пшено, из которого Вера научилась делать до десятка блюд – каши, супы, лепешки. Хлеба было мало, хотя Евгений получал пайки из двух организаций – НАМИ и КОМПАСа. По обоюдному согласию часть этого хлеба все-таки меняли на молоко, чтобы «научно разнообразить рацион».
Тогда-то Евгений научил Веру есть пенки, которых она с детства терпеть не могла. Съев, по настоянию мужа, первую пенку, она вдруг стала восхищаться: «Какая вкуснота!» – и отчаянно переживать за те, которые не доела за предыдущие девятнадцать лет. Иногда в гости к молодоженам приходила Верина подруга, у отца которой они провели свой медовый месяц. Она приносила мясо – самое вкусное на свете, как утверждала Вера, – и тогда устраивался настоящий праздник, на который звали родственников и товарищей. Много позже Вера узнала, что это была конина.
Весной 1921 года супруги стали готовиться к рождению младенца. Вера перестала ходить на службу. Но работать не бросила – дома перепечатывала на машинке служебные бумаги. А забот по хозяйству, учитывая перспективы, прибавилось.
Каждое утро перед уходом в институт Евгений приносил ведро воды, а Вера принималась мыть, стирать, «изобретать еду», шить. В кухоньке стоял самый массовый и универсальный нагревательный прибор – примус. Керосин для него доставать было труднее, чем молоко. Иногда приходилось, в нарушение всех инструкций, заправлять эту адскую машину бензином, который Евгений получал на работе. Однажды бензин вспыхнул. И в примусе, и в стоящем рядом бидоне. Через несколько секунд загорелись стол, занавески…
Это первое испытание – испытание огнем – молодая женщина выдержала достойно. Она не растерялась, не поддалась панике. На горловину пылающего бидона набросила одеяло, схватила стоящее рядом ведро, благо оно еще было полное, и залила водой огонь на столе и на занавесках. Мужу в тот день она ничего не сказала. Хотя позже, рассказывая о «нарушении техники безопасности», не раз вспоминала, что благодаря принесенному им ведру воды оказались спасенными и она, и будущий ребенок.
С медицинским обслуживанием весной 1921 года дело в Москве обстояло примерно так же, как и с питанием. Осложнения при родах были обычным явлением. Поэтому, когда врач, осматривавший Веру, узнал, что ее свекровь – опытная акушерка, все его рекомендации, высказанные будущим родителям, свелись к одной – немедленно ехать в Сергиевское и ждать первенца там. В мае Евгений взял в институте недельный отпуск и повез Веру к матери.
Вера, конечно, волновалась. Ее немножко пугала встреча с Павлой Ивановной, которую до сих пор она знала только по переписке, беспокоила жизнь в деревне, ей, горожанке, совсем неизвестная. Но, вопреки всем волнениям, путешествие оказалось удивительно приятным.
Ехали в теплушке без всяких удобств. Но солнце светило в щели, весенний воздух пьянил, колеса весело выстукивали на стыках. Сергиевское к тому времени было уже переименовано в Плавск. Приближаясь к цели, Вера искала в надписях, мелькавших за окном вагона, упоминания о конечном пункте путешествия. Слова, на которые она натыкалась глазами, оказывались мягкими, теплыми, домашними. Особенно запомнилось сладкое название станции «Паточная», от которого с голодухи даже слюнки побежали.
Встреча со свекровью вышла простой и теплой. В своем темно-зеленом, в крупную черную клетку платье, сдержанная и неторопливая, Павла Ивановна предстала перед Верой пожилой ибсеновской героиней. Она была бесспорной главой семьи. Но в доме к этому давно привыкли. Относились друг к другу внимательно, ласково. И что особенно важно было для Веры – репутация свекрови как специалиста по родовспоможению и гинекологии была вне всяких сомнений. Каждый день она принимала дома до двадцати пациенток, регулярно выезжала оказывать помощь роженицам. Вряд ли даже у профессора гинекологии мог быть больший авторитет в Плавске. Убедившись, что мать его выбор одобрила и что отныне Вера в надежных руках, Евгений вернулся в Москву.
До родов, по расчетам, оставалось еще два месяца. Опытная Павла Ивановна не стала донимать невестку мелочной опекой, и Вера получила возможность после московской суеты в полной мере вкусить прелести неторопливой провинциальной жизни. Она часто ходила в город, восхищаясь голубизной его соборных куполов, сливающейся с голубизной неба, и буйным, никогда не виденным ранее цветением яблоневых садов. По железнодорожной насыпи, под которой были разбросаны в изобилии кусты дикой акации, Вера уходила в поля. Она долго бродила по уютным тропинкам среди цветов и зеленеющих хлебов и не переставала радостно удивляться тому, что крестьяне при встрече с ней снимали шапки и здоровались, как с хорошей знакомой.

Семья Чудаковых на рубеже столетий. Случайно ли Женя – младший – оказался в центре? Или его место определил перст судьбы?

Первое десятилетие XX века. Евгений Чудаков – студент Богородицкого сельскохозяйственного училища.


Орел. В жизни Чудакова – новые люди, среди которых наиболее привлекателен Мих. Мих. Хрущев (возможно, рядом с Чудаковым он). В сельском хозяйстве, но уже с техникой, с петлицами Высшего технического училища.


Лондон. Первое заграничное путешествие Чудакова. Эти англичане могли бы стать его родственниками, если бы не великая любовь к земле и к людям, которые во сто крат роднее.


Место действия – РСФСР, Москва, НАЛ – НАМИ. В живописной группе – Н. Р. Брилинг, А. А. Архангельский, Е. В. Карельских и трое будущих академиков – Александр Микулин, Борис Стечкин и Евгений Чудаков.


Первые планомерные исследования автомобилей и тракторов в СССР. Руководитель – Е. А. Чудаков.


Такими они были, когда встретили друг друга, – Евгений Чудаков и Вера Цингер.

Середина 20-х годов. «Автопробегом – по бездорожью и разгильдяйству!» Организатор и участник крупнейших автопробегов тех лет Е. А. Чудаков.

Усталый человек в кепке (седьмой слева) и энергичный интеллигент на фото с документа на въезд в США – Е. А. Чудаков. На подмосковных полях и в лабораториях «Дженерал моторе» он решал задачи совершенствования советского автостроения.
В июне Вера родила сына. По совету Павлы Ивановны назвала его красивым древним именем – Александр. Евгений, конечно, сразу примчался из Москвы. Радости его не было предела. Однако, когда пошли регистрировать сына, обнаружились препятствия. В местном загсе отказались признать действительным неоформленный брак. Пришлось регистрироваться. Делалось это тогда удивительно просто. Фамилию требовалось принять общую. Тут-то и произошла небольшая размолвка.
– Давай возьмем мою – Цингер, – предложила Вера. – Уже известная в науке, почти знаменитая фамилия.
В глубине души она считала фамилию Чудаков не совсем солидной, отдающей чем-то шутовским. Но Евгений с женой не согласился.
– Лучше мы мою сделаем знаменитой, – заявил он весело и сумел настоять на своем.
Сделав все необходимое, Чудаков вскоре уехал, а Вера с маленьким Сашей осталась в Плавске еще на несколько месяцев.
Лотом 1921 года по инициативе Ленина и Горького была образована ЦеКУБУ – Центральная комиссия по улучшению быта ученых. Благодаря ее заботам условия жизни ведущих ученых страны, многие из которых находились в бедственном положении, улучшились. Комиссия выделила новое жилье и семье Чудаковых. Неподалеку от Чистых прудов в большом каменном особняке, принадлежавшем раньше известному капиталисту Грибову, им дали две большие комнаты.
Вместе со своими новыми соседями Липгартами, родственниками известного впоследствии автомобильного конструктора Андрея Александровича Липгарта, Евгений Алексеевич обшарил весь дом, но так и не обнаружил нигде работоспособной отопительной системы. Несколько каминов и красиво выложенных голландских печей могли согреть только половину комнат.
Сосед предложил поставить в каждой комнате по две-три «буржуйки». Но Чудаков предпочел более капитальное решение проблемы. Он задумал самостоятельно сложить в квартире большую удобную печь, хотя раньше никогда печным делом не занимался. Взявшись за дело, как всегда, продуманно и обстоятельно, с помощью двоюродного брата Евгений с задачей справился. Печь получилась не очень красивая, но грела исправно. Осенью он встретил жену с сыном в новой квартире, у жарко натопленной, сложенной своими руками печи. Объяснил жене, смеясь, что приобрел на черный день профессию печника.
Новую профессию, однако, вскоре пришлось забыть. Так как старая, автомобильная, потребовала от Чудакова напряжения всех сил, заняла все его время. В 1921 году были построены первые советские автомобили. Их собрали, слегка модернизировав, из заготовок знаменитых «Руссо-Балтов», перевезенных в Фили вместе с оборудованием Рижского вагоностроительного завода. В Москве завод получил новое название – «Первый бронетанковый автозавод», сокращенно 1-БТАЗ.
Марка завода украсила первые пять машин, на которые возлагались большие надежды. На складах находилось еще около 300 комплектов заготовок. Для страны, имевшей в то время чуть больше 10 тысяч разномастных автомобилей, получить три сотни своих собственных, новеньких, однотипных машин было весьма заманчиво. Однако прежде чем заняться массовой сборкой БТАЗов, благоразумно решили всесторонне исследовать автомобиль, сконструированный еще в 1910 году. Этой работой занялся Чудаков. Сделать ее требовалось в кратчайшие сроки.
Осенью 1921 года произошло еще одно знаменательное для автомобильной жизни событие, В Московском механико-электрическом институте имени М. В. Ломоносова было организовано отделение моторного транспорта со специализациями: автомобильное и мотоциклетное дело, тракторное дело, авиационная механика. Свершилось то, чего давно добивались Жуковский, Брилинг, Чудаков. До сих пор в Москве только в МВТУ готовили специалистов с высшим образованием для авиации и автомобильного дела. Появилась возможность значительно увеличить выпуск инженеров столь нужных для страны профессия.
Николай Егорович Жуковский не дожил до этих дней несколько месяцев. Брилинг и Чудаков получили приглашение преподавать на новом отделении. Для Чудакова это была большая радость, и хотя, казалось, работа в НАМИ не оставляет времени ни для какой другой серьезной деятельности, он ответил согласием.
Между тем НАМИ приходилось преодолевать серьезные трудности. Не хватало подготовленных сотрудников, способных вести самостоятельную работу. Ввиду новизны дела по многим видам исследований не было разработано эффективных методов. Отсутствовало необходимое лабораторное оборудование. Однако программа действий была избрана предельно ответственной и напряженной. «Основные работы института, – писал Чудаков, – состоят в научных изысканиях по вопросам мототранспорта, в создании строго обоснованных научных теорий и незыблемых научных объяснений явлений в этой области техники и в изыскании методов к созданию и развитию этой промышленности».
Нетрудно представить себе, что крылось под словами «в создании строго обоснованных научных теорий». Никаких серьезных научных обоснований по вопросам автомототранспорта не было. Все начиналось практически с нуля. Требовалось, по сути дела, создать новую науку. В том, что это необходимо, убеждали первые же исследования, проведенные в НАМИ над сконструированными ранее автомобилями. Ярким примером стало испытание славного в прошлом «Руссо-Балта» – того самого БТАЗа с заводским номером пять.
Машину испытывали на стенде с тормозными барабанами. В условиях лаборатории можно было имитировать прямолинейное движение по дороге с разными скоростями. Стенд, созданный под руководством Чудакова, стал одной из первых лабораторных установок, построенных самостоятельно сотрудниками НАМИ.
Первое впечатление автомобиль производил прекрасное. Он был аккуратно собран, красив, легко заводился, уверенно перескакивал через булыжники и канавы, имел просторный открытый кузов с удобными мягкими сиденьями. Недаром БТАЗ под номером один подарили председателю ВЦИК М. И. Калинину. Однако когда машину испытали на режимах, соответствовавших разным условиям движения, выяснилось вот что.
Двигатель «Руссо-Балта» был спроектирован неправильно. Тихоходный, малооборотный мотор транспортной машины имел быстроходную рабочую характеристику, похожую на характеристику двигателей гоночных машин. Конструкция клапанно-распределительного механизма, в свою очередь, не соответствовала двигателю. Передаточное число главной передачи было слишком мало, а вес машины слишком велик для такого двигателя. Все это приводило к тому, что эксплуатационные показатели БТАЗа, такие, как топливная экономичность, время разгона и торможения, межремонтный пробег, оказывались гораздо ниже, чем у испытанных в НАМИ заграничных автомашин новейших марок.
Производство БТАЗов было прекращено. Оно стало примером кустарного, не основанного на науке проектирования и поспешных, опять-таки не научных оценок качества машины.
Но ждать, пока новая наука вырастет и окрепнет, было некогда. Каждое, даже небольшое научное достижение нужно было немедленно пускать в дело, обращать на пользу народному хозяйству. Работы в институте развернулись сразу по нескольким направлениям. На первом месте оказались исследования автомобильных, авиационных, тракторных и мотоциклетных двигателей, попытки создать базу для конструирования отечественных моторов. Большое место уделили также общему исследованию конструкций и эксплуатационных характеристик автомобилей.
Кроме этого, начаты были разработки в области конструирования аэросаней, мотоциклов, тракторов, стационарных двигателей для морских и речных судов, тепловых электростанций и целых промышленных предприятий. Половипу работ вели и все руководство осуществляли в основном четверо – директор НАМИ Н. Р. Брилинг, его помощник и заместитель Е. А. Чудаков, заведующий производственной частью Д. К. Карельских и заведующий технической частью В. Я. Климов. Как нетрудно догадаться, дел им хватало…
Работа энтузиастов не осталась незамеченной. В том же году НАМИ стал одним из первых учреждений республики, получившим звание ударника. Состоявшийся в начале следующего, 1922 года 3-й Всероссийский автомобильный съезд признал работы НАМИ, «имеющими государственное значение в научном и практическом смысле». Но крупных сдвигов в решении автомобильной проблемы России сделать все еще не удалось.
Когда в наши дни говорят об автомобильных проблемах, имеют в виду проблемы топлива, металла, сохранения окружающей среды, скорости, надежности, безопасности. С этих точек зрения человек восьмидесятых годов обычно пытается представить себе трудности развития автомобилизма в стране в двадцатые годы. Однако перечисленные проблемы тогда были лишь частностями. Главный вопрос, как ни странно это звучит сегодня, заключался в том, нужна ли вообще стране массовая автомобилизация.
В отличие от промышленно развитых стран – Германии, Англии, Соединенных Штатов Америки – Россия традиционно считалась страной крестьянской. Труд стоил дешево. Главной «машиной» для местных перевозок в городах и на селе, главной тягловой силой в сельском хозяйстве была лошадь. Лошадей в стране в начале века было огромное количество – более 32 миллионов (по регистрационным данным 1914 года), почти треть всех рабочих лошадей планеты. Даже после двух войн оставалось (по переписи 1920 года) восемнадцать с лишним миллионов голов, из которых рабочих – 14 512 080. Точность и частота регистрации свидетельствуют о том, что лошадям в народном хозяйстве России уделялось огромное внимание.
А вот что писалось в начале двадцатых годов о состоянии отечественного автомобилизма:
«В России проблема механического транспорта до сего времени продолжает оставаться неразрешенной, и главным образом потому, что ее не удалось связать с широкими кругами населения, в подавляющем большинстве своем принадлежащими к сельскохозяйственному населению.
Если в России появление автомобиля относится еще к прошлому столетию, то все-таки он в своем подавляющем количестве совершенно не отвечал потребностям нашего хозяйства и не старался удовлетворить тех или иных широких задач народнохозяйственного организма.
Вплоть до минувшей войны и даже до 1917 года проблема механического транспорта продолжала пребывать у нас в зачаточном состоянии, и даже приобретение десятков тысяч автомобилей во время войны не послужило никаким толчком к механизации нашего транспорта. Затраченные на механический транспорт колоссальные средства (выданные царским правительством в качестве субсидий фабрикантам Рябушинскому, Лебедеву и др. – Ю. А.) ушли не на нужды, для которых они предназначались, а когда в момент демобилизации и перехода с военного положения на мирное страна оказалась обладательницей многих тысяч единиц механического транспорта (около 20 тысяч автомобилей. – Ю. А.), она не сумела извлечь из последних никакой пользы.
Полное несоответствие потребностям хозяйства, полная неподготовленность населения к таким прогрессивным средствам передвижения – все это повело к дальнейшему разрушению и исчезновению сохранившегося после войны подвижного состава…» («Мотор», 1923, № 1.)
В плачевном состоянии находилось дорожное хозяйство России. Общая протяженность благоустроенных, годных для регулярного автомобильного движения дорог была в республике в десятки раз меньше, чем в Германии или во Франции, при гораздо больших пространствах РСФСР по сравнению с площадью этих стран. А парк дорожных механизмов, с помощью которых можно было как-то модернизировать топкие и ухабистые проселки, по данным 1921 года, состоял из 35 моторных и паровых катков, 10 тракторов, 23 камнедробилок, 15 грейдеров и. 24 запасных двигателей к ним. Это на всю Россию.
Хотя помимо НАМИ в стране к началу 1922 года действовало несколько мощных организаций, занятых решением автомобильных проблем, таких, как Военно-транспортное управление Рабоче-Крестьянской Красной Армии – ВТУ РККА, Центральное управление государственных автозаводов – ЦУГАЗ, Центральное управление местного транспорта Народного комиссариата путей сообщения – ЦУМТ НКПС и других, понадобилось много месяцев активной работы для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. И только тогда, когда в соответствии с предвидением Чудакова широкая пропаганда автомобилизма привлекла к делу тысячи энтузиастов по всей стране, обратила на автомобиль внимание рядовых хозяйственников, создала массовую автомобильную прессу, лед тронулся.
Датой рождения советской автомобильной промышленности считается 1924 год, когда из ворот Московского автомобильного завода, бывшей собственности господ Рябушинских, выкатились первые десять ярко-красных автомобильчиков АМО-Ф-15. Но по настоящему переломным для отечественного автомобилизма стал предыдущий, 1923 год.








