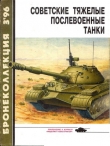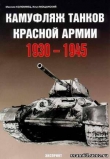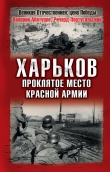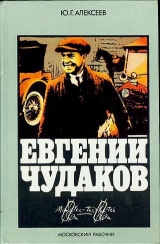
Текст книги "Евгений Чудаков"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 18 страниц)
Несмотря на болезнь, Чудаков продолжал работать. Как только спала температура, а руки смогли держать карандаш и бумагу, Евгений Алексеевич принялся за разработку новых разделов теории и конструкции автомобиля. Уж он-то прекрасно понимал, как необходима вырастающему на руинах старого мира молодому советскому машиностроению наука строить автомобили.
К 1929 году успехи советской промышленности вынуждены были признать даже самые закоренелые зарубежные скептики. Продукция машиностроения в 1928 году почти вдвое превысила уровень 1913 года. Удельный вес социалистического сектора в валовой продукции промышленности достиг 82,4 процента. Мощность электростанций почти втрое превосходила мощность электростанций дореволюционной России. Грузооборот автомобильного транспорта увеличился вдвое.
В мае 1929 года V съезд Советов СССР утвердил первый пятилетний план развития народного хозяйства страны, вошедший в историю как крупнейший этап индустриализации СССР. За пятилетку предусматривалось увеличить общий объем промышленной продукции в 1,5 раза, а машиностроения – в 3,5 раза. Перед техническими специалистами открывались огромные перспективы, вставали новые, весьма нелегкие задачи.
Если в первые послереволюционные месяцы и годы надо было любой ценой «давать количество», то теперь нужно было решать проблемы качества технической продукции. Нельзя уже было довольствоваться тем, что в СССР выпускались собственные грузовые и легковые автомобили. Надо было, увеличивая их выпуск, довести машины до высокого технического совершенства, обеспечить им низкую стоимость в производстве и эксплуатации. Прошли времена восторженных эмоций: «Первый отечественный!», «Сам едет!», «Тысяча километров без поломок!».
О недостатках НАМИ-1 уже говорилось. Производство этих машин было полностью прекращено. Для массового выпуска нужно было подбирать какую-то принципиально новую модель. Все больше и больше нареканий приходилось на долю АМО-Ф-15. Небольшой грузовичок оказался так дорог, что мало какие государственные и кооперативные предприятия могли позволить себе купить его. Создалась парадоксальная ситуация – хозяйству позарез нужен был грузовой автотранспорт, а АМО загромождали заводские склады, не находя сбыта. Те же, что бегали по дорогам страны, приносили немало неприятностей водителям, критических отзывов в редакции и в заводоуправление.
«Недостатком конструкции считаю то обстоятельство, что при мокрой или обледенелой мостовой заносит зад вкруговую», – писал в редакцию журнала «За рулем» шофер Самойлов. «От этого сиденья у всех нас болит позвоночник… а проедешь сотню-другую верст, вообще не разогнешься», – вторил ему водитель Федоров. Другие обращали внимание на то, что нога водителя на педали всегда в напряженном состоянии, руль расположен слишком близко к сиденью, в открытой электропроводке – частые обрывы и замыкания, тормоза с чугунными колодками ненадежны и малоэффективны, часто ломается дифференциал, отсутствие стартера затрудняет запуск двигателя. Вот сколько серьезных недостатков было только у одной модели, причем выпускаемой несколько лет!
Состояние автомобильного транспорта того времени в целом охарактеризовал в довольно едкой статье, опубликованной журналом «За рулем», известный писатель Виктор Шкловский. Название статьи было весьма красноречивым и весьма в духе автора: «Барахло на ходу». Вот лишь малая часть того, что он писал: «Мы не представляем себе, на чем ездим и какой музей на колесах является автопарком СССР… Мне приходилось в Воронежской губернии ездить на автомобиле, у которого пришлось в степи снять цилиндры, разъединить подшипники на коленном валу, снять шатуны с поршнями и ехать дальше на двух цилиндрах. Сделать такую работу без инструмента в степи может только или беглый каторжник, или советский шофер, потому что блоки, например, т. е. отливку цилиндров, приходилось держать на полотенце, перекинутом через шею… По существу говоря, наши шоферы каждый день делают невероятные изобретения для того, чтобы ездить на том, на чем нельзя ездить».
Как же было решить проблему – не только увеличить количество автомобилей, но и значительно повысить их качество, сделать их более надежными, экономичными, удобными? Было ясно, что необходимо, с одной стороны, расширить и углубить подготовку отечественных автоспециалистов, с другой – срочным порядком осваивать передовой зарубежный опыт автостроения.
В 1926 году руководство заводом АМО принял тридцатилетний Иван Алексеевич Лихачев, сам опытный шофер. В то время на заводе готовилась коренная реконструкция. К делу решили привлечь американских специалистов. Делегация Автотреста, возглавляемая его председателем Марком Лаврентьевичем Сорокиным, провела несколько месяцев в САСШ – Североамериканских Соединенных Штатах, как тогда называли Соединенные Штаты Америки. Нашли инженера Брандта, руководителя фирмы, которая взялась за составление проектов реконструкции АМО. Выбрали новейшую модель грузовика «автокар» как прототип для производства на реконструированном заводе.
А на другом московском автопредприятии, известном ныне как автозавод имени Ленинского комсомола, готовились к сборке легковых автомобилей «форд-А» из деталей, получаемых по договору, заключенному с Генри Фордом, прямо с американских заводов. Казалось, все идет нормально – качественный скачок отечественному автотранспорту обеспечен. Однако так только казалось…
Фирма Брандта, как выяснилось в процессе реконструкции, была лишь посреднической организацией. Она привлекла к работе инженеров, не подготовленных к масштабам и возможностям строительства в СССР, мало компетентных в современном автомобилестроении. Большинство из них было неудачниками, лишившимися в результате кризиса работы в США и устремившимися в Советскую Россию с надеждой на легкий заработок. Проект, который фирма Брапдта готовила более года, был признан в основе неприемлемым, не отвечающим задачам будущего.
Не лучше обернулось дело и с рекомендованной новой моделью – «автокаром». При всех своих завидных технических данных – скорости, грузоподъемности, современности конструкции – модель оказалась неудачной в технологическом отношении. Председатель Автотреста был, как говорили о нем на АМО, человек не заводской. Рекомендуя «автокар», рассчитанный по дюймовым размерам, Сорокин не учел, с какими трудностями столкнется производство при переводе всех сопряжений в метрическую систему. Не учел он и опасностей, связанных с тем, что автомобиль производился по кооперации двумя десятками мелких, независимых друг от друга фирм. У каждой были свои технологические стандарты, свои приемы проектирования и производства. Откажись хоть одна из них от сотрудничества в период запуска и освоения модели в СССР – и все производство окажется под ударом.
Сорокин предлигал некоторые наиболее технологически сложные детали «автокара» получать в течение нескольких лет от американцев, что ставило серийный выпуск машины также в зависимость от заокеанских дельцов. По этой же причине нельзя было долго мириться и со сборкой из импортных деталей легкового «форда», хотя сама модель оказалась гораздо более удачной, чем модель «автокара». Потому решили строить завод в Нижнем Новгороде, способный производить тот же «форд-А» независимо от Детройта. Однако строительство завода не могло обойтись без американского опыта, без участия американских специалистов.
Что же наиболее ценное стоило позаимствовать у автостроителей США? Какие модели машин, станков, методы работы следовало принять на вооружение советской автомобильной промышленности? Какие фирмы, кого из специалистов привлечь к работе в СССР? Как, наконец, использовать для развития советской автомобильпой науки достижения американских ученых?
Дать ответы на эти вопросы могли только те, кто любил и глубоко знал автомобиль, автомобильное производство. И конечно же принимать окончательные решения можно было, только основательно, глубоко изучив американское автомобилестроение на месте, в САСШ. Потому было решено на смену комиссии Сорокина, состоявшей из хозяйственников и инженеров неавтомобильного профиля, отправить в Америку опытных автомобилистов.
Но осуществить эту идею было не так-то просто. Прямых дипломатических отношений между САСШ и СССР тогда еще не было. Приходилось ехать в Европу и просить визы на въезд в Соединенные Штаты у американских дипломатов во Франции или в Германии. Нередко на подобные просьбы отвечали отказами.
Весной 1929 года из Москвы выехала группа работников АМО, в которую входили Лихачев и несколько опытных инженеров завода. Путь лежал через Польшу в Германию, где надо было запрашивать визы в американском консульстве, а затем, после оформления виз – во Францию и дальше, за океан. Первая часть путешествия прошла нормально. Лихачев, впервые выехавший за границу, с интересом и пользой для себя осмотрел немецкие заводы «Мерседес», «Опель», «Даймлер», французский «Ситроен». Инженеры АМО нашли в Европе многое из того, что было целесообразно учесть при реконструкции своего завода.
Но в американском консульстве в Берлине дело застопорилось. Получив запрос на визы, чиновники медлили с ответом. Поговаривали, что причиной тому принадлежность Лихачева к ВКП(б) и его прошлая работа в ЧК. Тогда делегация попыталась сделать ход конем – получить визы у представителей САСШ во Франции – но и этот вариант окончился неудачей. Через два месяца Иван Алексеевич вынужден был вернуться в Москву. Только несколько инженеров из его группы в конце концов получили визы и отправились в Нью-Йорк. А самому Лихачеву это удалось лишь год спустя.
Тогда же была сформирована еще одна делегация советских автомобилистов для поездки в САСШ. В ее состав вошел Евгений Алексеевич Чудаков.
8. В гостях у Форда
«Ах, Америка, Америка – далекая страна», – пелось в одной детской песенке. Там, в Америке, все как в сказке… Легенды и слухи об Америке волновали и тех, кто давно вышел из детского возраста. Особый интерес к Североамериканским Соединенным Штатам проявляли ученые, инженеры, руководители хозяйства молодой Страны Советов. Но их интересовали не мифы, а вещи вполне реальные: машины, технология, технический опыт американцев.
К концу двадцатых годов САСШ значительно опережали все остальные страны мира по основным промышленным показателям, а по территории и количеству населения были единственной промышленно развитой страной, способной сравниться с СССР. В 1929 году американские автомобильные заводы выпустили 535 тысяч машин – больше, чем автопромышленность всех остальных стран мира, вместе взятых.
Американским президентом в 1929 году стал пятидесятичетырехлетний миллионер Герберт Гувер. Его отношение к СССР определялось позицией, которую в августе 1931 года, отвечая на вопросы корреспондентов газеты «Сан-Франциско-Ньюс», он сформулировал так: «Сказать по правде, цель моей жизни состоит в том, чтобы уничтожить Советский Союз».
Однако жестокий экономический кризис, потрясший САСШ в начале тридцатых годов, вынудил реалистично мыслящих деловых американцев отнестись к СССР по-другому. Возрастающая год от года платежеспособность Страны Советов, огромные потенциальные рынки сбыта, заинтересованность в расширении экономических связей заставили деловую Америку проникнуться к нам уважением, а американское правительство – «смотреть сквозь пальцы» на ширящиеся связи отдельных граждан и фирм САСШ с «этими ужасными большевиками». Крупные американские бизнесмены, такие, как Форд, Хаммер, Крайслер, Райт, вступили в тесные деловые отношения с советскими организациями, известные американские фирмы наперебой предлагали свои услуги, сотни технических специалистов поехали в СССР работать по контрактам с советскими предприятиями.
И наши ведущие специалисты двинулись в Америку за техническим опытом, за новой технологией, за машинами, которые нужны были в первую очередь в качестве образцов для вывода на передовые технические рубежи молодой отечественной промышленности. Туполев, Стечкин, Лихачев – лишь немногие из тех, кто в то время посетил САСШ в составе советских научно-технических групп. Евгений Чудаков был одним из них.
Октябрь 1929 года выдался в Москве ветреным и холодным. Дважды выпадал снег. На островерхой крыше Белорусского вокзала лежали мокрые белые шапки. Провожать Евгения Алексеевича на берлинский поезд приехала вся семья – Вера Васильевна, Павла Ивановна, восьмилетний Саша и четырехлетняя Таня. Такими торжественными проводы были впервые. Кратковременные поездки Евгения Алексеевича в Германию, Францию, Италию казались близким не более экзотическими, чем во Владивосток или в Ташкент. Командировки советских специалистов в Европу стали обычным делом. Но Берлин был лишь промежуточной остановкой на многотысячеверстой дороге через весь континент, через океан к берегам страны непонятной и далекой.
Дети радовались. Саша просил привезти «машинку с моторчиком, как у сына мистера Брандта», Таня – «живую обезьянку». Вера Васильевна ужасно волновалась, но думала, что никто этого не замечает. Павла Ивановна покрикивала на детей, незаметно старалась успокоить Веру и держалась на перроне не менее солидно, чем начальник вокзала. Евгений Алексеевич был спокоен. Однако никак не удавалось забыть про недавнюю неудачную доездку Лихачева.
В восемнадцать сорок паровоз дал последний гудок, Евгений Алексеевич ловко вскочил на подножку, повернулся, взмахнул рукой на прощанье. Вера рванулась было за медленно двинувшимся вагоном, но, вспомнив про детей, остановилась, собрала всю волю и, как подобает солидной даме и матери семейства, изобразила на лице легкую улыбку, элегантным жестом подняла руку в тонкой перчатке. Только Павла Ивановна заметила, каких усилий стоило невестке не расплакаться. Клубы дыма и пара расплылись под навесом перрона. Красные огоньки последнего вагона растаяли в вихре мокрых снежинок.
В Берлине группу Чудакова встретили работники советского торгпредства. Устроили всех в пансионате на Гейсбергштрассе, 39, предложили программу поездок по городу, посещения промышленных предприятий и лабораторий. Но Чудакова все это не очень интересовало. Немецкие заводы и лаборатории он изучил во время предыдущей поездки. Главная задача – перебраться через океан, попасть в Детройт, ставший меккой автомобильного мира, познакомиться на месте с предприятиями, имя которым «Форд», «Крейслер», «Дженерал моторе».
Американское консульство встречает группу Чудакова настороженной враждебностью. Каждому задают множество вопросов. Где родились? Были ли на военной службе? Где работали последнее время? Состоите ли в Коммунистической партии? Каковы цели посещения САСШ? Чудаков, ответив на вопросы, предъявляет рекомендательные письма к видным деятелям американского автомобилестроения, оттиски своих научных работ. Работник консульства заметно смягчается. Предлагает всем заполнить бумаги и зайти за ответом через два-три дня.
Во второй визит отношеиие резко меняется. Очевидно, «английское прошлое» Чудакова, рекомендации, репутация ученого сделали свое дело. Работники консульства широко улыбаются, подвигают кресла, предлагают сигары. Проходит всего несколько минут, и в руках у Евгения Алексеевича заветный документ – декларация иностранного гостя, отправляющегося в Соединенные Штаты с деловыми целями. Время выдачи – 1 ноября 1929 года. Номер – 1083. Цель поездки – изучение последних достижений американской автомобильной промышленности и науки. Срок пребывания в стране – шесть месяцев со дня приезда.
И вот Чудаков снова в морском путешествии, спустя двенадцать лет после памятного путешествия из Лондона в Москву. Условия, однако, иные. Роскошный океанский лайнер. Комфортабельные каюты со всеми удобствами. Компания соотечественников – в основном технические специалисты, едущие в Америку за тем же, за чем и Чудаков. Двое из них – молодые соседи Чудакова по столу радостно возбуждены тем, что питание в корабельном ресторане входит в стоимость билетов и еда подается в неограниченном количестве. «Ну, на нас буржуи не наживутся», – радуются инженеры и в первый же обед заказывают столько блюд, что для них едва хватает места на столике.
Второй день плавания преображает Атлантику. Безбрежная торжественная гладь с парящими над ней чайками сменяется злыми, лохматыми волнами и спешащими им навстречу рваными тучами. Удары волн по корпусу огромного корабля отдаются тяжким гулом во всех его закоулках. Начинает качать, и с каждым часом все сильнее. По пассажирским каютам проходят матросы, задраивают иллюминаторы. За обедом соседи Евгения Алексеевича выглядят вяло, едва осиливают по одной порции, а к ужину не выходят вовсе.
На шестой день плавания, когда шторм стих, и над горизонтом, словно вырастая прямо из воды, стали подниматься небоскребы Нью-Йорка, коллеги Чудакова выбрались из своих кают. Они заметно похудели и, слабо улыбаясь, кляли на чем свет капиталистов, приурочивающих плавание к шторму, чтобы отбить у путешественников аппетит и заработать на сэкономленных продуктах. В плачевном состоянии находилась большая часть пассажиров корабля. Чудаков виновато улыбался. Он чувствовал себя как-то неловко оттого, что морская болезнь не брала его. Отшучивался, говоря, что тысячи миль в трясучих автомобилях развили у него иммунитет к качке.
На берегу советских специалистов встретили представители Амторга, отвезли в город, разместили в гостиницах. Чудаков попросил как можно скорее устроить поездку в Детройт, но оказалось, что это не так-то просто. Железнодорожники бастовали, а для автомобильной поездки нужно было найти машину. В следующий по приезде день Евгений Алексеевич решил побродить по городу – осмотреть Нью-Йорк без провожатых, из толпы, «с позиции рядового прохожего», благо знание языка позволяло.
Чудаков вышел из гостиницы «в Америку» рано утром. Окунулся в толчею Бруклинских улиц. Сначала добросовестно старался выполнить познавательскую программу, рекомендованную друзьями и родственниками – музеи, магазины, кинотеатры. Но вскоре стал отклоняться от намеченного плана, а через несколько часов забыл про него вовсе. Ведь Нью-Йорк, как написали о нем Ильф и Петров, это город, «где живет два миллиона автомобилей и семь миллионов человек, которые им прислуживают». С жадным любопытством окунулся московский инженер в автомобильную стихию города, смело двинулся к ее узловым точкам.
Конечно, первое, что бросалось в глаза каждому приезжему, – огромное количество автомобилей в Нью-Йорке. Но Чудаков как специалист сразу подметил некоторые особенности городского «автомобильного стада». Множество типов и марок машин, неравномерная плотность автомобильного потока на улицах, бамперы спереди и сзади, в то время как на европейских автомобилях они еще казались необязательным украшательством. На стоянках вдоль улиц машины располагались так близко одна от другой, что часто для того, чтобы выехать, приходилось, двигаясь враскачку, расталкивать стоящие сзади и спереди автомобили. Помимо бамперов успеху этой операции призвано было служить и распоряжение городских властей оставлять машины на улицах только на свободном ходу и незаторможенными.
Чудаков посетил нескольких дилеров – агентов по продаже машин, внимательно изучил рекламные проспекты предлагаемых моделей. Поинтересовался, как организованы снабжение запасными частями, обслуживание, ремонт и, не жалея времени, двинулся по полученным у агентов адресам. Он успел даже на огромное городское автомобильное кладбище, чтобы понять, какие автомобили считаются в Америке негодными для эксплуатации. В гостиницу вернулся за полночь и нашел у себя в номере записку, что на следующее утро есть место в машине до Детройта. Так завершился первый свободный день Чудакова в Соединенных Штатах.
И вот Детройт, столица автомобильной Америки, колыбель легенды о великом промышленном процветании страны, источник грандиозного мифа под названием «Генри Форд». Здесь, неподалеку от Детройта, в небольшом городке Дирборн – штаб фордовской империи.
Те, кто читал «Одноэтажную Америку» Ильфа и Петрова, без труда вспомнят яркое описание впечатления, которое заводы Форда – первые в мире предприятия конвейерного производства – оставляют у посетителей: «По застекленной галерее, соединяющей два корпуса, в желтоватом свете дня медленно плыли подвешенные к конвейерным цепям автомобильные детали. Это медленное, упорное, неотвратимое движение можно было увидеть всюду. Везде – над головой, на уровне плеч или почти у самого пола – ехали автомобильные части: отштампованные боковины кузовов, радиаторы, колеса, блоки моторов; ехали песочные формы, в которых еще светился жидкий металл, ехали медные трубки, фары, капоты, рулевые колонки с торчащими из них тросами. Они то уходили вверх, то; спускались, то заворачивали за угол. Иногда они выходили на свежий воздух и двигались вдоль стены, покачиваясь на крюках, как бараньи тушки. Миллионы предметов текли одновременно. От этого зрелища захватывало дух. Это был не завод. Это была река, уверенная, чуточку медлительная, которая убыстряет свое течение, приближаясь к устью. Она текла и днем, и ночью, и в непогоду, и в солнечный день. Миллионы частиц бережно несла она в одну точку, и здесь происходило чудо – вылупливался автомобиль… Конвейер движется, и одна за другой с него сходят превосходные и дешевые машины…»
Картина представляла разительный контраст не только с обстановкой на отечественных, по существу, еще полукустарных автомобильных заводах, но и с организацией производства на европейских промышленных предприятиях. До полной конвейеризации выпуска автомобилей было далеко и «Фиату», и «Бенцу», и «Рено».
Присмотревшись к производству на заводах Форда и концерна «Дженерал моторс», Чудаков обратил внимание на то, что и конструкция автомобиля, и технологические процессы быстро меняются. За один только 1929 год, объяснили Чудакову в конторе Форда, было введено в действие 1500 приказов, каждый из которых предписывал два-три усовершенствования конструкции машин и технологии производства. На модели «форд-АА» эта работа привела к изменению конструкции коробки передач, главной передачи, карданного вала, передней оси, рулевого управления. По сути дела, каждые два-три месяца автомобиль заметно обновлялся.
Для того чтобы совершенствовать технологию производства, в цехах изготовляли детали одновременно на двух-трех различных технологических цепочках, определяя таким образом экономические и качественные преимущества технологий. От худших способов производства после двух-трехнедельных сравнительных испытаний отказывались, лучшие оставляли в работе, пока те, в свою очередь, не заменялись еще более совершенными.
Во время пребывания Чудакова на фордовских предприятиях испытания проходили два способа обработки поршней и несколько технологических приемов изготовления шатунов. Даже на складе запасных частей совершенствовалась технология упаковки деталей. Как рассказали Евгению Алексеевичу, работник склада, сумевший уложить в ящик на одну запасную часть больше, чем раньше, получил премию в несколько сот долларов.
К этому времени у Форда было заключено соглашение с советскими организациями о строительстве автомобильного завода в Нижнем Новгороде – известного ныне Горьковского автозавода. Проект сулил компании значительные выгоды, поэтому советских специалистов принимали в Америке с максимально возможным вниманием. Однако когда речь заходила о проектах производственных цехов и размещении оборудования, просьбы советских инженеров о предоставлении соответствующих чертежей, как правило, не выполнялись. «Помилуйте, – заявляли американские специалисты, – таких чертежей практически не существует. Каждый год наши цехи изменяются. И сегодняшние похожи на позавчерашние не более, чем автомобиль 1930 года на самоходную тележку прошлого века».
Прославленные авторы «Одноэтажной Америки» писали:
«Здесь не только текли части, соединяясь в автомобили, не только автомобили вытекали из заводских ворот непрерывной чередой, но и сам завод непрерывно изменялся, совершенствовался и дополнял свое оборудовапие. В литейной товарищ Грозный вдруг восторженно зачертыхался. Он не был здесь только две недели, и за это время в цехе произошли очень серьезные и важные изменения. Товарищ Грозный стоял посреди цеха, и на его лице, озаренном вспышками огня, отражался такой восторг, что полностью оценить и понять его мог только инженер…
– Мы все время паходимся в движении, – сказал мистер Сервисен, – в этом вся суть автомобильной промышленности. Ни минуты застоя, иначе нас обгонят».
Чудаков записал в своем рабочем дневнике: «Американское производство буквально пронизано исследовательской работой, что и дает возможность добиться той низкой стоимости, которой отличаются американские автомобили. В этой исследовательской работе принимает участие практически весь персонал, начиная с главного инженера и специальных конструкторских работников и кончая цеховыми мастерами и рядовыми рабочими, стоящими у конвейера… Огромные размеры исследовательской и опытной работы, которая ведется внутри массового производства американского масштаба, произвели на меня самое сильное впечатление из всего того, с чем мне пришлось познакомиться в области автомобильной техники в Америке».
Впечатление это усиливалось тем обстоятельством, что в широких технических кругах Советского Союза господствовало мнение, будто при сколь-нибудь массовых масштабах производства модернизировать «на ходу» выпускаемые модели и сам завод практически невозможно. В то самое время, когда Чудаков находился в САСШ, в Москве происходила реконструкция завода АМО. Предприятие значительно сократило выпуск машин, некоторые участки и цехи были остановлены почти на год. А на заводах Форда – свыше трех тысяч усовершенствований в год при многосоттысячном, не прекращающемся ни на день выпуске автомобилей отличного качества!
Тут было над чем поразмыслить. Например, над положительной ролью некоторых отрицательных процессов в условиях капитализма, скажем, таких, как промышленной экономический кризис. Падение покупательской способности населения, обострение конкуренции между производителями автомашин поставили фирмы перед жестокой дилеммой – повысить качество и снизить цену автомобилей или же закрыть производство. Десятки мелких и средних компаний не смогли справиться с решением этой задачи и прекратили свое существование. Начали исчезать с дорог марки «статс», «корд», «мармон». Зато автомобили «форд», «крайслер», «додж», «шевроле» стали совершеннее и дешевле.
При цене всего от 500 до 800 долларов за массовые модели крупные компании, устоявшие в конкурентной борьбе, предлагали покупателю добротные и удобные в эксплуатации машины. Руководство компаний прекрасно понимало, что стоит немного отстать от времени, приостановить процесс совершенствования продукции и обновления производства, как конкуренты безжалостно обойдут их и выведут из игры. Поэтому в каждой компании ведущей автомобильной тройки: «Форд», «Крайслер», «Дженерал моторе» – были созданы мощные, обеспеченные всем необходимым конструкторско-исследовательские отделения, где день за днем изобретательно и упорно сотни высокооплачиваемых сотрудников работали над совершенствованием автомобилестроения.
Когда Евгений Алексеевич начал знакомиться с работой этих отделений, он поразился прежде всего принципам оплаты труда инженеров-исследователей. В то время как тысячи работников других специальностей выстаивали в очередях на бирже труда, специалисты Форда и Крайслера получали огромные оклады. Представители фирм постоянно охотились за наиболее способными и известными инженерами, стараясь переманить их к себе.
Хуже всего в этой «погоне за мозгами» приходилось государственным контрольно-исследовательским лабораториям, таким, как представленное Чудакову бюро стандартов. В силу необходимости согласовывать и утверждать оклады государственных служащих дирекция иногда запаздывала с повышением платы способному работнику, и тогда тут как тут оказывались представители частных фирм, предлагавшие заработки, иногда вдвое-втрое превышающие тот, что инженер имел в государственной лаборатории. Не многие могли устоять перед таким соблазном.
Все это свидетельствовало о том, какое огромное значение придается в американском автомобилестроении научно-исследовательским работам. А ведь еще пять – десять лет назад в Америке никто к ним серьезно не относился. Теперь же, как говорится, жизнь заставила. Как сразу понял Чудаков, очень многое из американского опыта ведения научно-исследовательских работ можно эффективно и плодотворно использовать в Советском Союзе. Четыре месяца из пяти, которые он пробыл в Соединенных Штатах, Евгений Алексеевич посвятил изучению и описанию научно-исследовательских отделений в американской автопромышленности.
Был холодный и дождливый декабрьский день, когда длинный черный «кадиллак» правления «Дженерал моторс», предназначенный для встречи почетных гостей, подъехал к массивному девятиэтажному зданию на одной из центральных улиц Детройта. Снаружи это солидное сооружение походило на крупную контору или банк. Здесь помещалась центральная лаборатория концерна «Дженерал моторс». Чудаков удивился, когда услышал, что еще три года назад ничего подобного концерн не имел. Следуя за представителем правления, державшимся весьма любезно, Евгений Алексеевич вошел в здание.
О чем думал он, что вспоминал, переходя из одной лаборатории в другую, осматривая испытательные установки, знакомясь с инженерами-исследователями? Может, вставал в его памяти Михаил Михайлович Хрущев-старший, пытающийся создать новый двигатель на слесарном верстаке спомощью молотка и напильника? Или виделся ему первый экспериментальный бокс Научной автомобильной лаборатории, расположившийся на задворках гаража МВТУ, и главный механик Кузьмич, спрашивавший, как точно надо подогнать деталь – «для глазу или для инструменту?» Или думалось, как спустя почти десять лет после образования НАМИ приходится оборудовать каждую новую лабораторию, «выбивая», «доставая», «изыскивая» буквально все и вся, начиная с гаек и болтов и кончая механиками научными сотрудниками?
Чудаков видел прекрасно оборудованные боксы, испытательные станки, на которых, казалось, можно воспроизвести любые условия работы отдельных деталей, агрегатов и автомобиля в целом. Вибростенд для определения предела прочности металлических частей, морозильная камера, которая давала возможность проверить автомобиль в условиях тридцатиградусного мороза… Ни одна установка не простаивала, нигде люди не сидели без дела. Чудакову сказали, что особо важные с точки зрения качества и экономичности исследования ведутся в две и даже в три смены. Так, например, обстояло дело с поисками заменителей для дорогостоящих цветных металлов и для высококачественных сталей.