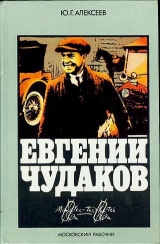
Текст книги "Евгений Чудаков"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 18 страниц)
С тех пор каждый год семья стала выезжать на дачу и проводить там все лето. Вера Васильевна и вдали от столичного общества оставалась городской дамой, а Евгений Алексеевич превращался на Николиной Горе в босого мужичка, разве что только автомобилизированного. На речку ли, по грибы ли – всюду гонял он на юрком «газике». Соседи шутили, что и рыбу Чудаков ловит из окна автомобиля. Но это было несомненным преувеличением – из окна много не наловишь. А Евгения Алексеевича с детских лет в рыбной ловле интересовал не только процесс, но и результат.
В дачном поселке он очень скоро, к удивлению бывалых стариков и ловких мальчишек, завоевал репутацию чемпиона рыбной ловли. Соревноваться с ним на равных мог только его сын Сашка. Летом 1936 года, в канун своего пятнадцатилетия, он, наконец, обошел отца по части улова. Евгений Алексеевич не на шутку расстроился. Пытаясь скрыть свою досаду, он заявил сыну, что такая победа мало стоит – надо отца в серьезном превзойти. Этот случай был одним из немногих, когда дети запомнили отца сердитым.
Вскоре просторный дом стал казаться тесным. Летом на дачу приезжала Павла Ивановна, обожавшая внуков. В отличие от большинства бабушек, она не заласкивала их, не потакала их капризам, а стремилась воспитывать так же, как воспитывала своих троих детей. В доме на видных местах она развешивала собственноручно написанные плакатики с поучительными надписями, вроде такой: «Не откладывай на завтра того, что можно сделать сегодня, ибо сделанное радует, а несделанное томит». Строго следила бабушка, чтобы внуки вовремя являлись к обеду, обязательно помогали по хозяйству. Даром ее усилия не пропали.
Частыми гостями на Николиной Горе были брат Чудакова Николай и сестра Маша, которую Евгений Алексеевич особенно любил. Бывали здесь и двоюродные братья, и другие родственники, и многочисленные друзья. Компания собиралась довольно пестрая и по возрасту, и по профессиям, и по вкусам. Тут уж шахматами всех не займешь. Вера Васильевна взялась обучить мужа, до того в карты никогда не игравшего, игре в преферанс и в винт. Сначала все посмеивались над Евгением Алексеевичем, тщательно записывавшим в составляемые тут же таблицы правила игры и изучавшим эти таблицы, как диаграммы испытаний. Но когда он стал выигрывать раз за разом, да еще у признанных мастеров, смеяться перестали.
– Научный подход обеспечивает успех в любом деле, друзья мои, – объяснял Евгений Алексеевич свои карточные победы растерянным противникам.
Часто всей компанией, набившись в машину, затемно выезжали за грибами «в дальний лес», километров за двадцать от Николиной Горы. «Газик» в таких поездках, кроме транспортного средства, был для Чудакова и постоянным объектом наблюдения. При такой интенсивной эксплуатации в этой самой массовой отечественной машине обнаруживались слабые стороны. Так, однажды на ходу оторвалось и укатилось в лес заднее колесо, словно просигналило: пора, пора идти вперед от устаревающей фордовской модели к более надежным и мощным отечественным машинам.
К 1933 году «форд-А», который всего пять лет назад казался чудом совершенства, обнаружил немало недостатков. На многие из них Чудаков указывал еще в 1930 году, по приезде из Америки. Но тогда самый факт возможности скорого выпуска десятков тысяч вполне работоспособных автомобилей в СССР порождал такой оптимизм, что о недостатках модели и думать не хотелось. Теперь же, когда эти десятки тысяч машин уже работали, несовершенства модели стали, как выразился один начальник гаража, написавший письмо в журнал «Мотор», «больно бить по шее и по карману». Поэтому в 1933 году журнал предоставил Чудакову место в номерах с седьмого по четырнадцатый для обстоятельного изложения мыслей о совершенствовании машин, выпускаемых Горьковским автомобильным заводом.
В статьях под общим названием «Улучшение автомобилей ГАЗ – неотложная задача» Евгений Алексеевич писал, что необходимо:
улучшить систему зажигания, питания двигателя, его подвеску и газораспределительный механизм,
повысить надежность и долговечность сцепления,
повысить износостойкость и надежность коробки переключения передач,
улучшить систему смазки карданов,
увеличить толщину шин,
реконструировать тормозной привод и тормозные барабаны,
пересмотреть конструкцию рулевого механизма,
поставить стеклоочиститель ветрового стекла,
усилить подвеску, и т. д. и т. п., то есть, по сути дела, сконструировать новый автомобиль!
Вывод этот, при всей своей парадоксальности, отражал актуальную тенденцию времени – от копирования зарубежных конструкций, пусть и весьма удачных, переходить к созданию собственных моделей для массового производства. Воплотить эту ясную идею в жизнь, однако, как уже показали опыты с «Руссо-Балтом» и НАМИ-1, было не так-то просто.
На первомайской демонстрации 1933 года колонну ленинградского завода «Красный путиловец» возглавили шесть новеньких, сверкающих автомобилей Л-1. В отличие от всех дотоле созданных отечественных автомобилей это были классные машины. На них стояли восьмицилиндровые двигатели мощностью около 100 лошадиных сил. Цельнометаллические кузова машин были отделаны никелированными деталями, ценными породами дерева и обиты изнутри коричневым репсом. В конструкцию были заложены новейшие решения – масляный радиатор, синхронизаторы переключения передач.
Журналист Аркадий Млодик восторженно писал: «В машине нет ни одной импортной детали. От начала до конца она создана руками советских рабочих и техников, без иностранной помощи, в рекордный восьмимесячный срок со дня начала составления чертежей… Сейчас перед „Красным путиловцем“ стоит огромная задача перейти на массовое производство машины. В нынешнем году он должен дать еще 60, а в 1934 году уже 2 тысячи автомобилей… У Гипроавто уже готов проект реконструкции тракторного завода. Дальнейший выпуск автомобилей закрепит на практике начатую реорганизацию завода для автомобильного производства. Создатели первых шести автомобилей – краснопутиловцы блестяще доказали, что они справятся с массовым выпуском классной и качественно высокой машины точно так же, как в свое время справились с трактором».
Увы, справиться с автомобилем оказалось гораздо сложнее. Модель в целом, несмотря на некоторые прогрессивные технические решения, оказалась безнадежно устаревшей. Перестроить сложившееся тракторное производство на автомобильное не удалось. Снова подтвердилась истина: в автомобилестроении взять быка за рога еще не значит полакомиться говяжьим бифштексом. Для создания и внедрения в производство отечественных конструкций требовалось поднять на новую ступень общий уровень отечественного машиностроения, и особенно уровень конструирования.
Вот, например, колесо. Какие силы действуют на него при качении по прямой, при наезде на препятствие, при повороте? Какая энергия тратится на сжатие баллона, на трение? Какой величины усилия и в каком направлении передаются через колесо подвеске и кузову автомобиля? Как выбрать относительно кузова место расположения колеса, его диаметр, давление воздуха в баллоне, способ подвески, чтобы все силовые отношения были оптимальными, автомобиль двигался устойчиво и по прямой, и на поворотах, шарниры подвески служили долго, а износ шин был минимальным? Заново рассчитывать, находить оптимальные соотношения – этому надо учиться, это надо суметь. Иначе поломки, быстрый износ, то, что было с НАМИ-1, Л-1…
А зубчатое зацепление, скажем, в коробке передач? Количество зубьев на каждой шестерне задается заранее. Но какой высоты должны быть зубья? Как глубоко их зацепление? Какой формы они должны быть и из какого материала делаться, чтобы шестерня работала как можно дольше?
За рубежом эти вопросы решались в основном путем дорогостоящих экспериментальных проверок-подборов. Их результаты фирмы держали в секрете, а решения, используемые в конкретных автомобилях, патентовали. Базой для теоретических расчетов по-прежнему служили принципы, выработанные еще в девятнадцатом веке.
Чудаков занялся разработкой общих методов расчета основных узлов автомобиля на современном уровне. Вскоре был опубликован его труд «Новый метод расчета шестерен». В нем предлагался универсальный для любых машин и зацеплений способ проектирования шестерен, который позволял уменьшить их размеры на 25–30 процентов, а износ – в 2–3 раза. Создать новые методы расчета колеса с шиной низкого давления оказалось посложнее. Как обнаружил Евгений Алексеевич, такое колесо имеет в процессе движения пять радиусов!
Надо было заканчивать писать полный курс теории автомобиля, начинать составление инструкций по эксплуатации отечественных автомобилей, простейших курсов устройства автомобиля для шоферов и работников автохозяйств. Даже к самым массовым моделям – ГАЗ-А и ГАЗ-АА – инструкции не прилагались, несмотря на то, что имелись аналоги для фордовских прототипов.
В 1935 году партия выдвинула лозунг: «Кадры решают все». К этому времени Чудаковым уже была проделана огромная работа по обеспечению советского автомобилизма квалифицированными кадрами. Созданная им «Теория автомобиля» стала основным пособием для подготовки автомобильных инженеров. В книге впервые было дапо систематическое изложение вопросов динамики и экономики автомобиля, намечена разработка его устойчивости.
Появившиеся в 1933–1935 годах работы Чудакова «Устройство автомобиля», «Смазка автомобиля», «Автомобили ГАЗ. Устройство, уход, ремонт», рассчитанные на шоферов и работников гаражей, стали самой массовой автомобильной литературой, позволили в короткий срок поднять профессиональный уровень автотранспортников, улучшить эксплуатацию автомобильной техники.
Удивительный дар Чудакова всегда быть современным проявился на этот раз в том, что он, профессор, член-корреспондент Академии наук, сумел оказать непосредственную профессиональную помощь сотням тысяч людей, решая вопросы автомобилизма на всех уровнях и в любых масштабах, как того требовали обстоятельства. Были в то время в советском автомобилестроении и другие крупные фигуры, такие, как директор ЗИСа Иван Алексеевич Лихачев или конструктор Горьковского автозавода Андрей Александрович Липгарт. Но, пожалуй, тем, кого знал каждый шофер, кому писали автомеханики и с кем советовались наркомы, человеком номер один в автомобильном деле в середине тридцатых годов стал именно Евгений Алексеевич Чудаков. В это же время наметилась та тенденция в его деятельности, которую можно назвать отходом от «чистого автомобилизма».
Апрель в 1935 году выдался теплый и какой-то особенно светлый, радостный. Даже прокол шины на полдороге от НАТИ к дому не опечалил Евгения Алексеевича. Он поставил автомобиль у тротуара и, перебравшись через огромную весеннюю лужу, пошел домой «своим ходом». Навстречу шагали строем осоавиахимовцы. К майским праздникам укрепляли на здании огромный портрет Сталина. На тумбы клеили свежий выпуск «Вечерней Москвы». Евгений Алексеевич остановился у газеты.
«…Вчера лорд – хранитель печати господин Иден совершил в Москве поездку на метро…»
«…Вчера вечером из московского порта Дирижаблестроя вылетел в Ленинград учебно-тренировочный дирижабль „СССР В-2“. На всем пути дирижабль, несмотря на ночное время, прекрасно ориентировался по сигнальным маякам и непрерывной радиосвязи…»
«…Домну № 6 – задуть в срок!..»
«…Рассматривая выставку произведений Кончаловского, сравнивая сделанное им раньше с написанным за последние два года, приходишь к выводу, что художник повторяет самого себя. Чтобы добиться новых творческих побед, художник должен выйти за пределы своего дома, своих интимных тем…»
«…Снова китайская Красная Армия привлекает внимание мировой буржуазной печати. На днях серьезный лондонский „Таймс“ открыто вынужден был признать ее силу…»
«…На очередном заседании московского отделения Автодора рассмотрены оригинальные модели автомашин, созданные изобретателями-самородками Московской области…»
«Нет, – подумал Евгений Алексеевич, – изобретатели-самородки наших проблем не решат…» Зашагал дальше, размышляя о том, что появляются новые советские корабли, самолеты, автомобили, а с ними – новые сложные вопросы. Бьются над ними кораблестроители, самолетостроители, автомобилисты и часто, как в сказке, «тянут-потянут, а вытянуть не могут». Хотя и победы немалые. Но тем более обидно, когда катера не так быстроходны, как требуется, когда из строя выходят хорошие вроде бы самолеты, когда отечественные автомобили не удается сделать дешевле и надежнее зарубежных…
А что, если объединить усилия машиностроителей разных профилей? Ведь проблемы трения и износа металлов, конструирования двигателей, создания принципов надежности и многие-многие другие – общие для разных сфер машиностроения. Значит, преодолевая отраслевое честолюбие, надо создавать какой-то межотраслевой орган, разрабатывающий общие проблемы. Тянуть эти «репки» сообща – и дедке, и бабке, и Жучке, и внучке, и кошке, и мышке. Надо отодвинуть на второй план бесконечные споры о том, что важнее – автомобиль или самолет, не боясь новых проблем на пути к тому, чтобы надежно решить старые.
Дома Евгений Алексеевич, едва перекусив и рассеянно ответив на вопросы Веры Васильевны, на что она уже привыкла не обижаться, закрылся у себя в кабинете. Любознательные дети вскоре установили, что папа против обыкновения не чертит на бумажках обычные «стрелочки» и «колесики», а на большом листе ватмана рисует квадратики, связывая их линиями и надписями… Полоска света под дверью кабинета не гасла далеко за полночь.
А через несколько дней Чудаков обратился в президиум Академии наук СССР с предложением создать при академии комиссию машиноведения. К обширной пояснительной записке был приложен лист ватмана, на котором наглядно и просто были представлены структура комиссии, ее связи и отделы. Когда члены президиума ознакомились с материалами, они удивились, почему ничего подобного не было создано раньше.
Вскоре решение о создании комиссии машиноведения было принято. Ее председателем назначили Евгения Алексеевича Чудакова.
10. Новые горизонты
Шестнадцатого марта 1936 года с конвейера Горьковского автозавода сошел автомобиль, совсем непохожий на привычный угловатый «газик». Вместо открытого, под матерчатым верхом кузова – закрытый цельнометаллический, красивых скругленных обводов. В кузове – четыре двери с опускными стеклами и форточки «для бессквозняковой вентиляции». Передвижное – под рост – сиденье водителя. Удобно расположенная прямо над рулевой колонкой комбинация приборов в двух круглых циферблатах. Счетчик суммарного и суточного пробегов. Даже зажигалка-прикуриватель. В общем – комфорт на уровне международных стандартов. Да еще основательно модернизированный двигатель – на 10 лошадиных сил мощнее по сравнению с двигателем автомобиля ГАЗ-А, новые коробка передач, руль, тормоза. Вот во что вылились рекомендации Чудакова по улучшению «газика», воплощенные в конкретные конструкции специалистами Горьковского автозавода.
Новая модель получила наименование М-1. Несмотря на некоторую схожесть ее форм и размеров с моделью «форда» 1934 года, «эмка» была заново рассчитана, имела много оригинальных узлов и поэтому вполне заслуженно стала считаться первой полностью отечественной машиной, пошедшей в крупносерийное производство.
Коллективом инженеров, спроектировавших М-1, руководил сорокалетний Андрей Александрович Липгарт, главный конструктор Горьковского автозавода, впоследствии профессор, лауреат трех Государственных премий. В его бригаду входили Анатолий Маврикиевич Кригер, теперь главный конструктор ЗИЛа, лауреат трех Государственных премий, Лев Васильевич Косткин, впоследствии главный конструктор и ученый секретарь Министерства автомобильной промышленности СССР, и другие молодые конструкторы. Все они учились автомобильному делу у Чудакова, проектировали новый автомобиль по его теоретическим пособиям.
М-1, или «эмка», «эмочка», как ласково называли ее шоферы и пассажиры, оказалась на редкость удачной машиной.
Во-первых, она была удобной в производстве, технологичной. Уже до конца 1936 года ГАЗ выпустил более 2,5 тысячи этих автомобилей и продолжал выпускать «эмку» и ее модификации еще двенадцать лет.
Во-вторых, М-1 стала родоначальницей целого семейства различных «эмок» – легковых модификаций, пикапов и вездеходов. Ее двигатель установили и на грузовик ГАЗ-АА, который после этого стал называться ГАЗ-ММ. Коробка передач оказалась настолько удачной, что пережила модель и с незначительными усовершенствованиями вошла в конструкцию автомашины «Победа».
В-третьих, М-1 отличалась особой прочностью, долговечностью. Во время войны «эмка» была основной штабной машиной, хотя первоначально для такой роли не предназначалась. Многие «эмки» не только успешно прошли через годы военных испытаний, но и продолжали исправно работать десятилетия спустя, когда выпуск модели уже прекратили. И сейчас, в восьмидесятые годы, нет-нет да и встретишь в густом потоке машин на улице большого города непривычно высокую, степенную «эмочку». Благодаря крепкой, отлично сконструированной раме – никаких перекосов, двери закрываются не хуже, чем сорок лет назад…
В конце апреля 1936 года из ворот Московского автозавода имени Сталина выехали два больших длинных автомобиля непривычной формы, один черный, другой вишневый. Оба не просто блестели свежей краской, а сияли зеркальным блеском. Под капотами машин почти бесшумно работали восьмицилиндровые стодвадцатисильные двигатели. В кабинах расположились руководители завода во главе с Лихачевым.
Машины направлялись в Кремль. Въехав на его территорию, они остановились под окнами квартиры наркома тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе. Нарком внимательно осмотрел машины и признал, что «требованиям классного автомобиля они соответствуют». Через некоторое время новая модель, получившая наименование ЗИС-101, стала серийно выпускаться на ЗИСе.
Крупные победы во второй половине тридцатых годов одержали и советские авиастроители. Были построены гигантские цельнометаллические самолеты конструкции А. Н. Туполева, быстроходные маневренные истребители Н. Н. Поликарпова, учебно-тренировочные самолеты А. С. Яковлева. На всех этих машинах стояли отечественные двигатели, созданные под руководством А. А. Микулина, В. Я. Климова, А. Д. Швецова. Высокое качество машин было доказано всему миру.
В мае 1937 года самолеты впервые сели на Северном полюсе. Это были советские машины Ант-6. В июне того же года В. П. Чкалов на самолете Ант-25 совершил легендарный перелет из СССР в США через Северный ледовитый океан. Машина находилась в воздухе 63 часа. Все это время бесперебойно работал двигатель АМ-34 конструкции А. А. Микулина. Спустя месяц на этом же маршруте экипаж М. М. Громова на самолете Ант-25–1 пролетел без посадки более 11 тысяч километров, установив сразу два мировых рекорда дальности полета.
Общий уровень развития авиационной промышленности определялся цифрами, превосходившими в то время аналогичные показатели почти всех промышленных стран мира: в тридцатые годы в СССР одних только самолетов-истребителей было построено более 13 тысяч, а тяжелых бомбардировщиков – более тысячи. Объем производства самолетов во второй пятилетке увеличился по сравнению с первой в 5,5 раза.
Автомобильная промышленность СССР в 1937 году выпустила около 200 тысяч машин. По общему уровню производства автомобилей страна вышла на пятое место в мире, опередив такие государства, как Италия и Япония (выпуск автомобилей в Японии 1937 года составил около 20 тысяч штук – в 10 раз меньше, чем в СССР). По производству грузовиков СССР занимал второе место, уступая только США.
Не меньшие успехи были достигнуты в других отраслях машиностроения. К концу второй пятилетки отечественные предприятия ежегодно изготовляли десятки тысяч тракторов и металлообрабатывающих станков, тысячи ткацких станков, паровых и газовых турбин, электродвигателей, паровозов и других машин. Страна вошла в число крупнейших промышленных держав мира.
Однако новые достижения порождали новые проблемы и возводили старые, казавшиеся незначительными, в ранг первостепенных. Так, проблемы износостойкости машин, их энергоемкости, удобства в обслуживании и эксплуатации, заботившие раньше лишь автомобилистов или тракторостроителей, авиационников или энергетиков, благодаря широкому распространению машин и внедрению их во все сферы жизни стали проблемами всего народного хозяйства. Экономический эффект либо экономические потери от тех или иных массовых конструкций оборачивался миллионами рублей.
Взять, например, трение. Считалось, что оно приводит к износу благодаря простым механическим явлениям. Однако при более внимательном рассмотрении оказалось, что износ при трении обусловливается помимо механических многими другими факторами – тепловыми, физико-химическими. Изучение всех этих явлений и применение на практике полученных выводов сулило значительное увеличение срока службы машин, экономию в масштабах страны огромных средств.
Или резание металлов – самый распространенный технологический процесс в машиностроении. Считалось, что процесс этот достаточно хорошо изучен. Но в тридцатые годы благодаря широкому разворачиванию стахановского движения выяснилось обратное. Рекорды ставили шахтеры и кузнецы. А токарям и фрезеровщикам – рабочим самых массовых профессий – добиться высоких результатов не удавалось. При увеличении скоростей обработки металла ломались резцы, тупились фрезы и сверла. Наука не могла предложить производству ни высокоэффективной технологии, ни новых режущих материалов.
А сами методы конструирования машин? Подобно тому, как в девятнадцатом веке на флоте вязали веревки морскими узлами, а в кавалерии – драгунскими, в разгар промышленной революции двадцатого века специалисты различных отраслей машиностроения для решения одних и тех же задач пользовались разными, зачастую не лучшими приемами проектирования.
Да еще проблема научных кадров. Для того чтобы вырастить ученого высшего класса, опытного и эрудированного, нужно пятнадцать – двадцать лет. С Октября едва минуло двадцать, минус четыре года гражданской войны – и пять лет разрухи. Старых специалистов, принявших революцию, осталось мало. Ученых академического уровня по каждому профилю техники в стране насчитывались немногие десятки, а зачастую всего единицы. Самолетчики старались перетянуть их в свое ведомство, автомобилисты – в свое, да и металлурги и представители других отраслей машиностроения не дремали – тянули к себе. Кто-то, самый ловкий и энергичный, оказывался в выигрыше. Все вместе – проигрывали.
И тут на авансцену истории вышел, как написали бы журналисты тридцатых годов, или на передовую технического прогресса встал, как сказали бы в семидесятых, а проще – в президиум Академии наук пришел Евгений Алексеевич Чудаков. Он предложил организовать в системе академии новый мощный научно-исследовательский институт – НИИ машиноведения, моделью которого была созданная им же двумя годами раньше комиссия машиноведения Академии наук СССР.
По замыслу Чудакова, институт должен был объединить под своей крышей ведущих ученых по проблемам, общим для всего машиностроения, – теории машин и механизмов, принципам конструирования и расчета деталей машин, теории трения и износа, теории резания металла. Эти четыре направления определяли и структуру будущего НИИ – в нем должно было быть четыре отдела. Предложение Чудакова опять оказалось удивительно своевременным. Но институт не комиссия. Организовать его много сложнее и дороже. При всей бесспорности основополагающей идеи на пути создания нового НИИ возникли серьезные трудности.
«Ну, – может подумать въедливый читатель, – много ли заслуги в том, что институт предложил организовать? Наверное, хотел стать директором! До того ведь таковым не являлся, в НАМИ – НАТИ двадцать лет был замом, хотя и называли все хозяином». Что ж, ответим не стесняясь. Да, возможно, и хотел стать директором. Здоровое честолюбие Евгению Алексеевичу не было чуждо. Он и лекцию-то старался прочитать так, чтобы студентам понравилась – тогда запомнят лучше. И молодой жене пообещал свою фамилию прославить – чтобы уверена была в будущем. Предлагая проект Института машиноведения, Чудаков хотел возглавить его, потому что чувствовал к тому и возможность, и необходимость в том.
В НАМИ двадцатых годов Евгений Алексеевич еще не ощущал себя специалистом номер один. Директором института был Брилинг, человек более авторитетный и более известный в то время среди автомобилистов. В тридцатых годах НАМИ, преобразованный в НАТИ, изменился не только по названию. Его функции стали более утилитарными, чем, как считал Чудаков, требуется для головного института отрасли. Отделы и лаборатории НАТИ частенько подменяли заводские КБ, вместо того чтобы сосредоточиваться на глубокой разработке общих автомобильных и тракторных проблем.
Изменился и сам Евгений Алексеевич. В двадцатые годы он превратился из хорошего автомобильного инженера в специалиста высокого класса и широкого профиля, в умелого организатора, опытного педагога. В тридцатые – поднялся еще выше: стал крупным ученым с большим экономическим и социальным кругозором, способным ставить и решать фундаментальные вопросы технического прогресса. Как альпинисту, совершившему восхождение на Монблан, хочется карабкаться на Эверест, но не на Ай-Петри, так и Чудакову хотелось стать директором, но не какого-нибудь, а именно этого, академического, НИИ, столь нужного и науке и стране. Хотелось добиться этого честно, без интриг и служебных маневров.
В какие-то моменты казалось, что осуществить, как задумано, идею нового института не удастся. Но Чудаков не желал изменять своим принципам даже во имя дела. В нем жила какая-то глубинная убежденность в том, что порочный человек и работу будет делать порочно. И вера в то, что правое дело обязательно восторжествует. Тем более что до сих пор его собственные принципы не подводили.
Когда Чудаков организовывал Научную автомобильную лабораторию, для воплощения идеи в жизнь нужно было найти сарай-гараж, два-три лабораторных помещения, простейшее оборудование да подобрать десяток сотрудников-специалистов. Спустя двадцать лет для Института машиноведения потребовалось найти большое здание, раздобыть оборудования на сотни тысяч рублей, а главное – набрать в штат около ста человек высококвалифицированных ученых-исследователей. И все это в то время, когда шла война в Испанип, когда международная обстановка заставляла нас быть настороже, когда наша страна испытывала большие трудности.
Но жизнь продолжалась. И много теплого, хорошего, человечного оставалось в ней.
Вера Васильевна Чудакова бережно достает связку старых журналов. Это «Огонек» 1937 года. Семья стала подписываться на него еще в 1930-м…
«…Всесоюзная Пушкинская выставка. Молодые люди осматривают экспонаты. Подпись под фотографией: „Выставку осматривает праправнук поэта Г. Г. Пушкин – командир Красной Армии…“»
«…Репортаж из Института косметики и гигиены…»
«…Статья доктора И. Вассермана о возвращении зрения с помощью пересадки роговой оболочки…»
«…Советские скрипачи – обладатели наград конкурса скрипачей в Брюсселе: Давид Ойстрах, Лиза Гилельс…»
«…101 день в Арктике, рейд ледокола „Красин“…» «…К 125-летию со дня рождения А. И. Герцена…»
«…В. Маяковский. „Париж“. Очерк. „…Бурже – это находящийся сейчас же за Парижем колоссальный аэродром. Здесь я получил действительно удовольствие…“»
На последних страницах, как обычно, реклама:
«…В 10–15 минут готов обед из трех блюд! Покупайте пищевые концентраты!!! Имеются в продаже: суп-пюре гороховый, каша гречневая, лапшевник с молоком, кисели клюквенный и молочный…»
«…Лучший отдых – путешествие по СССР. Туристско-экскурсионным управлением ВЦСПС на сезон 1937 года открыты туристские маршруты по Крыму, Кавказу, Черноморскому побережью Кавказа, Алтаю, Украине, Заполярью, Волге, озеру Селигер, Беломоро-Балтийскому каналу имени товарища Сталина…»
«…Читайте и выписывайте журнал „Игрушка“…»
«…Лучшие цветочные одеколоны сильного запаха „Мимоза“, „Орхидор“, „Душистый горошек“ – ТЭЖЭ…»
«…Дальневосточные крабы – лучший деликатес. Требуйте крабовые консервы во всех магазинах Главрыбы, в гастрономах, буфетах и ресторанах!!!»
Ровно и спокойно, иногда с чуть заметными юмористическими нотками в голосе Евгений Алексеевич читал подобные тексты, и, как вспоминает один из родственников, многие тревоги забывались.
Для того чтобы добиться не только решения о создании Института машиноведения, но и обеспечить проведение этого решения в жизнь, то есть получить помещение, оборудование, возможность привлечь к работе крупных специалистов, Чудакову пришлось посетить тридцать семь человек – начиная от президента Академии наук СССР В. Л. Комарова и кончая начальниками заводских цехов и заведующими мастерскими. Пришлось доказывать необходимость создания института в нескольких министерствах. На все это ушло немало времени. Но в конце концов летом 1939 года на довольно запущенное, но просторное здание по Малому Харитоньевскому переулку была торжественно водружена мраморная доска с надписью: «Институт машиноведения АН СССР». На кабинете директора института появилась неброская табличка: «Е, А. Чудаков».
Один из главнейших физических законов гласит, что энергия не исчезает. Чудаков шутил, что этот принцип верен не только в физике. Поскольку на создание Института машиноведения Чудаковым было затрачено энергии столько, что хватило бы на два-три подобных института, оставшаяся часть должна была дать некий дополнительный эффект. Так оно и получилось.
В ноябре 1939 года на сессии Академии наук СССР тайным голосованием Евгений Алексеевич Чудаков был единогласно избран в число действительных членов академии. А еще через месяц Чудаков стал вице-президентом Академии наук. Годом позже он получил «за выдающиеся заслуги в области научно-исследовательских работ по автомобильной технике» первую награду – орден Трудового Красного Знамени.
Из НАТИ пришлось уйти. Работа в Бронетанковой академии, в Академии наук СССР и в Институте машиноведения не оставляла времени для автотракторного института. Грустно было его покидать – ведь Евгений Алексеевич создал НАМИ – НАТИ и проработал в его стенах двадцать с лишним лет.
Еще один этап начался в жизни Чудакова. Его можно было бы назвать этапом высокого уровня и в то же время этапом проблем и парадоксов. Занимаясь всю жизнь автомобилями, получив популярность и признание как ученый-автомобилист, Евгений Алексеевич вдруг как-то для себя самого незаметно, лишился возможности отдавать всю свою энергию непосредственно автомобильным исследованиям. Став в 1935 году доктором наук, потом академиком, Чудаков обнаружил, что у него нет времени для сугубо научной работы – все дни оказались занятыми организационной и административной деятельностью. Как быть?








