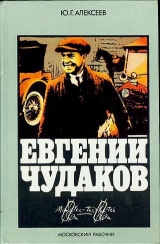
Текст книги "Евгений Чудаков"
Автор книги: Юрий Алексеев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 18 страниц)
То, что Евгений Алексеевич сделал, пересмотрев свой распорядок дня, нынче в масштабах предприятий называют реализацией внутренних резервов. Все свое время, за исключением того, когда необходимо есть и спать, Евгений Алексеевич разделил на три части. Будни он отдал организационной работе на постах заведующего кафедрой Бронетанковой академии, директора Института машиноведения, вице-президента Академии наук СССР. Эти заботы поглощали время целиком, до последней минуты.
А вечером Чудаков становился сам себе хозяином. Он быстро ехал домой и там начинал научную конференцию или теоретические занятия с сотрудниками, которые, как правило, уже дожидались его в гостиной. Из гостиной, попив чаю, переходили в кабинет Евгения Алексеевича и принимались «двигать науку». Молодые ученые и аспиранты, только познакомившиеся с Евгением Алексеевичем, бывали удивлены тем, как запросто, после десяти-пятнадцатиминутного разговора по научной проблеме, академик приглашает их к себе домой. «Чудаковские вечера» быстро приобрели известность среди машиностроителей.
К часу-двум ночи «бдения» обычно входили в кульминационную фазу. Ломая карандаши и перья, потрясая расчетами и диаграммами, собравшиеся в кабинете Евгения Алексеевича доказывали каждый свою точку зрения. Занимались бы и ночь напролет, если б не Вера Васильевна. Прямая и строгая, она входила в кабинет, как учительница в класс к трудновоспитуемым подросткам, и произносила вежливо, но твердо: «Товарищи, спокойной ночи!» Ученые мужи возвращались к прозаической действительности. Осознав, который час, они смущенно раскланивались и быстренько покидали квартиру. А в ближайший вечер появлялись снова.
Ну а когда же Евгений Алексеевич писал? Ведь только в 1939 году в свет вышли его «Переходные кривые для автомагистралей», «Устойчивость оси автомобиля против бокового заноса», «Развитие автомобильной промышленности в СССР», «Работы Академии наук СССР в помощь строительству Куйбышевского гидроузла», «Проблемы научно-исследовательской работы в области машиностроения», «Конференция по проблеме трения и износа в машинах» и другие труды (всего четырнадцать названий). И для писания Евгений Алексеевич ухитрился найти место в своем сверхуплотненном распорядке!
Авторскую работу, которую Чудаков считал отдыхом, он выполнял в выходные дни и в дороге, когда езда в машине была продолжительной. Правда, пришлось кое-какие изменения внести в быт семьи. Прежде всего на жертву пошел сам Евгений Алексеевич. Как ни любил он водить автомобиль, копаться в моторе, смазывать и регулировать – передал эти заботы, столь сладкие для любого автолюбителя, шоферу и механику. Потом настал черед Веры Васильевны. С «должности» блюстительницы чистоты, создательницы завтраков и обедов она была «переведена», не без протестов с ее стороны, в секретари-машинистки. Порядок и деловая атмосфера «чудаковских вечеров» держались на ней. Ей же приходилось в выходные дни под диктовку Евгения Алексеевича перепечатывать большую часть его трудов.
Тут, пожалуй, у читателя может возникнуть некоторое недоверие. «Что-то уж слишком гладко протекала жизнь семьи. Ни потрясений, ни конфликтов. Малоправдоподобно!» – усомнится скептик. Тем не менее атмосфера удивительного дружелюбия, готовности к взаимопониманию, такта, терпимости создана была в семье Евгения Алексеевича и Веры Васильевны в первые годы их совместной жизни и стала основой их семейных отношений на все последующее время. Да и сейчас, много лет спустя, когда главы семейства уж нет, его жена, дети, внуки живут на удивление дружно. Хозяйкой дома, как и десять, тридцать, пятьдесят лет назад, почитают Веру Васильевну. Она же, в свою очередь, являя собою образец ясности мысли и глубокой интеллигентности, не навязывает младшим своих вкусов, своего миропонимания. Люди в семействе все разные. Приучены говорить друг другу правду. Но ведь и говорить-то можно по-разному!
Как-то, еще в двадцатые годы, Вера Васильевна пожаловалась мужу на подругу, которая «ни с того ни с сего» вдруг с ней рассорилась. Вера, добра желая подруге, объяснила, почему той не идут туфли на высоком каблуке.
А та – надо же – надулась и хлопнула дверью! Евгений Алексеевич терпеливо, не перебивая, выслушал сетования жены. А когда она высказала все, что думает «про эту кривляку», принялся рассказывать историю, к данному случаю вроде бы отношения не имеющую.
…В некотором царстве, в восточном государстве жил султан. В меру суровый, как и подобает султану, но не в меру суеверный. Во дворце его всегда окружала толпа звездочетов-прорицателей. Султан не очень-то верил им, понимая, что, будучи людьми неглупыми, они, изучив его характер, сообщают ему не то, что читают на небесах, а то, что ему хотелось бы услышать. Легко представить радость султана, когда ему сказали, что в городе остановился паломник из далекой страны, известный своим ясновидением.
И вот паломник предстал пред ясные очи владыки.
– Скажи мне без утайки, чародей, что ожидает меня в жизни? И горе тебе, если попытаешься меня обмануть! – молвил султан.
– Я сделаю, как ты велишь, высокочтимый, – ответил ясновидец.
И хотя он был молод, взялся за дело умело и истово. Два дня выяснял подробности жизни владыки и всех его близких, две ночи глядел в небеса через диковинные трубы. На третий день молодой предсказатель вновь очутился перед султаном.
– О, сиятельный, – сказал он, – скрепи свое сердце. Тебя ждут тяжелые испытания – ты потеряешь всех своих родственников.
Услышав такое, владыка опечалился. И от расстройства велел отрубить ясновидцу голову. Но, как говорится, трудности не испугали султана. Когда в городе остановился очередной знаменитый пророк, он и его пожелал послушать, опять же предупредив о каре за вранье.
И этот кудесник оказался человеком добросовестным. Несмотря на свой преклонный возраст, он с не меньшим усердием проделал все то, что и печальной памяти его молодой предшественник. А представ в конце концов пред грозным правдолюбцем, молвил так:
– О, великий, высокочтимый, всемилостивейший и всемогущий! Радостную весть должен сообщить я тебе! Ты переживешь всех своих родственников!
И султан возрадовался, одарил предсказателя мешком золота, дал ему охрану в дорогу…
Объяснять смысл этой притчи Вере не понадобилось. С тех пор она следила за тем, чтобы в доме Чудаковых никто не задевал друг друга неосторожным словом, не добавлял «конфликтов по недоразумению» к истинным проблемам. А такие конечно же существовали и в семье Евгения Алексеевича. И главной проблемой, как и во многих других семьях, были дети.
Летом 1938 года сыну исполнилось семнадцать. Как надеялся на это время Евгений Алексеевич! Как ждал, что поступит Саша в МАДИ, или в МАМИ, или в МВТУ! Не случайно ведь и машинки дарил сыну с семимесячного возраста, и управлять «газиком» научил в пятнадцать лет.
Но Саша полюбил автомобиль по-своему. Если для Чудакова-отца он был символом прогресса, сгустком интереснейших технических решений, наконец, дорогостоящей и редкостной игрушкой, то для Чудакова-сына, чуть ли не в автомобиле родившегося и окруженного автомобилями все детские годы, машина стала не более чем средством передвижения. Водить Саша научился великолепно. И ухаживать за машиной, беречь ее отец приучил. А вот увлечь сына усовершенствованием автомобиля, тайнами создания новых машин не удалось.
Не пожелал Чудаков навязывать сыну свою волю. В семье считали, что излишняя опека вредит детям. Поэтому к решению Саши после школы в вуз не поступать, а пойти работать, поискать свою профессию, свое место в жизни отнеслись спокойно. Мать и отец досады не выказывали, эмоции сдерживали.
Вскоре Александра призвали в Красную Армию. Оценив его навыки автомобилиста-практика, определили в автобронетанковые войска. В гараже, во время ремонта машины, случилось несчастье. Упавшая тяжелая деталь серьезно повредила Саше руку. Результат – увольнение в запас.
А Таня? Втайне Евгений Алексеевич и Вера Васильевна, вдохновленные прекрасной игрой актеров МХАТа и Малого театра, куда с ними регулярно ходила и Таня, мечтали, что дочь изберет профессию актрисы или театроведа. Но мечты их не сбылись. Смотреть спектакли Тане нравилось, а играть самой – нисколько. На Николиной Горе устраивались, несмотря на занятость Евгения Алексеевича, семейные вечера «с чаями, вареньями и романсами». Глава семейства с удовольствием брал в руки гитару, тихонько наигрывая, выводил приятным баритоном: «Я вновь пред тобою стою очарован и в ясные очи гляжу…» или «Страстью и негою сердце трепещет…», а глазами искал дочку, надеялся, что вот подхватит, поведет… Но Таня только тихонько подпевала.
Правда, родители заметили, что дочь неплохо рисует и рисовать любит. Но трудно было усмотреть в этом будущую профессию. И волновались Чудаковы, и переживали – девочке уже пятнадцать, а ярких устремлений не заметно.
В то время расцвело массовое физкультурное движение. Все праздники сопровождались спортивными парадами. Молодежь так увлекалась спортом, что и старшие начинали нестерпимо хотеть плавать баттерфляем и «вгонять мяч пушечным ударом с правой в верхний левый угол ворот». Саша и Таня Чудаковы прекрасно бегали, плавали, научились фехтовать, ездить верхом, играть в теннис. Перед теннисом не устоял и их отец, благо один из его друзей, тогда молодой преподаватель МАМИ, а ныне доктор технических паук профессор этого института Борис Семенович Фалькевич, игравший на уровне первого разряда, взялся обучить Евгения Алексеевича. К великой его радости, врачи не возражали, даже сказали, что академику при всех его недомоганиях полезно быть в движении на свежем воздухе. И вот Чудаков в сорок восемь лет начал учиться играть в теннис.
Тем, кто учился этой игре, известно, что такое теннисная стенка. Каким унылым и тягучим занятием кажется взрослому человеку долгое, однообразное «битье стенки мячиком»! Но профессионалы знают другое – без регулярных и интенсивных упражнений у стенки нет хорошего теннисиста. Евгений Алексеевич стал регулярно, два-три раза в неделю, проводить по часу перед теннисной стенкой, ничуть не смущаясь удивленными взглядами тренировавшихся тут же мальчишек и девчонок. Он овладевал теннисом так же, как привык делать все остальное – методично, вдумчиво, увлеченно. И через год-другой уже мог играть довольно сносно. Особенно, если «заводился».
Как-то летом, гуляя в окрестностях Николиной Горы, Чудаков забрел на территорию санатория, в котором отдыхал Микулин. Среди своих коллег Александр Александрович был известен как человек очень спортивный. Теннисом он начал заниматься еще в начале двадцатых годов. Зная, что Чудаков недавно научился играть, Микулин предложил часок-другой «потренировать» его. В интонациях бывшего подчиненного по НАМИ Чудаков уловил снисходительность и – «завелся». После короткой разминки на корте, к удивлению Александра Александровича и собравшихся зрителей, Евгений Алексеевич предложил играть на счет. И выиграл у аса три сета подряд! Потом, правда, пролежал два дня с сердечным приступом, но об этом помалкивал. Зато Микулину не раз в шутку «припоминали», как он Чудакова «тренировал».
Конец тридцатых годов… Актриса Людмила Гурченко вспоминает: «Пели все! И я не помню грустных людей, грустных лиц до войны. Я не помню ни одного немолодого лица. Как будто до войны все были молодыми». Но через оптимизм и веселье просачивалась тревога. Облик надвигающейся со всех сторон войны прорисовывался все яснее.
Испанские события, Халхин-Гол, гитлеровский аншлюс Австрии и Чехословакии, нападение Германии на Польшу, вступление в войну Франции и Англии. Хотя до июня 1941-го оставалось еще почти два года, зловещие предвестия войны обнаруживались почти во всех сферах жизни.
Тому, кто сейчас листает подшивки журналов или газет тех лет, бросается в глаза военная тематика. В журнале «Огонек» за 1938 год – повесть Л. Лагииа «Эпизоды будущей войны», очерк К. Лани «Охотники за тапками»… За два года до этого в журнале «Мотор» появилась статья 10. Клейнермапа о Берлинской автомобильной выставке 1936 года. «Автомобильная промышленность Германии за последние несколько лет превратилась в отрасль военной промышленности», – писал автор.
К концу тридцатых годов гитлеровская Германия имела около 2 миллионов автомобилей, среди которых большую часть составляли шести-семитонные быстроходные грузовики для переброски войск и армейских грузов в условиях военных действий. Более 90 процентов этих машин были приспособлены для работы на дизельном, газовом и других видах дешевых, легкодоступных топлив. Новые модели легковых «мерседесов», «опелей», «фольксвагенов» отличались высокой маневренностью, проходимостью, прочностью, нетребовательностью к горючему – теми качествами, которые важны для штабных автомобилей. Особо широко были представлены среди новых моделей вездеходы и трехоски.
И Чудакову пришлось львиную долю своего времени тратить на разработку военной техники. Вопросов, требующих решения, в этой сфере накопилось более чем достаточпо, начиная с локальных: почему, например, при крутых поворотах у бронемашин и танков ломаются полуоси, и кончая самыми общими: что важнее для танка – быстроходность или проходимость?
Известный конструктор советских боевых машин Герой Социалистического Труда Николай Александрович Астров вспоминает:
«Разношерстная компания конструкторов, в которую и меня, как говорится, занесла нелегкая, принялась в соответствии с требованиями момента проектировать некую чудо-машину. По нашему замыслу, это должен был быть и танк, и бронеавтомобиль, и катер одновременно, отчасти даже и самолет, потому что двигатель на наше чудо-юдо мы решили поставить авиационный. Создание проекта заняло несколько месяцев, и в возникшей на бумаге конструкции воплотилось немало наших оригинальных „придумок“. Например, гусеницы у танка должны были быть легкосъемными. Двигаясь по асфальтовой дороге со снятыми гусеницами, он должен был, по нашим расчетам, обгонять легковую „эмку“.
И вот пастал день защиты проекта. Мы, авторы, волновались, но полны были решимости отстаивать свои идеи и требовать строительства опытного экземпляра, который „всем докажет!“. Комиссию, принимавшую проект, возглавлял Чудаков. Я его знал лично еще по работе в НАТИ. Другие конструкторы тоже были с ним знакомы. Авторитет Евгения Алексеевича в те времена был непререкаем. Когда после наших подробных объяснений он задал несколько вопросов, мы постарались ответить на них как можно полнее и, отвечая, как это часто бывало на его занятиях в МАМИ, сами стали приходить к выводам, которые он, по-видимому, и хотел нам подсказать своими вопросами. Выводы эти, если не употреблять терминов, подобных таким, как „циркуляция мощности“ или „удельные напряжения“, сводились к одному – наш танк-амфибия должен развалиться через несколько часов после начала движения.
Поскольку мы как бы сами дошли до этого, причин для обид не было, а „драться и пробивать“ уже не хотелось. А Евгений Алексеевич отметил отдельные интересные решения в нашем проекте. Вот уж истинно – нет худа без добра».
Но и добро без худа редко случается. Вскоре после избрания Чудакова академиком и назначения его вице-президентом Академии паук СССР тяжело заболел президент академии Владимир Леонтьевич Комаров, которому в то время было уже за семьдесят. На плечи Евгения Алексеевича легла огромная организационная работа, зачастую в областях, весьма далеких от техники. На собственную научную работу времени оставалось все меньше и меньше. Но многое, за что ратовал в тридцатые годы Евгений Алексеевич, воплощалось в жизнь руками его учеников. К 1940 году были значительно модернизированы модели отечественных автомобилей. Начался выпуск новых моделей, таких, как желанная всем малолитражка КИМ-10. Если бы не война…
11. Сквозь пламя
Ландыши обычно цветут в мае. А в тот год весна запоздала. И лето началось с холодов. Но девушки шили белые платья, молодые люди утюжили белые брюки. Белый цвет был самым модным. Утром Таня Чудакова с теткой Натальей (так она называла свою любимую тетю Наталью Васильевну) отправились в лес за белыми цветами. Казалось, сама земля благоухает. Ландыши застилали поляну бело-зеленым ковром. Таня и Наталья Васильевна вышли из леса с большими букетами. Солнце освещало поля. На холме вырисовывались опрятные домики дачного поселка.
Вдруг в идиллию подмосковного летнего утра ворвались тревожные потки. Резко сигпаля, прошла на большой скорости легковая машина. Промчались и скрылись за поворотом два мотоциклиста. Подойдя ближе к дачам, Таня и Наталья Васильевна увидели, как от дома к дому перебегают люди. Веселый разговор прервался, походка стала напряженной, шаги замедлились. Чувствуя приближение чего-то непонятного и страшного, женщины помимо своей воли пытались оттянуть встречу с этим «чем-то». Прошло еще несколько минут, и они узнали, что произошло. На календаре алело 22 июня 1941 года.
Весть о начале войны застала Евгения Алексеевича на даче за письменным столом. Встав пораньше, он заканчивал расчеты по устойчивости автомобиля с дифференциалом новой конструкции. Старался успеть до завтрака. Когда услышал сообщение о нападении Германии на СССР, выпрямился в кресле, замер и просидел так несколько минут. Потом поднялся, быстро пошел к машине, сел за руль и, забыв про завтрак, помчался в Москву.
На следующий день Евгений Алексеевич представил в президиум Академии наук СССР два проекта. Первый – о переводе учреждений академии на военную тематику и вплотную. Танковые разъезды врага прорывались к Крюкову, и гитлеровские вояки подкручивали окуляры цейсовских биноклей в надежде увидеть кремлевские башни и купола.
Через несколько дней Евгений Алексеевич, несмотря на протесты жены, отправил ее обратно в Казань. Эту печальную поездку Вера Васильевна запомнила надолго. Поезд тащился еле-еле, часто останавливался у разрушенных участков пути. Многие станции стояли в развалинах, из-под обломков виднелись тела убитых, которые еще не успели убрать.
В Москве Чудаков работал в президиуме Академии наук, где в спешном порядке готовилась эвакуация оставшихся в столице научных учреждений. Налеты фашистской авиации на город стали почти ежедневными. Одна из бомб упала так близко, что в здании президиума вылетели чуть ли не все стекла. Чудаков попросил задернуть шторы и продолжал работать, отказываясь идти в бомбоубежище. На замечание академика Льва Давидовича Ландау о том, что такое поведение безрассудно, он спокойно возразил, что, мол, совсем наоборот, по теории вероятности, возможность попадания бомбы в то же самое место практически исключена.
В конце октября Москву покинула большая часть ученых академии. Чудаков был одним из организаторов их переезда в Казань. Участник тех событий, ныне доктор технических наук профессор, заведующий лабораторией Института машиноведения Игорь Викторович Крагельский вспоминает:
«Несмотря на большую работу, проделанную штабом эвакуации, сутолока была немалая. Ученые ведь, что греха таить, народ не очень дисциплинированный. И на транспорте тогда положение было сложное. Поезда на Казань уже не ходили. Надо было ехать в Горький, оттуда по Волге – в Казань. Когда наконец собрались, приехали на Курский вокзал – вагона нет. Паника. Трамвай на стыках бухает, а люди шепчут: „Стреляют“. И среди всей этой сутолоки – Евгений Алексеевич. Как утес в наводнение. Спокойный, сосредоточенный, четкий. Нервных успокаивает, вялых подбадривает.
Решить вопрос с вагоном у начальника станции не удалось. Даже к телефону служебному не подпустил – „на нем сидели“ военные. Тогда Евгений Алексеевич пошел к вокзальному телефону-автомату. Вежливо пропустил какую-то полубезумную даму с узлами и, дождавшись своей очереди, позвонил прямо в Кремль. Через сорок минут вагон был на месте.
Новая стадия дорожных приключений началась в Горьком. На всю нашу ученую братию дали горьковских времен пароходик с огромной баржей, мало приспособленной для перевозки людей. Начались охи и ахи, споры, претензии. Больше всего из-за того, кому какое место занимать. А места, как вы можете догадаться, были весьма неравноценные. Стали предлагаться различные „научно обоснованные“ варианты распределения мест: „согласно служебному положению“, „в соответствии с ученым званием“, „по возрасту“ и т. п. Во время всей этой дискуссии, проходившей у причала речного порта, Чудаков молчал. На это обратили внимание. Спорящие смолкли и спросили, каково его мнение? Ответ всех поразил – Евгений Алексеевич предложил распределение мест… по жребию. Сначала раздались возгласы, что такое решение абсолютно „неакадемично“: маститые ученые могли оказаться в худшем положении, чем молодежь. Но, немного подумав, признали именно этот студенческий способ более всего соответствующим времени, которое бедой уравняло всех».
В Казань перебрались многие институты и конструкторские бюро из Москвы, Ленинграда и других городов. Здесь оказались такие крупные ученые, как Капица, Ландау, Стечкин. В условиях острого дефицита времени и средств им пришлось решать задачи совершенствования военной техники.
Авиаконструктор А. С. Яковлев вспоминает:
«Основную мощь ВВС в то время составляли истребители И-15, И-153, И-16, бомбардировщики ТБ-3 и СБ – устарелые и, как показал опыт Испании, не идущие в сравнение с немецкими самолетами. Не приходится говорить о еще более древних самолетах, которых в строю находилось еще много…
Перевооружение ВВС на новую материальную часть началось практически с первой половины 1941 года… беда заключалась в том, что к началу войны новых самолетов у нас было еще очень мало.
Для миллионов солдат на фронте – пехотинцев, артиллеристов, танкистов, для десятков миллионов мирных жителей советских приграничных городов, подвергавшихся безнаказанным терроризирующим налетам гитлеровской авиации, было непостижимо и непонятно, где же наши летчики, где же наша авиация, о которой в течение пяти-шести лет перед войной так часто и так восторженно писалось в газетах как о самой мощной, многочисленной и передовой».
Подобное положение обнаружилось и во многих других областях военной техники. Ученые академии включились в совсем необычную для них, но необходимую деятельность по совершенствованию боевых машин, устранению их технологических и эксплуатационных недостатков, перестройке промышленности на военный лад. Под руководством Чудакова Институт машиноведения возобновил свою работу в декабре 1941 года – в иных, чем в Москве, условиях и на иной лад.
«Трудно сейчас вспомнить все темы, которыми нам пришлось заниматься в первую военную зиму, – говорит И. В. Крагельский. – Проблемы возникали неожиданно и на самых разных направлениях. Например, при пикировании стали заклиниваться шатунные подшипники звездообразных авиадвигателей, хотя раньше эти моторы, казалось бы, проходили испытания на всех режимах полета и надежно работали. Другой пример – автоматические авиационные пушки, тоже успешно прошедшие испытания незадолго до войны. Но в боевых условиях, при интенсивной стрельбе, они стали быстро выходить из строя из-за перегрева и повышения сил трения в системе автоматики. Хотя еще в 1940 году все самолеты решено было перевести с лыж на колеса, многие еще и в 1942 году взлетали и садились на лыжах. Для колесных самолетов надо было чистить от снега аэродромы либо особым образом уплотнять на них снег, а это было непросто. Нашему институту пришлось решать и эту, не очень „машиноведческую“, проблему».
Объективности ради надо отметить, что и хваленая фашистская техника, победно прогремевшая по Европе, на российском бездорожье, да еще в зимнюю стужу, обнаружила немало слабых мест. Синтетические масла гитлеровцев на морозе за несколько часов стоянки густели до такой степени, что валы авиационных и танковых моторов не удавалось сдвинуть с места. Штабные машины и даже танки вязли в грязи проселков, в глубоком снегу.
И у нас с вездеходными машинами были трудности. Как ни бились перед войной Чудаков и его единомышленники, доказывая необходимость создания высокопроходимых машин, как ни старались конструкторы-энтузиасты создать вездеход, промышленности эта задача оказалась не по плечу. В распутицу штабы приходилось возить на танках, артиллерию тянуть конной тягой, пехоте месить ногами грязь в изнурительных переходах.
Немногие изготовленные к тому времени отечественные автомобили повышенной проходимости, такие, как горьковские ГАЗ-61 и ГАЗ-61/415, московские ЗИС-6, ЗИС-32, ЗИС-33, ЗИС-42, в боевых условиях оказались недостаточно надежными и проходимыми. В значительной мере из-за несовершенств автомобиля ЗИС-6, на который устанавливались первые многоствольные реактивные минометы «катюша», задержалось широкое внедрение в войска этого эффективного оружия. Особенно обидно было то, что на бумаге и даже в опытных образцах отечественные вездеходы казались полноценными. Только в широкой эксплуатации открывались их недостатки.
Долгие дни мучился Евгений Алексеевич, думая, как помочь автомобильной промышленности, переживающей тяжелую встряску, помочь армии, помочь стране в самое тяжелое для нее время. Наконец решение пришло. На осуществление его понадобилось всего несколько недель. А результат – разработанный совместно с И. В. Крагельским безразмерный критерий проходимости, то есть метод, с помощью которого можно определить проходимость любой колесной машины по нескольким ее параметрам. Благодаря этому методу оказалось возможным уже в проекте довольно точно предсказать вездеходные качества будущей машины.
Безразмерный критерий сразу пошел в дело. Его приняли на вооружение конструкторы, в военное время создавшие полноценные вездеходы ГАЗ-67 и БА-64. С помощью этого же критерия отбирались автомобили. Выбор был точным. За период войны эти автомобили показали хорошие надежность и проходимость. И первая наша полноприводная надежная трехоска была спроектирована после войны на базе «студебеккера».
В 1942 году Казань стала одним из центров советской технической мысли. Здесь велись работы по совершенствованию техники, создавались новые конструкции. Именно в Казани Борис Сергеевич Стечкин построил один из первых советских воздушно-реактивных двигателей – пульсирующий ПуВРД. Ускорители, сделанные на основе такого двигателя, были установлены на фронтовой бомбардировщик и позволили ему на несколько минут достигать такой скорости и скороподъемности, которые недоступны были в то время и большей части истребителей.
Во время одного из испытательных полетов наши зенитки открыли огонь по такому самолету, приняв его за вражеский. Только благодаря ускорителям Стечкина, пилоту удалось, резко увеличив скорость, буквально выскочить из-под огня, спасти себя и машину.
К сожалению, в серию конструкция не пошла – посчитали нерациональным тратить силы и время на ее доводку. Лишь когда спустя два года немцы начали обстреливать Лондон самолетами-снарядами ФАУ-1, на которых стояли подобные двигатели, ПуВРД занялись серьезно.
Кроме военных забот у жителей города и многочисленных эвакуированных были и обычные, бытовые. Не зная о них, невозможно сколько-нибудь объемно представить себе и тех людей, и то время. Продукты получали только по карточкам. В семье Чудаковых вспоминают, как постепенно уменьшались пайки, как расстраивались люди, когда мясо и масло в пайках начали заменять вяленой рыбой. А потом, когда и рыба исчезла, радовались овсяной каше, которую по талончикам можно было получить в столовой Казанского университета.
Сашу Чудакова из-за травмы руки в армию не взяли. Евгений Алексеевич думал, что уж теперь-то, в разгар войны, проникнется его сын уважением к машиностроению, пойдет учиться по этому профилю. Казанский университет продолжал действовать, в нем было политехническое отделение, и Александр мог поступить на него.
Саша отцовские доводы выслушал внимательно, но не внял им. Побродив неделю по городу, по институтам, сам без папиной помощи устроился на работу в эвакуированный из Москвы Физический институт Академии наук СССР, ныне широко известный ФИАН. Начал работать обыкновенным лаборантом, но в лаборатории необыкновенной. Много лет спустя вспоминал Александр Чудаков этот период как один из самых радостных в жизни, несмотря на все лишения и тревоги, – ведь именно там, в Казани, он впервые окунулся в главное свое дело – в атомную физику.
И для Тани Чудаковой казанский период стал временем открытия в себе новых возможностей. Позже она признавалась в том, что тогда, в сорок первом, не решилась бы сказать ни отцу, ни матери, что ходить в школу с ее обязательными уроками, дисциплиной, ей было невероятно скучно, хотя и получала она хорошие оценки. Жизнь в Казани позволила с «обязаловкой» покончить. Как и брат, Таня самостоятельно отыскала дело, которое показалось ей интересным и перспективным, – поступила в Казанский техникум художественно-прикладных ремесел. А «общее среднее» продолжала в вечерней школе рабочей молодежи, куда надо было являться лишь дважды в неделю – сдавать зачеты и получать задания.
Занятия в техникуме проходили соответственно особенностям военного времени. В промерзлых классах преподаватели не снимали шуб, учащиеся сидели в телогрейках и в валенках. Никто не отмечал опозданий, пропусков уроков. Но занимались все с великим энтузиазмом, с верой в то, что если уж не на фронте, то здесь, в тылу, каждый обязан отдать все свои силы общему делу.
Почти каждый день на занятиях девушки готовили подарки фронтовикам – шили, вязали, рисовали. Это и было художественно-прикладное творчество военного времени. А Таня еще и вырезала из дерева миниатюрных красавиц и забавных зверюшек. Сначала ее уговаривали сменить «специализацию» – ведь в ту суровую зиму, когда морозы поднимались до 40 градусов, каждое полено было на счету. Но после нескольких писем с фронта, в которых бойцы благодарили неизвестную девушку за чудодейственные, как они утверждали, амулеты, Тане Чудаковой стали сверхдефицитные поленья специально выписывать.
Евгений Алексеевич, в дополнение ко всем своим заботам, принялся за организацию специальной комиссии Академии наук по мобилизации ресурсов Поволжья и Прикамья на нужды фронта. Комиссия занялась быстрейшим вводом в эксплуатацию промышленных, сельскохо-хозяйственных и топливных ресурсов этих краев. Вскоре комиссией был составлен план разработки нефтяных ресурсов Башкирии, выработаны методы использования местных сланцев в качестве топлива для промышленных предприятий.
О топливных проблемах Великой Отечественной надо сказать особо. В первый же год войны ощутились острые нехватки горючего для боевой техники, для тылового транспорта. Вражеские автомобили, танки, тяжелые самолеты обходились благодаря дизельным двигателям дешевым топливом, которое в достатке давали оккупированная Европа и союзная Румыния. А все наши самолеты, большая часть автомобилей и даже некоторые типы танков нуждались в дорогостоящем бензине.








