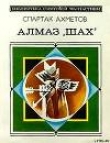Текст книги "Синий мир (Фантастические рассказы и повести)"
Автор книги: Юрий Тупицын
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 14 страниц)
– Признаюсь, – рассеянно согласился Сергей и попытался поймать меня, но я очень ловко увернулся, наступил при этом в лужу и забрызгал себя и Сергея.
– Ты признался в своей косности, – с удовольствием констатировал я, – и это очень хорошо. Безошибочный человек – очень скучный человек, капустный кочан без кочерыжки. Между прочим, меня всегда бесконечно удивляло это идиотство – из кочана выбрасывают самое вкусное – чекурыжку, а листья едят. Это еще простительно всяким там коровам, зурбобизонам и микроцефалам, но человеку разумному выбрасывать кочерыжку непростительно. Непростительно!..
Я потерял нить рассуждений и некоторое время шел молча, стараясь разобраться в хороводе своих мыслей.
– Да, – радостно вспомнил я наконец, – кирпич! Кирпич – это звучит гордо! Кирпич лучше даже корчерыжки, хотя его и нельзя съесть. Чекурыжка – дура, она растет сама, вместе с кочаном капусты. Она запрограммирована, у нее есть свой генотип и свой фенотип. Фенотип можно съесть, а вот можно ли съесть генотип? В его чистом, аб-абстарагированном виде? Это никому неизвестно, никому! А вот у кирпича нет ни генотипа, ни фенотипа. Кирпич – творение рук человеческих и такой кирпичеобразный потому, что это угодно его творцу, его демиургу – гомо сапиенсу строителюсу. Кирпич, естественно, отобрался в ходе тысячелетнего градостроительства, в ходе урбанизации и акселерации. И вот он перед нами, стройный параллелепид! Сама простота и совершенство, ничего невозможно ни добавить, ни отнять!
Сергей хохотал, очевидно, краем уха он все-таки прислушивался к моей болтовне.
– Ты смеешься, – грустно сказал я, – но ты, несчастный, смеешься над самим собой, над своим недомыслием. Это смех сквозь невидимые миру слезы! Говорят, что смех отличает человека от животных. Должен заявить со всей ответственностью, что это чистейшей воды собачий бред…
Поднатужившись, я снова поймал ускользавшую мысль.
– Кстати, о самом главном, о кирпичах. Кирпич был хорош для кирпичника, завуалированно говоря, для человека, абсолютно разоруженного в техническом отношении, для наших уважаемых предков. А ныне? О темпоре, о морес! Кирпич вымирает также беспощадно, как вымерли динозавры и микроцефалы. Скоро для его поисков будут снаряжаться археокирпические экспедиции. Только в музеях и картинных галереях можно будет увидеть кирпичи. Женщины, увидев их, будут кричать «ура!» и бросать в воздух чепчики. А в строительстве кирпич заменят вульгарные крупные блоки, которые возят по улицам, как будто напоказ, по два блока на одну машину. И чем дальше будет идти человечество по пути процветания и прогресса, тем эти блоки будут становиться все больше и крупнее, пока не начнут возить целые дома с мебельными гарнитурами. Но без жителей! Потому что возить по улицам дома с жителями исключительно безнравственно! А кирпич исчезнет. Кирпич, из которого можно построить все, что угодно: от… от гигантских дворцов до собачьей конуры!
Вот тут-то Сергей все-таки поймал меня и крепко взял под руку. Я знал, что в свое время он занимался самбо, а поэтому не стал вырываться. А Сергей сказал мне весело и таинственно:
– Как вовремя попал тебе под ноги кирпич! Ты вещал, как пифия.
– Не надо оскорблять, – устало сказал я. – Я не пифия, математика – вот сфера моего коловращения.
– Ты здорово говорил о кирпичах, Коля.
– Правда? Я был… в ударе!
– Из кирпича можно построить многое, – не унимался Сергей, – дома, дворцы, заборы. Но скажи, можно ли из него построить часы или телевизор?
Я воззрился на Гранина с нескрываемым удивлением, у меня даже в голове как-то посветлело.
– Телевизор?
– Да, телевизор или, скажем, двигатель внутреннего сгорания! – Сергей присмотрелся ко мне. – Тебе кажется, что я говорю глупости? А разве не такую же или даже большую глупость делаем мы, когда пытаемся построить из кирпичей всю бесконечную вселенную?
– Бесконечную? – только и мог спросить я.
– Ну, пусть не бесконечную, а ту самую метагалактику, о которой ты мне рассказывал так красочно.
– Я рассказывал про вселенную? Да ты просто пьян, Сергей, – с облегчением констатировал я.
Сергей засмеялся.
– Пусть я пьян. Но ты послушай меня. Логосы, как и все другие счетные машины, работают на основе двоичного кода.
– Причем тут логосы и двоичный код? – удивился я.
Сергей крепко сжал мне руку. – Ты слушай, слушай и молчи. Логосы работают на основе двоичного кода. Любая операция, любое умозаключение, говоря логическим языком, сводятся у них в конце концов к комбинации нулей и единиц, утверждений и отрицаний, совокупности «да» и «нет». Причем в отличие от других машин, которые моделируют отдельные элементы мышления, логосы моделируют мышление в целом, то есть по идее своего устройства они в той же степени разумны, как и сами их творцы – люди. Необходимейший атрибут разума – познание окружающего мира. Но поскольку логосы работают на основе двоичного кода, то стало быть из голеньких нулей и единиц они и пытаются строить всю бесконечную вселенную! Разве это не идиотизм?
Я был так ошарашен этой логикой, что хмель быстро улетучивался из моей головы.
– Я и подумал, – продолжал между тем Гранин, – может быть, логосы безумны вполне нормально, потому что они просто не могут быть не безумными? Даже сам Винер, крестный отец всей вычислительной техники, как-то сказал, что вычислительные машины напоминают ему идиотов, наделенных феноменальной способностью к счету. Формальная логика и безумие! Казалось бы, несовместимые вещи! А между тем одно непременно и обязательно влечет за собою другое.
– Подожди, – сказал я, наконец-то обретя дар речи, – да, формальная логика имеет свою первооснову нолей и единиц, в виде могучих «да» и «нет». Но на основе формальной логики и двоичного кода созданы все науки, на этой основе работает его величество человеческий мозг!
– А ты уверен?
– В чем? – несколько опешил я.
– Да в том, что наш мозг работает на основе именно этих могучих «да» и «нет»?
– Да ты что? Такие вещи теперь в средней школе изучают!
– Вот даже как, в средней! А хочешь, – Гранин хитро прищурился, – я посажу тебя в лужу вместе с этими могучими «да» и «нет»?
– Сажай! – азартно сказал я, невольно, впрочем, покосившись на лужи, которые окружали нас в достаточном изобилии.
Сергей поймал мой взгляд и подмигнул.
– Не беспокойся, сажать буду не буквальным образом. – И вдруг спросил: – Ты читал «Дон Кихота?»
Некоторое время я смотрел на него, удивленный необычным поворотом мысли, а потом неопределенно ответил, что само собой разумеется – читал, но это было достаточно давно.
– Ну, а помнишь, в какое затруднение попал здравомыслящий Санчо, когда ему привелось выполнять губернаторские обязанности?
– Вот этого не помню!
– Тогда слушай. Губернатору Санчо предложили решить такую задачу. В некоем поместье, разделенном на две части рекой, был издан закон: «Всякий, проходящий по мосту через сию реку, долженствует объявить под присягой, куда и зачем он идет; кто скажет правду, тех пропускать беспрепятственно, а кто солжет, тех без всякого снисхождения казнить через повешение». И вот однажды некий человек, приведенный к присяге, хладнокровно заявил, что он пришел затем и только затем, чтобы его вздернули на эту вот самую виселицу, что стоит у моста. – Сергей покосился на меня.
– Слушаю, слушаю, – поспешил я успокоить его.
– Судьи, перед которыми предстал этот чудак, – продолжал Сергей неторопливо, – пришли в крайнее замешательство. Оказалось, что пришельца нельзя ни повесить, ни пропустить! В самом деле, если разрешить ему пройти свободно, стало быть пришелец соврал, ведь он утверждал, что явился именно за повешением. А если он соврал, то его надо повесить. Но как же его повесить? Ведь тогда получится, что он сказал правду, и по этому самому обстоятельству его следует беспрепятственно пропустить в город! И Санчо, здравомыслящий лукавый Санчо, капитулировал перед этой задачей. Ну, а ты, – Сергей тряхнул меня за плечо, – что скажешь ты? Истинно или ложно утверждение чудака-незнакомца? Пропустить его или повесить? Смелее применяй свои могучие «да» и «нет»!
Я задумался, стараясь не обращать внимания на лукавую улыбку Гранина.
– Послушай, – сказал я примирительно, – ведь это парадокс!
– Ну и что же? Разве парадоксальная задача – уже не задача? Ты утверждал, что формальная логика универсальна, вот и разбирайся с ее помощью. Что же все-таки делать с этим оригиналом, вознамерившимся поболтаться на виселице – пропустить или повесить?
Сергей был неумолим. Я сдвинул шляпу на лоб, почесал затылок и объявил:
– Но, черт его дери, парадоксы потому и называются парадоксами, что они неразрешимы!
Гранин засмеялся:
– Так уж и неразрешимы? А ты представь себя стражником на мосту, представь, что за твоей спиной город, где ты родился и вырос, а вокруг него шныряют лазутчики. И вот является какой-то проходимец и начинает молоть какую-то чушь. Да неужели бы ты не разрешил вставшую перед тобой задачу?
– Да разрешил бы, – с сердцем сказал я, – но мне бы пришлось выйти за рамки заданных условий!
– Верно! Тебе пришлось бы выйти за рамки формальной логики, за рамки псевдомогучих, а на самом деле бессильных «да» и «нет».
Сергей поежился, пряча подбородок в воротник плаща, и уже мягче, задумчивее продолжал:
– Ты правильно говорил, Никола. Мир чудовищно сложен. А мы пытаемся изобразить его с помощью умопомрачительного скромного материала – нолей и единиц! Без искажений и огрехов это так же немыслимо, как без разрывов и складок растянуть сферу на плоскости. Погрешности изображения мира с помощью нолей и единиц и проявляются в форме различных логических парадоксов. Эти парадоксы существуют не в реальном мире, а в формализованном мышлении, в рамках некоторых надуманных задач. Ты ежедневно решаешь десятки и сотни парадоксов, даже и не подозревая об их существовании. Вспомни, например, задачу о буридановом осле, который умер с голоду между двух охапок сена лишь потому, что он находился от них на абсолютно равных расстояниях. Разве реальные ослы, я уже не говорю о людях, испытывают когда-нибудь такие затруднения?
Я вздохнул.
– Хорошо, согласен. Формальная логика порочна, формальная логика – бяка. Но я не слышал еще, что ты предлагаешь взамен ее. А голая критика еще никогда не рожала ничего, кроме пустого места!
– Чтобы ответить на этот вопрос, я вернусь к задаче, которая была предложена Санчо, – спокойно проговорил Гранин. – Давай задумаемся, кто виноват в том, что стражник на мосту оказался в таком двусмысленном положении. Догадаться нетрудно – начальник стражи! Он плохо проинструктировал своего подчиненного, говоря современным языком, разработал неполную программу его действий. Он предусмотрел лишь два варианта: свободная дорога, если путник сказал правду, и виселица, если он солгал. Выясняется, однако, что эти варианты не исчерпывают действительности. Если бы начальник стражи знал об этом, он обязательно добавил что-нибудь в таком роде: «Буде же путник выскажется странно, не истинно и не ложно то, толкнув его с моста в воду, предоставить самому провидению решить его судьбу».
И тут мешанина образов и мыслей, почерпнутых мной за последние дни – машинное безумие, ящерицы, кошки, режимы работы мозга и автопилоты, – вдруг отлилась в единое стройное целое. Догадка молнией сверкнула у меня в голове.
– Так-так, – я снял шляпу, вытер лоб и снова надел ее, – ты считаешь, что человеческий мозг работает не в двоичном, а в троичном коде?
– Именно! И в этом его решающее отличие от логосов!
– Следовательно, переход мозга с обычного режима работы на аффектоидный есть по сути переход с троичного кода работы на двоичный?
– Верно, это своеобразный скачок в прошлое, к предкам, потому что мозг пресмыкающихся, по-видимому, работает только в двоичном коде.
– А безнадежные шизофреники – это, стало быть, люди, мозг которых устойчиво перешел на двоичный режим работы?
– По крайней мере у катотоников.
Так мы говорили, азартно перебивая друг друга, пока я не остановился и не сказал:
– Ты знаешь, Сергей, ведь это очень интересная мысль!
Вы должны понять меня, я математик. Общие рассуждения, как бы они ни были интересны, так и остаются для меня общими рассуждениями. Другое дело – переход с двоичного кода на троичный. Это было нечто конкретное, которое можно было подвергнуть строгому математическому анализу. Двоичному коду соответствует формальная логика, а теперь перед моим внутренним взором смутно вставали контуры нового грандиозного научного здания – математизированной диалектической логики, которая будет соответствовать коду троичному. Логике, в которой наряду с утверждением и отрицанием есть еще и отрицание отрицания, похожее на утверждение, однако, в отличие от формальной логики ему не эквивалентное.
– Меня смущает одно, – признался я, возобновляя движение, – ты не без оснований считаешь, что моделирование бесконечной вселенной всего из двух кирпичиков – занятие для безумцев, порочное в самой своей основе. А потом добавляешь третий кирпичик – и пожалуйста, вселенная на лопатках!
– Меня и самого смущало это, – признался Гранин, – пока я не сообразил, что просто-напросто не учитываю особенностей этого третьего кирпичика. Если «да» и «нет» – это самые настоящие глупые кирпичи, то «отрицание отрицания», ни «да», ни «нет» – нечто гибкое, многоликое, могущее в итоге превратиться во все, что угодно. Мозг мне представляется теперь не просто устройством уникальной сложности, но и сложно-иерархической суммой многих логических подсистем, в каждой из которых проблема рассматривается с разных точек зрения и на различных уровнях обобщенности. Если в одной подсистеме не получено радикальных «да» и «нет», проблема передается в следующую, и там это «ни да, ни нет» рассматривается заново. Я думаю, что озарение, вдохновение – называй это, как хочешь – состоит по существу в расширении сферы троичного кода в нашем мозгу, в создании новых, дотоле несуществовавших и, увы, неустойчивых логических подсистем.
Некоторое время мы шли молча.
– А ты представляешь, какая это возня – перевести все эти мысли на строгий язык математики? – высказал я вслух вдруг пришедшую в голову мысль.
– Да, – без всякого энтузиазма согласился Гранин. И засмеялся, ободряюще тряхнув меня за плечо: – Ничего! Помощники найдутся!
9
На следующий день после того памятного вечера, когда мы с Сергеем ходили по гостям, а потом гуляли под дождем, я вернулся с работы усталый, с тяжелой головой. Гранин лежал на диване, закинув руки за голову и глядя в потолок. Скосив на меня глаза, он спросил:
– Жив?
– Жив, – не совсем уверенно ответил я.
Скинув верхнюю одежду, я прошел на кухню, выпил две больших чашки крепкого холодного чая, а потом присел рядом с Сергеем и рассеянно спросил:
– Как дела?
– Да вот, еду, – ответил он неопределенно, покосился на меня и сердито закончил, – в Новосибирск!
– В Новосибирск? – удивился я. – Это еще зачем?
– Какая-то конференция в Новосибирском филиале, вот и все.
Некоторое время я смотрел на него, с трудом переваривая смысл его слов.
– Но тебе же нельзя ехать!
Сергей молча передернул плечами.
– Тебе нельзя ехать! – уже зло сказал я. – Ты на пороге большого открытия и надо ковать железо, пока оно горячо!
– Кого это интересует, – с досадой проговорил Сергей, глядя в стену.
– Как это кого? – взбеленился я. – Это должно всех интересовать. Всех, понимаешь?
– Ты думаешь я не пробовал отказаться? – покосился на меня Сергей. – Некому больше ехать, вот и весь сказ. У одного болеет жена, другой загружен лекциями, третий готовится к защите, четвертого подпирают сроки с заданной работой. А у меня? Ведь наша работа над логосами – чистая самодеятельность.
Может быть, из-за того, что с утра у меня было отвратительное самочувствие, я не мог слушать Сергея равнодушно и буквально клокотал от ярости.
– Жены, диссертации, сроки! Ты весь свой запал растеряешь в Новосибирске! Неужели ты не понимаешь, что, соглашаясь на эту дурацкую командировку, ты предаешь и Шпагина и науку?
Сергей смотрел на меня с любопытством.
– А что прикажешь делать? Козырять догадками, еще не зная, что из них получится?
– Что делать? Вот увидишь, что надо делать!
Эти слова я прокричал ему уже из прихожей, натягивая плащ.
По пути в институт я молил судьбу лишь об одном, чтобы институтское начальство оказалось на месте. Четкого плана действий у меня не было, но когда в коридоре мне попалась дверь с надписью «Партком», я без раздумий толкнул ее плечом и вошел. Судьба и впрямь оказалась ко мне благосклонной: шло заседание, и все, кто был мне нужен, оказались в сборе.
На заседание я ворвался, как бомба: громко хлопнул дверью, закрывая ее за собой, прошел к самому столу, бесцеремонно прервал очередного выступающего и произнес страстную речь, обвиняя присутствующих в бюрократизме, формализме, нежелании творчески решать научные проблемы и недвусмысленно грозя немедленно отправиться в редакцию газеты, в горком партии и даже в Центральный Комитет! Мне потом не раз и весьма красочно расписывали «явление Христа народу», как окрестил какой-то шутник мое внезапное и буйное появление среди членов парткома и приглашенных. Самое любопытное – говорил я так страстно и невнятно, что никто из присутствующих толком не понял, почему я так разволновался и чего, собственно, добиваюсь. Когда я набирал воздух для очередной гневной тирады, секретарь парткома, седенький, простоватый на вид, но лукавый Анатолий Александрович ласково спросил меня:
– Кто вас обидел, Николенька?
Пользуясь разницей в возрасте, он нередко называл меня именно так. Мне это вовсе не нравилось, но сказать ему об этом я стеснялся.
– Меня? – я перевел дух и несколько растерянно ответил: – Меня лично – никто!
– Тогда зачем же вам ехать в горком партии или даже в Центральный Комитет? – все так же ласково поинтересовался секретарь, глядя на меня ясными прищуренными глазами.
– Потому что посылать сейчас Гранина в командировку – преступление! Нельзя прерывать работу на такой стадии! – со страстной убежденностью немедленно ответил я.
По собравшимся пробежал гул и шепот негромких разговоров, кто-то засмеялся, кто-то фыркнул в кулак. Анатолий Александрович, сохраняя полную невозмутимость, поговорил с соседями справа, слева, даже через стол и снова обернулся ко мне:
– Кого же вы предлагаете послать вместо Гранина?
Вопрос застал меня врасплох.
– Кого? – переспросил я.
– Если нельзя посылать Гранина, то кого-то надо послать вместо него, – приветливо пояснил милейший Анатолий Александрович.
– Да кого угодно! – нашелся я. – Понимаете? Только не Гранина!
Сбоку засмеялись, я сердито повернулся, собираясь что-то сказать, но меня остановил заместитель директора института.
– Ну, а если мы пошлем вас?
– Меня, так меня! Я же сказал – кого угодно!
– Отлично! – улыбнулся заместитель директора. – Идите оформляйтесь, я позвоню.
Все решилось так быстро и неожиданно, что я, толком не осознав, в чем дело, продолжал стоять столбом. И тогда Анатолий Александрович, склонив голову набок, доброжелательно спросил:
– У вас что-нибудь еще, Николенька, или нам можно продолжать?
– Продолжайте, – пожал я плечами и, помедлив, покинул заседание.
Закрывая за собой дверь, я услышал не очень громкий, но этакий мощный шум – словно свалилась большая груда бумаг. Только пройдя шагов десять по коридору, я понял, это был приглушенный взрыв хохота.
Много времени спустя, разговаривая как-то с Анатолием Александровичем, я поинтересовался, почему так легко, не вникая даже как следует в суть дела, начальство согласилось выполнить мою просьбу. Неужели испугалось моих довольно бестолковых угроз?
– Ну, что вы, Николенька, – улыбнулся Анатолий Александрович, глядя на меня ясными лукавыми глазами, – просто вы были так взвинчены, так не похожи на самого себя, что партком сразу единодушно уверился в абсолютной серьезности вашей просьбы.
Он прищурился и добавил:
– А потом нам ведь было совершенно все равно, кого посылать – вас или Гранина.
В Новосибирске я провел три долгих дня, изнывая от нетерпения и мечтая о том, чтобы эти дни пролетели как можно скорее. Как далеко продвинулся в своих исследованиях Сергей? Как встретил его идеи Шпагин? И, главное, удалось ли создать тот коллектив энтузиастов, о котором мечтал Сергей. Днем в конференц-зале, особенно когда разгоралась очередная дискуссия, в которой причудливо мешались научные и житейские дела (а такого рода дискуссии проходят особенно страстно и непримиримо), было еще терпимо, а вот вечерами я просто не знал, куда себя девать.
С последнего заседания я отправился прямо на аэродром, благо билет был куплен заблаговременно, и вечером того же дня, проболтавшись в воздухе несколько часов, добрался до родного города.
Шел густой пушистый снег, но, только выбравшись из автобуса, я понял, как хорошо на улице. Поэтому, покосившись на длинную очередь у троллейбуса, я пошел домой пешком. Круглые фонари тянулись вдоль улицы, как полные белые луны. Около каждой из них плыл, тянулся вниз танцующий хоровод белых веселых звезд. И оттого, что лун и звезд было слишком много, улица казалась необычной, похожей на декорацию театральной сцены. Снег все успел укутать в белые пышные наряды: деревья, автомашины, каждый выступ на стенах зданий; даже на верхушках столбов и светофоров красовались пышные белые тюрбаны. Людской поток, таявший в глубине снежной завесы, был полон добродушия и беспричинного веселья. Молодежь шумела, хохотала и бросалась снежками, ребятишки, как воробьи, пронырливо шныряли под ногами. Мне вдруг почудилось, что это новогодний вечер, хотя до Нового года оставалось еще больше месяца.
Снег совсем залепил мне лицо, как вдруг я почувствовал такой сильный толчок, что у меня чуть не слетела шапка. Я рассердился и уже открыл было рот, чтобы обругать нахала, но вместо него увидел миловидную девушку. Она растерянно смотрела не на меня, а на многочисленные пакеты, валявшиеся вокруг нас на заснеженном тротуаре. Один пакет надорвался, из него высыпалось несколько дешевеньких фруктовых конфет, на них уже падали снежинки. Прохожие отпускали шуточки, посмеивались и с неожиданной деликатностью обходили место катастрофы сторонкой.
– Вы как танк, – укоризненно сказал я и стал подбирать рассыпавшиеся пакеты.
– Еще неизвестно, кто из нас танк!
Девушка тоже наклонилась и принялась помогать мне. Мы поднялись на ноги почти одновременно. Совсем близко я увидел серые удивленные глаза, чистый лоб и прядь русых волос, густо припорошенную снегом. Сердце у меня чуть дрогнуло, будто я испугался чего-то. Чтобы скрыть замешательство, я сказал, взвешивая на руках пакеты.
– А у вас неплохой аппетит.
– Это не только для меня, – девушка улыбнулась, – для всей комнаты. Я живу в общежитии, дежурю сегодня.
Движением головы она отбросила прядь волос и показала на свои руки:
– Кладите.
Глядя, как я укладываю покупки, девушка спросила, чуть смущаясь:
– Вас зовут Николай Андреевич, да?
– Да, – удивленно ответил я.
– Вы нам статистику читаете, – пояснила девушка.
– Да-да, и я вас припоминаю, – неуверенно сказал я.
– Ну, – убежденно сказала девушка, пряча подбородок среди своих пакетов, – вы никого не замечаете и никого не помните. По крайней мере, девчата так говорят.
– Н-да, – сказал я, потирая лоб, и добавил: – Но вас-то я определенно припоминаю. Вы на первом ряду сидите?
Она с улыбкой покачала головой.
– Нет, я сижу в середине, у окна. Когда лекция скучная, я смотрю, что делается на улице.
– Так у меня скучные лекции? – для вида оскорбился я.
Она засмеялась.
– Да разве я про вас говорю! – и вздохнула. – Ну, я побегу? А то меня ждут.
– Бегите, – разрешил я и вдруг спросил: – А вы всегда сидите там, у окна?
– Всегда, – ответила девушка и покосилась назад.
Возле нас остановился солидный мужчина. Его высокая шапка и пальто были густо засыпаны снегом. Он был похож на очнувшегося от летней спячки сердитого деда-мороза.
– Молодые люди, – раздраженно сказал он в пространство между нами, – вы могли бы выбрать для свидания и более уединенное место.
И, намеренно толкнув меня плечом, он важно проследовал дальше. Девушка украдкой взглянула на меня. Я перехватил этот взгляд и спросил неожиданно для самого себя:
– Как вас зовут?
– Вера, – сразу же ответила она и улыбнулась из-за своих пакетов.
И я улыбнулся, хотя мне почему-то было немножко грустно.
– Что ж, Вера, до свидания.
– До свидания, Николай Андреевич.
Я смотрел, как девушка исчезает за завесой пушистого снега и гадал, обернется или нет. И когда совсем уже решил, что не обернется, Вера все-таки обернулась и неловко, мешали пакеты, помахала мне.
Когда девичья фигурка совсем затерялась среди людей и снега, я поднял голову и увидел, как валится и валится на меня сверху снег, словно само небо с легким шорохом сожаления опускается на землю. Как-то вдруг мне пришло в голову, что там, наверху, за снежным потоком и рыхлыми сырыми облаками морозно и строго искрятся звезды.
А снег все валился, шуршал, падал мне на лицо, щекотал, холодил кожу и исчезал – таял. Я улыбнулся этому доброму и грустному снежному небу и медленно пошел дальше. Я шел и думал о Шпагине, об уверенном хватком Гершин-Горине и его красавице-жене, о сероглазой девушке, которая ушла неведомо куда за снежную завесу, и о новой науке, которая рождается в этом мире незримо, мучительно и здорово интересно.
Я так задумался, что очнулся, лишь увидев перед собой наш дом. Густо облепленный снегом, он стоял нахохлившись и равнодушно смотрел на меня светящимися глазами-окнами. Я сочувственно подмигнул ему и вошел в подъезд. Еще на ходу приготовив ключ, я отпер входную дверь и удивленно приостановился на пороге: в нашей такой обычно тихой квартире было непривычно шумно. Из большой комнаты доносились голоса, смех и звон посуды. Недоуменно оглядевшись, я заметил, что вешалка битком забита чужими незнакомыми пальто. Несомненно, у нас происходило какое-то торжество. Я покосился на изящную меховую шапочку, лежавшую поверх мужских шапок и шляп. Может быть, Сергей надумал жениться? Мысль эта показалась мне такой нелепой, что я фыркнул и, не раздеваясь, на цыпочках подошел к приоткрытой двери.
Осторожно заглянув в щель, я увидел длинный, обильно накрытый стол, а за столом Гранина, Надежду Львовну, Федора Васильевича, Гершин-Горина, Михаила и каких-то незнакомых мне мужчин. У дальнего конца стола стоял Шпагин с большим бокалом шампанского в руке. Шпагин говорил какую-то прочувственную речь, резковато жестикулируя, бокал был полон, поэтому шампанское иногда выплескивалось, но Шпагин не обращал на это никакого внимания.
– Нет, совершенно серьезно. Я был круглым набитым эгоистичным дураком! Я привык считать логосы своей личной собственностью, чем-то вроде письменного стола…

– Или жены, – при общем смехе добавил летчик-испытатель.
– Федор Васильевич! – обернулся к нему Шпагин. – Если бы не жена, впрочем, это к делу не относится. Важно другое – передо мной открылись такие перспективы, что голова идет кругом.
– Это от шампанского, – лукаво ввернул Сергей.
– Вы меня не собьете, – упрямо продолжал Шпагин, перекрывая общее веселье, – я понял, понимаете, понял, какая это сила – единение!
– Жаль только, что прежде чем объединиться, мы забыли размежеваться, – усмехнулся Гершин-Горин.
Под хохот, сопровождавший эту фразу, я и вошел в комнату. Меня встретили нестройным веселым хором голосов. Я пробежал глазами по знакомым и незнакомым, но одинаково жизнерадостным лицам. И мне почему-то вспомнился детский лепет Логика, снежное небо, с легким шорохом оседающее на землю, и холодные морозные звезды за ним.

Сканирование – Беспалов, Николаева.
DjVu-кодирование – Беспалов.