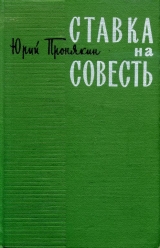
Текст книги "Ставка на совесть"
Автор книги: Юрий Пронякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
3
Улица, по которой возвращался домой Хабаров, жила своей обычной, внешне однообразной жизнью. Во многих домах, огражденных низким ребристым штакетником, еще горел свет. Сквозь темные окна иных домов голубовато светились экраны телевизоров. Люди отдыхали. Владимир неожиданно подумал о себе и своей семье. Редко случается им вот так беззаботно сидеть вечером всем вместе. Все дела, дела… Владимир прибавил шагу. Его тень, стремительно удлиняясь, извивалась впереди на неровностях улицы. Попадая в полосу более сильного света встречного фонаря, она мгновенно, словно в каком-то испуге, отлетала назад и снова начинала вытягиваться, но теперь уже отставая от своего хозяина. Она словно заигрывала с ним. «А может, он заигрывает?» Владимир заметил, что, даже отвлекая внимание происходящим вокруг, он не перестает думать о разговоре с командиром полка. Догадка показалась Владимиру неправдоподобной. «С какой целью?» – спросил он сам себя, но ответа не получил. Под сапогами битым стеклом похрустывал затвердевший к ночи талый снег: в природе шло единоборство – днем побеждала весна, с заходом солнца зима брала верх. Вдруг простая, удивительно трезвая мысль поразила Владимира: «Если бы противник был, а то ведь единомышленник! Цель у нас одна. А средства? Но против того, о чем говорил Шляхтин, трудно возразить. Так в чем же расхождение? И есть ли оно?» И хотя Владимир понимал правоту доводов Шляхтина, все же где-то в глубине сознания у него пряталось еще не оформившееся несогласие с ним.
Возможно, оно проступило бы более четко, если б Шляхтин не вспомнил Кадралиева. Хабаров добивался для солдата отпуска, чтобы он мог помочь старухе матери. Шляхтин разрешил эту проблему иначе, с пользой не только для Кадралиева, а для всех его сослуживцев: служите как подобает, и, может, вам улыбнется съездить домой…
Размышляя, Владимир не заметил, как прошел трехкилометровый путь от полка до своего дома. В доме светилось только крайнее окошко – в комнате Хабаровых. «Ждет меня», – подумал Владимир о жене с теплотой и жалостью: ей так часто приходится ждать.
Когда Владимир вошел в комнату, Лида отложила книгу и соскочила с кровати. Тонкая и гибкая, в коротком халатике, она мало походила на мать двоих детей.
Проскользнув между столом и раскладушкой, на которой спал Димка, Лида подошла к Владимиру и взяла за холодные ворсистые лацканы шинели:
– Почему так поздно? Что-нибудь случилось?
Владимир посмотрел в большие, темные, оттененные длинными, с изломом ресницами глаза жены – они встревоженно блестели – и нежно провел ладонью по ее черным, с пробором посредине волосам, стянутым на затылке лентой в небольшой пучок. С доброй, немного снисходительной улыбкой Владимир ответил:
– Ничего особенного.
Взял жену за локти, легко приподнял, крутнул на месте и, опустив на пол, с принужденной веселостью повторил:
– Ничего.
– Неправда, – тихо сказала Лида и пристально на него поглядела.
– Тебе показалось.
Он легонько отстранил жену и стал раздеваться.
Лида вернулась к кровати, легла и поджала ноги. Владимир сел рядом. Взглянув на книгу, которую держала жена, он увидел, что она была раскрыта на той же странице, что и вчера. И Владимир вдруг понял, что Лида, уложив детей, не читала. Не могла, обеспокоенная его долгим отсутствием. Такова участь жены командира. Он может пообещать вернуться со службы пораньше, чтобы с женою пойти в кино, но не сдержать обещания. И не по своей вине. А если он дома, его могут вызвать в любое время. И он моментально вскакивает, словно только и ждал вызова, поспешно одевается, забыв иной раз попрощаться с семьей, несется в полк. А женское сердце холодит беспокойство. Что случилось? ЧП? Учебная тревога? Или?.. Нет, только не война, только не война! И жена опасливо вслушивается в ночь.
Во Владимире вспыхнуло чувство сострадания к Лиде, и он открылся:
– Было совещание, а потом разговор со Шляхтиным.
– Разговор? – Лида приподнялась. – О чем?
– О моей работе…
– Командир недоволен?
– Не так, чтобы очень… Но сдается мне, об одном и том же мы говорили на разных языках.
И Владимир пересказал разговор с командиром полка.
– Володя, ну зачем поступать по-своему, если это не нравится твоему начальнику? У нас еще нет квартиры, Володя. Разве тебе не надоело снимать вот такие каморки? Вспомни Москву… Да и раньше было не лучше. Восемь лет мы живем вместе и все восемь лет – на частных квартирах. На тебе это не так отражается: ты целыми днями на службе. А я дома. Я не могу пойти работать из-за того, что негде и не с кем оставить детей, что везде чувствуешь себя временным жильцом. Да если и пойдешь устраиваться на работу, там говорят: «А, жена военного – долго у нас не задержитесь». А зависимость от хозяев… Боже мой, ты ничего этого не испытываешь. Ты вообще не думаешь ни о чем. Все я… Мечтала: после академии получим квартиру, и вот… Обнадежил – поссорился с командиром полка.
– Никто ни с кем не ссорился, не преувеличивай. Все уладится, все разложится по полочкам.
– Насчет полочек я слышу уже в который раз, а квартиры все нет и нет.
– Будет… Когда-нибудь да будет.
– Вот именно: когда-нибудь.
Владимир сухо сказал:
– Давай лучше спать. Мне завтра рано в батальон.
В комнате тушью разлился мрак. Посапывали дети, ровно, еле слышно дышала Лида. И хотя Владимир лег давно, сон не шел к нему. Из темноты выглядывало то лицо полковника Шляхтина, то лица знакомых солдат и офицеров, то картина последнего совещания, то Лидия с ее укором. «Лида по-своему права…» Вспомнилось недалекое прошлое. Огромное монументальное здание академии, просторные аудитории, читальные залы, учебные кабинеты… Слушатели торопливо скрипели перьями на лекциях, стараясь записать как можно больше, на классно-групповых занятиях перевоплощались в военачальников, спорили, доказывали, шутя говорили: старик Эпаминонд[4]4
Войска Фив и Афин под командованием Эпаминонда в сражении при Левктрах в 371 г. до н. э. одержали победу над численно превосходящими спартанцами.
[Закрыть] и не подозревал, что открытый им великий тактический принцип неравномерного распределения сил по фронту более чем через два тысячелетия будет взят на вооружение всеми армиями мира. В перерывах же, куря на лестничной площадке, рассказывали анекдоты, острили и мимоходом сетовали на отмену выплаты так называемых квартирных денег, жаловались на неустроенность быта.
Хабаровы снимали комнату в Бауманском районе, в старой, густонаселенной квартире. И хотя это заметно отражалось на семейном бюджете, иного выхода не было.
Напротив, через улицу, строился жилой дом, один из тысяч домов, которыми стремительно обрастала Москва. Глядя в окно на этот дом, Лида мечтательно говорила:
– Когда у нас будет своя квартира?
– Скоро, Пушинка, скоро… Окончу академию – сразу получу диплом, назначение на должность и ордер на квартиру, – весело успокаивал Владимир жену.
«Диплом и должность есть, а с квартирой по-прежнему. Да еще объяснение со Шляхтиным. Он, говорят, такой человек: если что не по нему… Совсем некстати это, рано… Да, Лида, может, по-своему права… – вторично подумал Владимир. – Ну а я? Или, даже если прав, благоразумнее поступиться своими принципами в угоду тихому благополучию?» Владимир не сказал себе ни «да» ни «нет». Он только мысленно произнес в темноту, никому не адресуя: «Что ж, посмотрим…»
4
Вечером следующего дня, освободившись пораньше от дел, Хабаров зашел в библиотеку Дома офицеров. Взял справочный том к сочинениям Ленина, не отходя от стойки, отыскал работы, в которых Владимир Ильич пишет об укреплении Красной Армии.
В читальном зале было довольно людно, однако на Владимира никто не обратил внимания: обложившись книгами, офицеры сосредоточенно работали. Владимир прошел к свободному столику, сел, включил настольную лампу и раскрыл двадцать девятый том. «Все на борьбу с Деникиным!» – прочел Владимир заглавие и углубился в чтение.
Еще в академии Владимир читал эту работу, тогда она входила в список обязательной литературы по программе истории партии. Теперь же не по учебному заданию, а по внутренней потребности Владимир обратился к ней, ища ответы на вопросы, которые, хотя волновали его и прежде, но с принципиальной остротой встали во время разговора со Шляхтиным. То, о чем писал Ленин, было вызвано к жизни одним из драматичнейших периодов в судьбе молодой Советской республики и, казалось, не имело отношения к тому, чем жили страна и армия в канун своего сорокалетия. Но, перенесясь мысленно к тому времени, Владимир не смог отключиться от теперешних забот и к радостному удивлению своему все больше находил у Ленина таких мест, которые не устарели с годами. Одно из них, перечитав дважды, Владимир старательно выписал в тетрадь:
«…там, где тверже всего дисциплина, где наиболее заботливо проводится политработа в войсках и работа комиссаров… там нет расхлябанности в армии, там лучше ее строй и ее дух, там больше побед».
Именно этой очень четкой и понятной мысли вождя не хватало Владимиру вчера, чтобы более твердо и аргументированно отстаивать перед Шляхтиным свою точку зрения.
Владимир читал запоем, листая том за томом. Отдельные статьи и речи, телеграммы реввоенсоветам фронтов… Всюду, где бы Ленин ни говорил о Красной Армии, он как ее особенность выделял новую, коммунистическую, сознательную дисциплину бойцов, подчеркивал огромную силу коммунистических ячеек, благодаря влиянию которых даже бывшие царские офицеры и генералы становились защитниками революции; требовал не ослаблять политработу и «самым понятным языком» разъяснять, убеждать.
Это утверждало Хабарова в его собственной правоте.
Он не заметил, как читальный зал начал пустеть, и оторвался от книги, когда к нему подошла библиотекарь:
– Товарищ майор, мы уже закрываем.
– Так рано?
– Рано? Уже десять часов вечера.
Владимир глянул на часы: да, верно – и с сожалением поднялся, дав себе слово обязательно прийти сюда в ближайший свободный вечер.
Он возвращался домой возбужденный и бодрый, чувствуя на своей стороне такую поддержку, которая удесятеряла его силы.
Утром Владимир направился в партийное бюро полка. Секретарь майор Карасев, увидев посетителя, приподнялся из-за стола, подал руку, усадил напротив себя и скорее потребовал, чем попросил:
– Рассказывайте, как живете, как дела?
Владимир ответил обычным «ничего», но тут же оговорился, что есть у него сомнения, разрешить которые он, собственно, и пришел. Карасев сказал: «Очень хорошо, что пришли», навалился округлой грудью на стол и приготовился слушать. Владимир начал без обиняков, прямо с последнего заседания партийного бюро батальона, и кончил тем, какую реакцию вызвало оно у полковника Шляхтина.
– М-да, вот, значит, что… – озадаченно протянул Карасев, когда Хабаров умолк, и зачем-то стал перекладывать с одного места на другое лежавшие на столе бумаги. – А может быть, все это вам показалось и никаких ненормальностей нет? – вкрадчиво проговорил Карасев после долгой паузы.
Владимир, не колеблясь, ответил:
– Есть. Я советовался с Лениным, и он меня убедил: есть.
– Да, Владимир Ильич – наш великий советчик, – подхватил Карасев, распрямившись на стуле.
– А вы давно к нему обращались? – поинтересовался Хабаров. Ему очень хотелось найти сейчас умного собеседника, которому он мог бы поверить все, что Ленин пробудил вчера в его душе. Но его невинный вопрос Карасева смутил. Правда, он тут же бодро заверил:
– Читаю, читаю. Нам, политработникам, нельзя не читать.
Но на самом деле Ленина он давно уже не читал – текучка заела. Признаться же в этом рядовому члену партии Карасев считал недостойным своего положения. Впрочем, Владимир хорошо его понял и теперь терпеливо ждал, что секретарь скажет в ответ на его исповедь. А Карасев тоже думал, что сказать, ибо опасался попасть в щекотливое положение. Он знал свои обязанности: помогать командиру-единоначальнику успешно решать стоящие перед полком задачи. А то, о чем говорил Хабаров, касалось чисто служебной деятельности командира – области, в которую партийной организации вмешиваться не дано право. Это табу не им, Карасевым, было наложено, и не его, простого майора, дело против него выступать, что-то перестраивать, полагал он. Однако сказать так пришедшему к нему за советом человеку – значило вконец уронить свой престиж. И Карасев ухватился за ту спасительную мысль, которая, как защитный рефлекс, возникла в его мозгу, как только беспокойный командир батальона высказался.
– Мне кажется, товарищ Хабаров, у нас нет оснований делать какие-то выводы. Фактов для этого мало. Одного разговора с товарищем Шляхтиным, который вы приводите, явно недостаточно для критики установившегося в полку порядка. Имейте в виду: полковник Шляхтин – командир опытный, у него многому можно поучиться. А что он малость резковат, так это от характера. А характер в его возрасте переделать трудно, надо подлаживаться.
– Я имел в виду не характер… – тихо возразил Владимир.
– Да, да, понимаю, поэтому и говорю: оснований никаких нет…
Но у Владимира закралось сомнение, что Карасев его не понял, а еще хуже – намеренно не пожелал понять. Владимиру стало ясно, что делать ему здесь больше нечего, он встал. Карасев с поспешностью вскочил тоже и первым, торопливо, словно опасаясь, что Хабаров может раздумать, протянул руку.
Насколько воодушевленным, преисполненным энергии, жаждущим действий, борьбы шел вчера вечером Владимир из библиотеки, настолько расслабленным возвращался он сегодня от секретаря партийного бюро.
V. ДУШНАЯ НОЧЬ
1
«Лесной табор» – так с чьей-то легкой руки именовали лагерное поселение офицеров и их семей – раскинулся в буйно разросшемся у реки молодом орешнике и дубняке, в километре от воинских подразделений. В отличие от солдатского палаточного городка с его четкой планировкой в «таборе» даже днем не мудрено было долго плутать, а ночью, когда все словно растворялось в аспидной черноте, тем более. Жители этих упрятанных в чащобе мазанок с наступлением вечера передвигались с карманными фонариками. Это походило на феерию: темнота, рыскающие лучики света в зарослях, пляшущие тени…
Полковника Шляхтина, привыкшего к строгим линиям военных городков, коробило поначалу от одного вида такого хаоса. «Как в Запорожской сечи», – ворчал он и, имей на то волю, снес бы к чертям все это лесное гнездовье. Наверное, так бы он и сделал, если бы не снисходительность командира дивизии.
– Пускай живут. Офицер в лагере находится чуть ли не полгода. Каково ему без семьи? Да и семье не слаще. А тут тебе лес, река… Курорт…
– Ясно, пускай живут, – не посмел возразить Шляхтин, но и не уступил безоговорочно: – Но порядок должен быть везде. Следовало бы распланировать, а еще лучше – построить дачного типа домики.
Комдив улыбнулся:
– Это было бы идеально, Иван Прохорович. Увы, такая роскошь нам пока что не по плечу: первая наша забота – боевая готовность. Нам предстоит усовершенствовать учебную базу – переоборудовать по последнему слову техники стрельбище, полигон, танковую директрису, учебные классы. На все нужны средства, и немалые. Мы не можем их распылять. Не имеем права. Так что офицерам придется пока пожить вот этак, по-цыгански. Что поделаешь: слишком дорогое удовольствие – оборонная мощь. Но, сам понимаешь, иного выхода пока нет: будешь слабым – слопают тебя с потрохами. – Командир дивизии вздохнул.
Шляхтин почувствовал себя сконфуженным своей местнической ограниченностью и перестал замечать «стихийное безобразие», как он назвал однажды «табор». Вскоре по примеру большинства, хотя мнение большинства не всегда и не во всем бывало для него решающим, он сам перевез свою семью в небольшой, в одну комнату, дощатый домик, построенный на берегу реки. Каждое утро в 7.45 к домику подкатывала автомашина и забирала полковника. В 14.10 она привозила его на обед и в 16 часов увозила. Зато вечером Иван Прохорович возвращался домой пешком. Это вошло у него в привычку, которой он не изменял, когда бы ни заканчивал служебные дела.
Изменил он ей лишь сегодня, выбитый из колеи чрезвычайным происшествием в батальоне Хабарова.
Шофер, доставив командира полка домой, осведомился, в какое время приехать за ним завтра.
– Как всегда.
Шляхтин и здесь остался верен себе, хотя было уже за полночь. Он устало, словно с ношей на плечах, поднялся на террасу, толкнул дверь в комнату.
– Это ты, Ваня? – сонно спросила Екатерина Филипповна, жена.
– Я.
Шляхтин нащупал на столе лампочку-грибок, с силой нажал на выключатель. Мрак рассеялся. Иван Прохорович, отвернувшись от жены и сына, медленно разделся. Оставшись в бриджах и белой майке, он стал тереть ладонью свою широкую волосатую грудь. Его отрешенный взгляд невидяще застыл на одной точке, потом скользнул по комнате и остановился на сыне. Тринадцатилетний Алешка, гордость Ивана Прохоровича, спал на боку, колени к подбородку. Так лежал на траве в подтеках крови ефрейтор Ващенко. Сходство в позе было столь разительно, что Ивана Прохоровича кольнуло в сердце, он сдавленно охнул.
– Ты чего, Ваня?
Екатерина Филипповна, все это время с недоумением наблюдавшая за мужем, вскочила с постели. Ночная сорочка сползла с пышного плеча, обнажив полную грудь. В иное время Иван Прохорович крутнул бы ус и с грубоватой удалью сказал: «Жена, не волнуй старика», – шагнул бы к ней, обнял… Но сейчас не сдвинулся с места. Екатерина Филипповна машинально одернула сорочку, нащупала ногами туфли и подошла к мужу.
– Ваня…
– Солдата только что убили…
Екатерина Филипповна отшатнулась.
– Какой ужас… Как же так, Ваня?
– Не знаю.
Шляхтин говорил правду: он еще не знал, как случилось несчастье. Взглянув на побелевшее лицо жены, Иван Прохорович пожалел, что поделился с нею своим горем. «Она жалуется на сердце», – вспомнил он и, чтобы успокоить жену, ласково сказал:
– Ложись, Катя, спи… – А сам направился к двери.
– Куда ты?
– Покурить.
Иван Прохорович вышел из комнаты и опустился на ступеньку веранды. Струившаяся с реки прохлада мягко и влажно обволокла тело. Полковник не шевельнулся. Он глубоко затягивался папиросой и смотрел прямо перед собой. Под его тяжелым взглядом темнота постепенно начала отступать. Иван Прохорович различал уже отдельные деревья и сквозь сплетение их ветвей – контуры косогора на той стороне реки.
Все больше и больше предметов выделял из ночи Иван Прохорович. А мозг был занят тем временем хотя и сходной, но более сложной работой: из хаоса разновременных событий он выбирал такие, которые могли бы дать ответ на вопрос: почему в первом батальоне произошло ЧП? У полковника было железное правило – дотошно анализировать каждое явление, выходящее из русла нормального течения жизни полка. Так повелось еще с фронта.
В сорок втором, осенью, батальон, командование которым только что принял капитан Шляхтин, проводил разведку боем. Готовились к делу тщательно, поэтому в успехе не сомневались. Однако батальон, продвинувшись метров на 700, под плотным огнем немцев залег и стал зарываться в землю. Не думая о смерти, Шляхтин сам ринулся вперед. Но порыв командира не дал желаемого: снова враг прижал бойцов к земле. Шляхтин был вне себя от гнева и бессилия. Правда, батальон свое дело сделал: вскрыл истинный передний край обороны противника, его систему огня, значительное число огневых точек. Но добиться можно было большего, если бы… Вот над этим «если бы» Шляхтину пришлось поломать голову.
– В чем причина вашего частичного неуспеха? – спросил Шляхтина командир дивизии тоном преподавателя академии, кем он и был до войны, а не грозного военачальника, каковым представлялся молодому комбату. Шляхтин был застигнут врасплох: сам он после боя дал вздрючку ротным, обозвал их трусами и считал, что поступил правильно; теперь подошла его очередь получить по заслугам, и он приготовился к этому. Но не получил. И вместо того чтобы обрадоваться и начать выкручиваться, как сделали бы на его месте иные, со свойственной ему прямотой, словно сам напрашивался на взыскание, признался:
– Не знаю, товарищ генерал.
– А вы подумайте. Командир должен уметь анализировать действия – и свои, и подчиненных, делать из них выводы. На будущее – воевать нам еще долго…
Вернувшись от командира дивизии, Шляхтин вместе со старшим адъютантом батальона, или начальником штаба, засел за разбор прошедшего боя. По карте они воссоздали всю обстановку. И тут комбату бросилось в глаза: в решающий момент схватки правофланговая рота оказалась позади основных сил. Она ввязалась в бой с мелкими подразделениями из боевого охранения противника, увлеклась этим боем и тем ослабила удар батальона. Выполняя указание комдива, Шляхтин доложил ему по телефону свои выводы. Генерал, выслушав объяснение Шляхтина, спокойно спросил:
– А что вы, как командир, предприняли для того, чтобы повлиять на ход боя?
Шляхтин опять был озадачен: своим вопросом комдив атаковал его с неожиданного направления и, будто не заметив замешательства молодого комбата, резюмировал:
– Вот вам вторая причина частичной неудачи батальона. – И, не меняя тона, закончил: – Я не наказываю вас: мне нравится ваша честность и прямота. Не глушите в себе эти ценные качества.
То был урок, который многому научил Ивана Прохоровича и запомнился ему на всю жизнь.
…Полковник Шляхтин напряженно искал обстоятельства, приведшие к ЧП в первом батальоне, и не обратил внимания на легкий скрип двери и шорох шагов сзади. Лишь когда на плечи ему легла мягкая пижамная куртка, он вздрогнул.
– Накройся, Ваня, простынешь, – заботливо сказала Екатерина Филипповна и села рядом. Вместе с теплотой, передавшейся от ее тела, к Шляхтину стали возвращаться самообладание и способность трезво мыслить. Он был признателен за это своей верной спутнице. В сорок первом она спасла ему жизнь, вынеся на себе из самого пекла под Смоленском. Потом, когда он вернулся из госпиталя, они встретились снова – санинструктор Катенька и командир роты Иван Шляхтин – и больше не расставались. С прежней семьей Иван Прохорович порвал. Хотел взять к себе сына, но мать не отдала. Тем не менее Шляхтин всегда заботился о своем первенце. Помогал ему и теперь, хотя тот уже перешагнул черту совершеннолетия (студент же – как не помогать!), хотя у самого Ивана Прохоровича рос второй сын и была другая жена. Он никогда не сожалел о том, что у него так сложилось, потому что женщины лучше Кати не встречал. Она была образцовой женой военного, непритязательной, безропотной, умеющей создавать уют почти из ничего, понимающей трудную службу мужа и всеми силами старающейся облегчить ее. Екатерина Филипповна и сейчас не докучала мужу расспросами. Она хорошо знала своего полковника: в такие трудные для него минуты самое лучшее – молчать. Сидеть рядом и молчать, пока он не успокоится и не заговорит сам, чтобы вслух разрешить сомнения. И Екатерина Филипповна терпеливо ждала, хотя ей очень хотелось узнать подробности случившегося, и с какой-то задумчивой нежностью гладила его неподвижную руку. А Шляхтин напряженно думал. Его память извлекла из прошлого и представила ему на суд устроенное в первом батальоне заседание партийного бюро, на котором обсуждали служебную деятельность офицера. Конечно, речь шла всего-навсего о лейтенанте Перначеве, о деловых качествах которого Шляхтин был невысокого мнения. Но не в этом суть. А в самом факте такого заседания. («Сегодня они обсуждают взводного, завтра – командира полка!») А когда Хабарову было сказано: плох Перначев – пишите представление, уволим, – так он на дыбы: зачем увольнять – молод, дескать, еще не нашел себя. «Вот и нашел, дождались…»
Вспомнилось и другое. Когда вышла Инструкция ЦК организациям КПСС в Советской Армии и Военно-Морском Флоте, Шляхтин не сразу уяснил себе, какие изменения несет она, поэтому с выводами не спешил, а тем более не спешил что-то ломать в работе. Зато в первом батальоне проявили удивительную прыть: не дождавшись указаний сверху, вокруг Инструкции по инициативе замполита «развернули работу». Созвали партийное собрание, и у Петелина с Самарцевым забило, как из фонтана: «Новое веяние…», «Живительный ветер…», «Смело вскрывать недостатки…» И все это при разлагающем попустительстве командира батальона, который нет чтобы поставить каждого на свое место и напомнить, кто в конце концов отвечает за батальон, – пошел у подчиненных на поводу и только поддакивал им.
В памяти всплыло и совещание, на котором Хабаров в присутствии младших по званию и должности вдруг замахнулся на начальника штаба полка: почему, дескать, по его распоряжению прервали в батальоне комсомольское собрание и отослали людей на хозработу?
А размагничивающая подчиненных затея Хабарова насчет рабочего дня офицера, высвобождения времени для книжек там, театров?..
Что это – завихрения молодости или продуманная линия? Показать себя «новатором»? А опыт и советы старших – ему плевать? И это на виду у всех! А солдат не дурак, он все видит и на ус мотает: почему одним такое сходит с рук, а от него требуют – слушайся и повинуйся? Иной еще и подумает: повиноваться ли? Где сомнения – железной дисциплины не жди. А без дисциплины нет армии…
Чем гуще наслаивались в сознании Шляхтина факты, тем отчетливее виделась ему первооснова происшествия в первом батальоне. И брошенное в ярости Хабарову: «Доигрались… Либералы!» – теперь уже представлялось Шляхтину единственно точным определением причины.
Иван Прохорович не раскаивался, что при всех сказал так.
– Такие дела, Катя… – Он глубоко вздохнул, помолчал и стал рассказывать, что произошло на полигоне.








