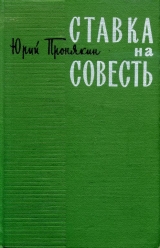
Текст книги "Ставка на совесть"
Автор книги: Юрий Пронякин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
2
После ярко освещенного класса давящая чернота ночи ослепила Ивана Прохоровича. Но он не стал ждать, когда глаза привыкнут к темноте, и пошагал наугад, скорее осязая, чем видя, протоптанную в зарослях тропку. Ноги то и дело на что-то натыкались, а по выставленной вперед руке стегали слившиеся с темнотой ветки; раза два они звонко щелкнули по козырьку.
Иван Прохорович отпихивал носками сапог подвертывавшиеся комья земли и сучья и клял себя за то, что зашел в класс: только настроение испортил. И тем, что столкнулся с нарушением порядка, и тем, что не поступил, как должен был по праву требовательного командира.
В последнее время он, наблюдая бескорыстную старательность нового секретаря в работе, стал относиться к нему по-иному, более того, дал партийным руководителям свободу действий: в их дела старался не вмешиваться, лишь бы они не трогали его.
Ивана Прохоровича вполне устраивала такая расстановка сил. И если бы вокруг него опять заварилась каша, вряд ли бы кто-нибудь стал, как на достопамятном отчетном собрании, винить его в администрировании, зажиме и прочих бюрократических грехах. Нет, он, полковник Шляхтин, больше не зажимает и не ущемляет. Однако и нынешняя его позиция почему-то не нравится начальнику политотдела.
В один из первых лагерных дней Ерохин с утра заявился в полк. Вместе с замполитом Неустроевым обошел чуть ли не все подразделения, а вечером заглянул к Шляхтину:
– Извини, Иван Прохорович, что я к тебе – под занавес: утром тебя не застал, потом самого дела закрутили.
Ерохин пожал Шляхтину руку и без приглашения сел на старый, с высокой спинкой кожаный диван, выглядевший в строгом командирском кабинете нелепым излишеством. Шляхтин вышел из-за стола и сел рядом. Закурили.
– Как поживаешь? – дружеским тоном произнес Ерохин и выжидательно посмотрел на собеседника.
Шляхтин усмехнулся:
– Как вол на току: от зари до зари на солнышке.
– Зато другие у тебя в тени.
– Кто же? – Шляхтин насторожился.
– Изварин, к примеру. Твой боевой зам.
Ерохин лукаво прищурил глаза. Шляхтин сжал челюсти, на скулах взбугрились желваки. Но тут же отошел и спокойно разъяснил:
– Изварину обижаться не на что: я предоставил ему полную свободу.
– И замполиту, и секретарю партбюро – тоже? – с легкой иронией в голосе опросил Ерохин, не отводя от яйца Шляхтина пристального взгляда.
– А они чем недовольны?
– Формально – ничем. А по существу… Пойми меня правильно: я далек от мысли в чем-то упрекать тебя. – Ерохин придвинулся к Шляхтину и рукой притронулся к его колену. – Но мне думается, Иван Прохорович, что ты с одной обочины перемахнул на другую.
– То есть? – густые брови Шляхтина взметнулись и застыли, точно крылья встревоженного ястреба.
От прямого ответа Ерохин уклонился, зато спросил:
– Скажи мне, Прохорыч, как на духу: сколько раз приходил ты к своим заместителям и секретарю партбюро с какими-то рекомендациями, предложениями, за добрым советом, наконец?
– А есть на меня по этой части жалобы? – ощетинился Шляхтин.
– Нет.
– Так о чем тогда разговор?
Шляхтин привалился к спинке дивана и закинул правую ногу, которой все еще касалась рука Ерохина, за левую; голенище сапога засияло отраженным светом лампочки, свисавшей с потолка.
– Разговор вот о чем… – выпрямившись, спокойно сказал Ерохин. – Что ты держишь себя с ними как начальник с подчиненными. И только. Оговариваюсь: ты им не отказываешь в разъяснении очередных задач и свои соображения даже излагаешь. Но делаешь все это лишь тогда, когда они к тебе приходят. И получается: ты им нужен, они тебе – нет. А ты же командир-единоначальник… Ты должен опираться на них…
Шляхтин нетерпеливо поставил ноги рядом и всем корпусом повернулся к Ерохину.
– Выходит, я не опираюсь? – побагровев, перебил он начальника политотдела.
– Опираешься. Но как? По стойке «смирно» у себя в кабинете?
Высказав это, Ерохин сделал глубокую затяжку, но папироса погасла. Он приподнялся с дивана и положил окурок в тяжелую мраморную пепельницу, точно вросшую в стол.
Шляхтин проследил взглядом за неторопливыми движениями начальника политотдела, ожидая новой порции внушений. Но Ерохин, казалось, забыл, о чем он только что говорил, и, усевшись поудобнее, принялся рассказывать о своем посещении полка. В первом батальоне, как он узнал, вчера проходило партийное собрание, на котором коммунисты обстоятельно обсудили итоги зимнего периода обучения и высказали много дельного по части организации летней учебы.
– Интересное собрание, весьма интересное. Ты, случайно, не был на нем? – Ерохин искоса поглядел на Шляхтина.
– Нет, – буркнул тот.
– Жаль. На таких собраниях нам, руководителям, бывать не мешает.
Шляхтин промолчал. Иначе пришлось бы сознаться, что о собрании слышит впервые, – он, который всегда бывал в курсе всех полковых дел! Виноваты тут, конечно, Хабаров и Петелин: почему не предупредили? Пошел бы он на собрание или нет – другой вопрос. Но знать о нем должен был.
Недовольство виновниками его неосведомленности отразилось на лице Ивана Прохоровича. Ерохин же принял это за признание самолюбивым полковником своих промахов и решил: на сегодня с него хватит.
– Наговорил я тебе, – сочувственно сказал Ерохин, – не обижайся. Да и не за этим пришел. Хочу посоветоваться с тобой… – Давая Шляхтину время переключиться с одного на другое, Ерохин снова стал закуривать. – Вот какое дело, Прохорыч, – продолжил он после паузы. – Осенью Военный совет округа будет вручать лучшим полкам переходящие знамена. Слыхал, поди? Отлично… Почему бы вашему полку не включиться в борьбу за Знамя? Коллектив у вас сильный. Командир – тоже, хотя иногда… – Ерохин улыбнулся и покачал головой.
– Надо подумать, – ответил Шляхтин.
И по тому, что сказал он это не сразу и очень серьезно, Ерохин решил: ему удалось высечь искру, которая не погасла тут же.
– Подумай непременно! – одобрил он и погрозил пальцем: – Только не в одиночку.
Разговор этот происходил с глазу на глаз, миролюбиво, тем не менее Ивану Прохоровичу стало не по себе. И главным образом потому, что Ерохин развенчал в нынешнем поведении Ивана Прохоровича именно то, что последнему казалось неуязвимым. Было отчего прийти в дурное настроение… Однако выручило Ивана Прохоровича предложение Ерохина начать борьбу за переходящее Знамя. Зная свой полк, Шляхтин не мог сказать, что непременно выйдет победителем. Но сама мысль о борьбе манила полковника.
В последнее время жизнь в полку текла ровно и относительно спокойно – без ЧП и передряг. Это, конечно, отрадно. Но Иван Прохорович после отчетно-выборного собрания временами чувствовал себя, как рвущийся на передовую солдат, которого, однако, после тяжелого ранения выписали из госпиталя со свидетельством «Годен к нестроевой». Полковнику Шляхтину нужно было дело, которое захлестнуло бы с головой его самого, а по детонации – и весь полк. Вот такое дело он и увидел в походе за переходящее Знамя.
С переездом в лагерь полк сразу же втянулся в летнюю учебу. Иван Прохорович большую часть времени пропадал на учебных полях и выгонял туда своих замов и помов. Особенно после того, как партийное бюро ополчилось против недооценки кое-кем из коммунистов полевой выучки личного состава. Иван Прохорович поначалу не хотел быть на заседании, однако пошел, чтобы избежать упреков того же Ерохина. И не напрасно. Он услыхал много дельного и, как командир, сделал для себя выводы; правда, вслух мнения о полезности заседания не высказал.
То, что Иван Прохорович наблюдал теперь в подразделениях, вселяло в него надежду: полк может соперничать с другими претендентами на Знамя. Это уже хорошо, считал он.
Но установившийся ритм полковой жизни был сбит внезапным сообщением о приезде инспекторской комиссии. Иван Прохорович сожалел, что сама проверка затеяна несвоевременно: еще не все учебные задачи, запланированные на лето, отработаны. Своим беспокойством он поделился с Извариным, хотя после партийного собрания и держался от него на некотором расстоянии. Аркадий Юльевич только и ждал от Шляхтина этого шага: он торопливо, точно боялся, как бы Шляхтин не оборвал его, стал перечислять, что, по его мнению, можно сделать в оставшиеся до приезда комиссии дни. Советы Изварина в общем-то были толковы. Шляхтин почувствовал себя увереннее. Однако принять предложения своего зама не спешил. Иван Прохорович опасался, как бы пожарные меры не привели к сутолоке и ненужной нервотрепке и проверяемые не показали себя комиссии хуже, чем есть на самом деле. Взвесив это, Шляхтин пришел к мысли: одних его указаний и жесткого контроля за их исполнением недостаточно. Нужно нечто такое, что вызвало бы у людей душевный подъем, уверенность в собственных силах. Как бывало в бою: солдаты бросались в атаку не только потому, что командир приказывал им…
И Шляхтин, одним ударом сокрушив стену, которую сам возвел и ревниво оберегал, пошел в партийное бюро. Впервые за все годы, что командовал полком.
Поступая так, Иван Прохорович боялся одного: увидеть в глазах Петелина откровенное торжество. Но Шляхтин сломил в себе сопротивление уязвленного самолюбия и приготовился стойко перенести свое «падение» (смог же он это сделать, советуясь с Извариным, и сделал не зря): не ради личной корысти шел на такое. Но ни с чем подобным он не столкнулся. Наоборот, увидев командира, Петелин открыто обрадовался, и это подействовало на Шляхтина успокаивающе. Он сказал Петелину о цели своего прихода. Павел Федорович предложил созвать бюро и пригласить секретарей первичных парторганизаций. Шляхтин согласился.
Открывая заседание, Петелин торжественно произнес:
– Помните, товарищи, боевой клич времен войны: «Коммунисты – вперед!» Возможно, сегодня нет надобности повторять его громогласно. Но держать здесь, – Петелин приложил руку к сердцу, – наш долг…
Шляхтин слушал секретаря и выступавших после него коммунистов напряженно притихший и молчаливый. В нем сталкивались два противоречивых чувства: уважение к этим людям, которые, оказывается, так же, как и он, неподдельно болеют за полк, и какая-то сосущая ревность к ним из-за того, что они, казалось ему, считают себя хозяевами положения, хотя здесь присутствует действительный хозяин – командир. Они толково докладывали бюро о положении в подразделениях, о настроении солдат и вносили предложения, как помочь делу. В этих докладах и предложениях, а главное – в самой атмосфере заседания Шляхтин и нашел ответ на вопрос, который привел его сюда. И он, имевший поначалу намерение дать партийным активистам свои указания, вдруг понял: сейчас они ни к чему. Поэтому, когда Петелин обратился к нему: «У вас есть замечания, товарищ полковник?» – Шляхтин ответил: «Нет. – И, помолчав, добавил: – Я рассчитываю на вас…»
В этом заявлении никто не узнал прежнего Шляхтина. Он себя – тоже…
С заседания бюро Иван Прохорович шел полный раздумий о событиях минувшего дня. Кажется, все, что нужно и можно было сделать, он сделал и лишь сожалел, что о партийном бюро вспомнил в последнюю очередь.
От всего пережитого Иван Прохорович сейчас, когда оказался один, почувствовал огромную усталость. А ведь главное было еще впереди. И завтрашний день, как и все последующие, потребует от него, как от солдата на марше, полной выкладки – нужно отключиться от всяких служебных дел и хорошенько выспаться. И подумав об этом, Иван Прохорович ощутил острое желание поесть – он же сегодня еще не обедал! Переключившись на «мирские» заботы, Иван Прохорович вдруг увидел в одном из классов учебного корпуса свет и завернул, чтобы узнать, что там происходит. Оказалось: целый взвод во главе с командиром сидел за учебниками, хотя отбой уже был. А ведь он, полковник Шляхтин, особо предупредил командиров подразделений: никаких нарушений распорядка дня! И вот пожалуйста… Это ли не прямое игнорирование его распоряжения? И не только нерадивым лейтенантом… Здесь перед приходом Шляхтина побывал Петелин.
Иван Прохорович возмутился. Однако вопреки изначальному побуждению – прекратить и наказать – ограничился полумерой.
…Полковник Шляхтин шагал напролом по скрытой в черных зарослях дорожке и, забыв про голод, напряженно выискивал причину своей нерешительности. В том ли все дело, что он чертовски устал и на него нашло непонятное отупение? Но он уставал и прежде, да не так еще, однако никогда не позволял себе раскиснуть, расслабить волю. Тут что-то другое, что-то другое… «Ерунда! – чуть не сказал вслух Иван Прохорович. – Просто переутомился и сдал. Может, и с Петелиным такое приключилось… А вообще-то надо было спросить, что он им тут говорил… Ладно, пускай занимаются, лишь бы на проверке не подкачали», – решил, подходя уже к дому, Иван Прохорович.
3
Лена еще вчера уехала в город, и Василию, которому очень хотелось, чтобы в эту минуту она была рядом – так много нужно было сказать ей, – ничего не оставалось другого, как поверить свое сокровенное дневнику. Так Василий поступал много раз, пока снова, теперь уже навсегда, не встретился с Леной.
25 августа. Сегодняшний день – один из самых счастливых в моей жизни. Проверяли по политподготовке мой взвод. Поставили «отлично». Сам не ожидал. Ребята отвечали будь здоров. Без запинки на все вопросы: из учебника, из уставов, по текущим событиям в стране и в мире. Вася Мурашкин раз десять тянул руку – сперва он ответил не очень. И своего добился. Пятерка! Молодец! Вообще все молодцы. Старались вовсю. Чертовски приятно видеть такое.
Вспоминаю, как я начинал. Работа не ладилась и не нравилась. Хотел бросить, махнуть «на гражданку». Каким же лопухом я был, братцы! Теперь знаю: в каждом деле есть что-то удивительно интересное, увлекательное. Его только нужно увидеть. А увидишь, тогда поймешь: хоть чин у тебя маленький, но дело доверено огромное.
У меня никогда еще не было такого желания работать. Ребята говорят: «Спать не будем, но подготовимся так, чтоб и все остальное – на «отлично».
Ребята мои… Да с такими – хоть куда: на любое дело, сквозь любые преграды…
XV. ЗЛОВЕЩИЙ ГРИБ
1
К вечеру дивизия прорвала тактическую зону обороны «противника» и вышла в оперативную глубину. Началось преследование. Над Приднепровьем навис гул моторов и лязг гусениц. От поднятой машинами пыли ночь сделалась еще непрогляднее.
Батальон майора Хабарова, назначенный в передовой отряд, обогнал основные силы полка и полным ходом – насколько позволяли темнота и вилявший меж оврагами и рощами проселок – рвался к Днепру. Колонну возглавлял Хабаров – в шинели и каске, перепоясанный, с противогазом и тяжелым пистолетом. Вместе с ним в плавающем гусеничном бронетранспортере находились начальник штаба, командир гаубичного дивизиона, посредник и связисты.
Хабаров стоял рядом с механиком-водителем, навалившись грудью на край люка, и смотрел то на дорогу, скудно освещаемую подфарниками, то вдаль, в черноту. Он ничего не видел, зато знал, что где-то впереди, за левадами, – Днепр. К нему, наверное, уже подходит высланная от батальона разведка, которая восполнит недостаток человеческих органов чувств – видеть и слышать за много километров.
Ожидая от разведки донесений, Хабаров отдыхал, если можно назвать отдыхом только то, что не было надобности принимать в сумасшедшем темпе решения и управлять «боем».
Хабаров поднес к глазам часы – было уже около пяти утра. А он еще не смыкал глаз. Ему, комбату, спать нельзя. Впереди Днепр. Впереди «противник», который стремится оторваться от преследователей, переправиться через реку и остановить наступающих. Батальон Хабарова должен с ходу, на плечах «противника», форсировать Днепр и захватить плацдарм. «Не справишься – оторву голову вместе с каской», – сказал ему Шляхтин, когда ставил перед батальоном эту новую для него задачу. Владимир не обиделся. И потому, что говорить так было в манере командира полка, и потому, что свою угрозу тот произнес хотя и с нарочитой свирепостью, но беззлобно. Видно, хотел замаскировать этим другое: выделив в передовой отряд батальон Хабарова, Шляхтин тем самым негласно признавал его лучшим. Какой старший начальник, думал Владимир, станет назначать на столь ответственное дело, от успеха которого зависит успех полка и даже дивизии, человека, в силы которого он не верит? Нет, Шляхтин пойти на такое не мог, заключил Владимир. А раз не мог, значит, его отношение к Хабарову изменилось. Да и то сказать, между ними уже долгое время не случалось стычек. Шляхтин не дергал Хабарова без надобности и хотя по-прежнему был к нему строг, но в строгости своей не опускался до мелочных придирок. Так что, вполне вероятно, сам Хабаров не всегда был беспристрастен в оценке отношения к нему полковника Шляхтина. Вполне вероятно…
Вообще в последнее время люди в полку заметно изменились: стали яснее и глубже понимать, что от них требуется. Понимать они и прежде понимали, но исполняли требуемое порой лишь в силу того, что держали себе на уме: не сделаешь – по холке получишь. Моральная ответственность за дело повысилась. Конечно, не просто и не сразу… Это Владимир на себе ощутил. Особенно после одного из заседаний партийного бюро полка, на котором заслушивали его. «Расскажите, как у вас командиры подразделений вовлекаются в активную воспитательную работу с подчиненными», – обратился к Владимиру Петелин. Владимир не сказал бы, что его обрадовала такая просьба. Но не подчиниться воле партийного бюро он не мог, как не мог и изворачиваться. Он начал прямо с себя. И кончил собою же: признанием, что и у него, и у тех, над кем он стоит и кому обязан подавать пример, недоделок уйма.
Уходя с заседания бюро, Владимир более отчетливо видел эти недоделки и знал, как их устранить, – советов надавали ему много. Но он унес с собой и другое: более обостренное осознание меры своей ответственности за все, что делается в батальоне.
Видно, и Шляхтин сознавал это по отношению ко всему полку, потому что, отдав Хабарову указания на преследование «противника» и форсирование Днепра, он спросил у Неустроева, кого из политработников думает он направить с первым батальоном. Неустроев торопливо сказал: Петелина. Шляхтин кивнул: добро. Такого за ним Владимир прежде не замечал.
…Занимался рассвет. Из темной бесформенной массы зарослей постепенно стали проступать отдельные деревья. Низины обволокло туманом, и возникший вдали песчаный холм словно отделился от земли. Туман густел и, подымаясь, казалось, торопился поглотить все, даже невидимое пока что солнце, уже позолотившее и подрумянившее небо.
Владимир поглядел на своих спутников. Скрючившись на низких скамьях и прижавшись друг к другу, они дремали. Их обросшие лица покрывал толстый слой пыли. Владимир сочувственно вздохнул и провел пальцами по собственному подбородку – он был шершав и колюч. «На первом же привале надо побриться», – подумал Владимир и притронулся к плечу начальника штаба, клевавшего носом над планшетом с картой. Начштаба моментально выпрямился и уставился на комбата, готовый исполнить его распоряжение.
– Давайте уточним положение «противника», – хрипло шепнул Хабаров, склонясь над картой. И хотя сказано это было очень тихо, остальные офицеры зашевелились, подняли голову, заморгали, закашляли.
Трудовой день начинался.
Начштаба связался по радио с разведкой, отметил на карте местоположение «противника» и головы своей колонны. До Днепра осталось восемь километров. Не так уж много. Хабаров изучал по карте местность. Вот тут, на песчаной пустоши, он развернет батальон в предбоевой порядок и двинется к реке. Если «противник» окажет сопротивление, он сомнет его стремительной атакой. Хабаров повернулся к командиру артдивизиона, немолодому, до невозмутимости спокойному подполковнику, и попросил подготовить огонь по прибрежному участку. Артиллерист зябко передернул плечами, потер ладони и, уточнив на своей карте, где Хабаров намерен развернуть батальон и в каком направлении наступать, подсел к радисту и стал отдавать распоряжения батареям.
От разведки поступило новое донесение: «противник» спешно переправляется на правый берег. «Старается увеличить разрыв… Не для того ли, чтобы нанести затем атомный удар?» – предположил Хабаров. Указал командирам рот рубеж развертывания и велел ускорить движение.
Встало солнце. Владимир спиной почувствовал его бодрящее тепло и обернулся. Прямо из-под солнца, из густой завесы пыли вырывались широколобые бронетранспортеры. И хотя колонна была большая, видел Владимир всего три-четыре машины, остальные словно растворились в пыли и тумане. На какой-то миг Владимира пронзило желание: эх, кинуть бы на лужайку шинель, растянуться на ней да погреться на солнышке! Но он отогнал от себя не к месту возникшее желание и приказал механику-водителю отвести бронетранспортер в сторону и заглушить мотор. Отсюда удобно было наблюдать, как батальон из походного порядка перестраивается в предбоевой. Хабаров глянул на часы и вдруг взорвался:
– Где Кавацук? Какого черта он медлит!
Первая рота наступала прежде во втором эшелоне и, когда батальон, назначенный в передовой отряд, принял походный порядок, стала замыкать колонну. Теперь же первая рота отстала. Хабаров понимал, что этой роте труднее, чем идущим впереди (последним на марше всегда труднее, а из-за пыли в хвосте колонны ничего не видно и нечем дышать), но во имя главной цели – форсировать Днепр – он не мог уступить жалости, тем более, что задержка на рубеже развертывания грозила сорвать успешно начатое дело. В эфир понеслись команды, адресованные Кавацуку.








