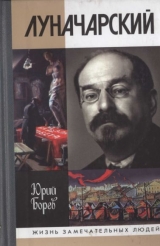
Текст книги "Луначарский"
Автор книги: Юрий Борев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 25 страниц)
Глава двадцать пятая
ИЗДАНИЕ КЛАССИКОВ
Луначарский – плодовитый критик. Его критические статьи сочетают в себе научность и публицистичность, политическую актуальность и устремленность в будущее. Он поддерживал принцип автономии Пролеткульта, против которой выступал Ленин. Как государственный деятель, руководивший культурой, Луначарский участвовал в создании основополагающих партийных документов. В их числе была и известная резолюция ЦК ВКП(б) 1925 года «О политике партии в области художественной литературы».
В поздних работах (1931–1933) эстетические и литературно-исторические воззрения Луначарского уточняются и углубляются. Его оценки творчества Горького сближаются с ленинскими, обостряется критическое отношение к теоретическим идеям и конкретно-литературным суждениям Плеханова и к философско-эстетическим взглядам Ницше.
В одной из последних работ «Гоголиана (Николай Васильевич приготовляет макароны)», опубликованной в 1934 году, Луначарский искал различия в разных литературно-публицистических формах и жанрах.
В приемной у начальства иногда у посетителей отыскивается общая тема и затевается какое-либо обсуждение или спор. На сей раз темой стал сам Луначарский.
– Луначарский – человек мягкий как воск.
– Нет, он тверд как кремень.
Однако спору было не суждено разгореться.
– Кремень, сверху покрытый восковой оболочкой, – примирительно сказал сидевший рядом с Тихоновым-Серебряковым высокий худощавый человек лет тридцати. Он, видимо, наконец дождался своей очереди, а потому встал с кресла, взял большой и, судя по всему, нелегкий чемодан, до того стоявший у его ног, и не спеша, с достоинством прошел в кабинет.
Луначарский согласно выработанному им служебному этикету, переросшему в своеобразный ритуал, вышел из-за стола встретить нового посетителя. Гость поставил на пол чемодан, пожал Луначарскому руку и представился:
– Корней Иванович Чуковский – журналист, критик, литератор. Вы, Анатолий Васильевич, читали, конечно, «Двенадцать» Блока? – Не дожидаясь ответа, Чуковский продолжил: – Перед нами плод высшего расцвета блоковского творчества, которое – от начала до конца – было как бы приготовлением к этой поэме. Поэма гениальна. Блок – величайший из ныне живущих поэтов! Вскоре это будет понято всеми!
– Суждения ваши не лишены резона, – ответил Луначарский.
Между тем посетитель, не говоря больше ни слова, открыл чемодан и разложил на письменном столе, креслах, подоконнике исписанные листы бумаги. Луначарский смотрел на эту сцену с недоумением.
– Что это? – спросил он.
– А вы посмотрите сами.
Когда Луначарский прочел один из листов, его охватил восторг.
– Некрасов? Рукописи? Вы занимаетесь Некрасовым?
Чуковский ответил:
– Не только Некрасовым. Я сейчас закончил, например, работу над анализом поэзии Уитмена.
Луначарский живо откликнулся:
– Открытость сердца – основа гениальности художника. Таков был Уитмен. Он, как и Некрасов, истинно народный поэт, и нужно его поэзию донести до нашего народа.
– Я не против, чтобы просвещать народ. Однако не надо иллюзий. Стендаль говорил: «Что касается меня, я хотел бы, чтобы жизнь была счастливой. Счастье подобно теплоте, которая поднимается с этажа на этаж; но я ни за что на свете не хотел бы жить с чернью, еще менее – быть вынужденным ухаживать за нею». Революция не должна ставить чернь над культурой и интеллигенцией.
Луначарский, сам обладавший отличной памятью, с уважением посмотрел на гостя, наизусть цитировавшего Стендаля. Однако, несмотря на симпатию, возникшую в его душе, Луначарский весьма критично высказался по поводу суждений этого сравнительно молодого, но уже имеющего некоторое имя литератора:
– Для Пушкина чернь – это вовсе не народ, а все те, кто противостоит и народу, и свету разума, и прогрессу, и культуре. Отношения же народа, интеллигенции и революции – более диалектичны и более плодотворны, чем вам кажется. Многое идет у вас от позы, а не от реальных жизненных и социальных позиций. Во всяком случае, эти ваши взгляды мы не примем, однако, если вы будете политически лояльны и реально, а не на словах, захотите сотрудничать в просвещении народа, дело для вас найдется. Мы будем создавать государственное издательство, и там ваши знания могут пригодиться. Если решите этот вопрос для себя положительно, приходите ко мне в начале следующей недели.
Чуковский обиделся:
– Вы еще в 1906 году резко отчитали меня в печати за мой призыв к абсолютно свободному искусству. А теперь я поделился соображениями, которые, мне кажется, могут быть полезны и даже необходимы… Никакой позы у меня нет…
Луначарский заставил себя набраться терпения и стал разъяснять свою позицию:
– Мы одновременно строим новую культуру и учимся тому, как ее строить, и пониманию того, какой она должна быть. Я не все знаю, я готов учиться у всех, у вас в том числе, но у меня есть твердые ориентиры, чему нужно и чему не нужно учиться и что нам нужно в будущем, какой должна быть наша культура…
Луначарский помолчал и после паузы примирительно сказал:
– Дайте я все-таки ознакомлюсь с сокровищами вашего чемодана.
Анатолий Васильевич охватил взглядом листы рукописей, разложенные по всему кабинету, где только возможно. С молчаливого согласия Чуковского нарком осторожно брал листы и подносил их к самым глазам, читая неразборчивый летящий некрасовский почерк. Чуковский же комментировал попадавшие в поле внимания наркома рукописи.
– Это наиболее свободный от цензуры вариант некрасовской поэмы «Пир на весь мир», а это – бесцензурный вариант поэмы «Русские женщины», которая по-новому прочитывается… – говорил Корней Иванович, воодушевившись горячей заинтересованностью Луначарского.
Тут лист выпорхнул из рук наркома и плавно опустился на пол. Молодой гость быстро нагнулся, ловко поднял его.
На следующей странице и без того неразборчивый некрасовский почерк был полустерт. Луначарский обратился к Чуковскому и попросил его помочь прочесть заинтересовавшее его место. Чуковский же не только помог, но и продолжал без устали комментировать каждую страницу, стремясь еще более разогреть любознательность Луначарского. Не без хвастовства Корней Иванович старался обрисовать масштабы, значение и трудность добывания тех сокровищ, которые оказались у него в руках:
– Эту тетрадку я разыскал в Павловске, у родной дочери Авдотьи Панаевой. Листок, который вы сейчас держите, я получил в Саратове, у вдовы поэта Зинаиды Некрасовой. А вот бесцензурная копия поэмы «Саша». Ее я добыл у Николая Федоровича Анненского. Эту же кипу рукописей предоставил мне душеприказчик сестры поэта – академик Кони…
Луначарский достал из верхнего ящика стола две книги и объяснил:
– Это мой «походный» двухтомник Некрасова.
Нарком открыл один из томов и, не находя нужной страницы и продолжая листать сборник, стал наизусть читать стихи из поэмы «Русские женщины», тут же комментируя некрасовские строфы:
– Помните ли, как в некрасовской поэме Пушкин в напутственной речи, обращенной к отъезжающей в Сибирь Волконской, утешает ее. Некрасовский Пушкин завидует подвигу княгини Волконской, видя в нем освобождение от плена светской черни:
Поверьте, душевной такой чистоты
Не стоит сей свет ненавистный!
Блажен, кто меняет его суеты
На подвиг любви бескорыстной!
Корней Иванович, обрадовавшись такому знанию и пониманию поэзии, прокомментировал строки, прочитанные наркомом:
– Здесь Некрасов пропускает сквозь свое поэтическое видение мнение Пушкина о «суетах» ненавистного света, выраженное в заключительных стихах шестой главы «Евгения Онегина», не вошедших в окончательный текст поэмы. Далее некрасовский Пушкин внушает Волконской надежду: «Пред временем рухнет преграда».
Отметив про себя литературную наблюдательность собеседника, Луначарский продолжил свою мысль:
– В поэму Некрасова входит тема бессмертия подвига Волконской, который выступает примером для потомства.
Анатолий Васильевич стал вновь наизусть читать некрасовские строки, продолжая между тем листать сборник стихов поэта.
– А, вот, нашел, – обрадовался он и прочел:
Умрете, но ваших страданий рассказ
Поймется живыми сердцами,
И за полночь правнуки ваши о вас
Беседы не кончат с друзьями.
Эта вера в бессмертие подвига совершенно в духе революционной этики 60–70-х годов XIX века. Далее идет цензурный пробел. Смотрите, в моем издании изъято целое четверостишие. Посмотрите, пожалуйста, нет ли в вашей бесценной коллекции этого четверостишия?
– Есть! Сейчас найду! – ответил с радостной горячностью и гордостью Корней Иванович и стал торопливо перебирать страницы, разложенные на подоконнике, продолжая при этом рассуждать:
– Уже не один десяток лет скрывается наиболее сильная часть напутственной речи Пушкина. Вот! Нашел! Слушайте:
Пускай долговечнее мрамор могил,
Чем крест деревянный в пустыне,
Но лицо Долгорукой еще не забыл,
А Бирона нет и в помине.
Луначарский взволнованно воскликнул:
– Как прекрасно! Это четверостишие и по содержанию, и по интонации особенно пушкинское! Как горько, что оно столь долго было неизвестно читателям! А как углубляется и идейно заостряется образ Волконской сближением с образом Наташи Долгорукой! Такое сопоставление совершенно в духе представлений декабристской среды…
– И какое точное сопоставление! – подхватил Чуковский мысль Луначарского. – Шестнадцатилетняя дочь петровского фельдмаршала, жившая в роскоши, через три дня после свадьбы последовала в Сибирь за своим сосланным мужем. Через восемь лет ее мужа пытал и казнил Бирон. Вдова казненного ушла в монастырь, где вскоре умерла…
Радуясь взаимопониманию с собеседником и восхищаясь его бесценной коллекцией рукописей, Луначарский сказал:
– Особая ценность найденного вами отрывка в том, что здесь сближаются не только Волконская и Долгорукая, но и Николай I с временщиком и гнуснейшим палачом – Бироном.
– Да, – подхватил Чуковский, – у Некрасова Пушкин выступает как гуманист, враг деспотизма и друг свободы.
– Вот именно, – вновь обрадовался Луначарский, – а ведь встреча Пушкина и Волконской произошла в 1826 году. Многие пушкиноведы утверждали, что в это время Пушкин отрекся от своих прежних вольнолюбивых идей. В трактовке же Некрасова, несомненно, исторически верной, утверждается обратное: Пушкин остался верен своим идеалам и памяти своих друзей.
Воцарилось молчание, полное радостного возбуждения. Чувствуя, что восторженность, охватившая наркома, может остыть, Чуковский решил подогреть его интерес и после паузы обратил внимание на новую кипу листов:
– Я отыскал неизданное стихотворное обращение Некрасова к Достоевскому.
Луначарский взял в руки рукопись и стал читать:
Что ты задумал, несчастный?
Что ты дерзнул обещать?..
Помысел самый опасный —
Авторитеты карать!..
В доброе старое время —
Время эклог и баллад,
Пишущей братии племя
Было скромнее стократ.
Чуковский, проявляя блестящую эрудицию, стал комментировать:
– Эти стихи относятся к историческому эпизоду: Достоевский по возвращении из ссылки затеял издавать журнал «Время» и опубликовал в 1860 году программу этого журнала, суть которой, во-первых, независимость от литературных авторитетов при полном уважении к ним; во-вторых, обличение литературных странностей эпохи. Достоевский писал: «Мы не побоимся иногда немного „пораздразнить“ литературных гусей…» Именно эти положения программы и вызвали шуточное обращение Некрасова к Достоевскому.
– Конечно же, Корней Иванович, эти стихи важно опубликовать. Каждая строчка классиков требует внимательного и бережного отношения. Кроме того, перед нами яркий эпизод литературного процесса шестидесятых годов прошлого века. Такие факты бесценны для истории литературы.
Чуковский, радуясь похвалам и восторгам Луначарского, продолжал представлять и нахваливать свою действительно богатейшую сокровищницу:
– А на следующей странице продолжение этого стиха. Всего пятнадцать четверостиший. Вот видите, в них о Майкове, и о Полонском, и о Фете, и о Тургеневе…
– Достаточно было бы одного имени Достоевского, чтобы этот стих был важен и интересен. А знаете ли вы, Корней Иванович, эпизод с Достоевским у могилы Некрасова? Мне об этом Георгий Валентинович Плеханов рассказал. Достоевский над гробом Некрасова сделал усилие над собою и, несмотря на то, что ему не были близки творчество и позиции покойного поэта, вымолвил: «Он был не ниже Пушкина». Однако обступившая могилу толпа молодых людей закричала: «Выше, выше!» Достоевский поморщился и продолжал: «Не выше, но и не ниже Пушкина». Опять хор молодых голосов: «Выше, выше!»
Чуковский восторженно воскликнул:
– Я не знал об этом эпизоде! Он бесценен для истории литературных отношений минувшего века. Таких неизвестных еще науке фактов много. Например, в бумагах Панаевой я нашел некрасовскую эпиграмму «Социалист» на пушкиниста и критика Павла Васильевича Анненкова. Эпиграмма имеет в виду переписку и встречи русского критика с Марксом, а также известное радикальное высказывание Анненкова, который писал Марксу, что осуждает Францию за то, что она не пошла дальше Робеспьера. Некрасов осмеивает эту революционную позу Анненкова – человека умеренного, аккуратного и ни к каким горячим убеждениям не способного. В доселе неизвестной концовке эпиграммы Некрасов иронизировал над Анненковым:
А впрочем, может быть и точно
Социалист он беспорочный…
Пора, пора уж нам понять,
Что может собственных Катонов
И быстрых разумом Прудонов
Российская земля рождать.
Чуковский со дна чемодана достал еще одну пачку рукописей и стал их представлять наркому:
– Посмотрите! Это неизданная заметка Некрасова о Гумбольдте. А вот записи эпизодов из жизни декабристов, сделанные Некрасовым уже после окончания поэмы «Русские женщины».
– Интересно! Не собирался ли Некрасов написать поэму, посвященную жизни декабристов в Сибири? – предположил Луначарский.
– Это мне не приходило в голову! А ведь, возможно, собирался! – обрадовался Чуковский и продолжил представление своих богатств: – Вот до сих пор неизданные рукописи Некрасова: стихотворная пьеса «Как убить вечер». Из драматической поэмы «Медвежья охота», стихи, посвященные матери поэта, и черновой автограф стихов «Поэту» и «Сон Петра Ивановича».
Луначарский взволнованно воскликнул:
– Это огромные, бесценные сокровища! Революция должна вернуть их народу!
За дверью раздался шум какого-то спора. Луначарский выглянул и ахнул: вся приемная была полна народу. Нарком взглянул на часы и про себя подумал: «Я разговариваю с этим человеком уже около часа. Я увлекся. Ужасно неудобно получается. В приемной сидят люди, ждут, у многих срочные и неотложные дела, ждет академик Кони…» – вслух же произнес из полуоткрытой двери в приемную:
– Прошу извинить меня, я через минуту освобожусь.
Луначарский прикрыл дверь и вернулся в кабинет к своему креслу, но садиться уже не стал, давая понять, что беседу следует закончить. Чуковский стал торопливо собирать в чемодан рукописи. Луначарский успокоил его:
– Не торопитесь, пожалуйста, а то помнете листы рукописей, а они бесценны. Необходимо как можно скорее издать максимально полное собрание сочинений Некрасова. Революция должна нести свободу не только гражданам современной России, но и ее классикам. Советскому читателю надо дать советского Некрасова. Возьмитесь за это дело. Не один, конечно…
– Охотно включусь в эту работу, – сказал Чуковский.
Луначарский подошел к двери, приоткрыл ее и пригласил своего секретаря:
– Будьте добры, запишите, пожалуйста.
Секретарь сел за машинку и быстро застучал под диктовку наркома.
– «Уважаемый…» Поставьте многоточие и от руки впишите нужные фамилии. Ниже пишите текст: «Приглашаем Вас на заседание Комиссии по изданию русских классиков при Комиссариате просвещения. Повестка дня: общие организационные вопросы работы комиссии; об издании собрания сочинений Некрасова; назначение редактора собрания сочинений Некрасова.
Заседание состоится в помещении Наркомпроса в 10 часов утра 24 февраля 1918 года».
Луначарский прервал диктовку и сказал, обращаясь к Чуковскому:
– Редактором мы назначим Блока, а его заместителем и помощником – вас, Корней Иванович. Будьте здоровы и приходите на заседание.
Чуковский, попрощавшись, ушел, а нарком обратился к секретарю:
– Пошлите, пожалуйста, это приглашение Корнею Чуковскому, Александру Блоку, Натану Альтману и товарищам Лебедеву-Полянскому и Керженцеву.
За кулисами жанра: факты, слухи, ассоциации
В 1926 году в кооперативном писательском доме в районе улицы Герцена собрались литераторы. Троцкий в те поры старался играть роль мецената. Сталин тоже стал наведываться на литературные посиделки. Как-то раз он спросил у Всеволода Иванова:
– Что у вас выходит в ближайшее время?
– Новая книга.
– Хотите, я напишу к ней предисловие?
– Если книга плохая – ее не спасет никакое предисловие, а если хорошая – она не нуждается в рекомендациях.
Сталин обратился к Александру Фадееву:
– А вы такого же мнения?
– Предисловие очень важная вещь. К моей книге предложил написать предисловие Троцкий, но мы с ним люди разных жизненных восприятий. Вот если бы вы, товарищ Сталин, написали, я был бы рад.
Сталин не написал предисловия к фадеевской книге, но не забыл его согласия, и это определило карьеру будущего руководителя писательской организации. Не забыл он и отказа Иванова и хоть не преследовал его, но держал на расстоянии от высших литературных сфер и благ.
Во второй половине 1930-х годов Сталин приглашал Иванова на приемы, сажал напротив себя и, потягивая из рюмки вино, наливал гостю в бокал водку. Писатель послушно и молча пил, не стараясь ни расположить к себе вождя, ни объясниться. Это было похоже на экзамен на покорность. Возможно, именно смиренность Иванова в сочетании с прямотой спасли его и от гибели, и от судьбы литературного сановника.
* * *
Нередко Троцкий думает совсем по-сталински или, вернее, Сталин по-троцкистски: кто не с нами – тот против нас; главное в искусстве – содержание и политическая ориентация; писатели оцениваются в соответствии с критерием – за революцию или против. А разве не по-сталински (по-ленински, по-ждановски, по-бухарински) звучит формулировка Троцкого «переплавка человека»? Какая степень насилия в этом тезисе-образе!
Глава двадцать шестая
«КТО ТАМ ШАГАЕТ ПРАВОЙ? ЛЕВОЙ, ЛЕВОЙ, ЛЕВОЙ!»
Художники, скульпторы, актеры левого направления сразу приняли Октябрь и выразили желание сотрудничать с советской властью. Нарком просвещения Луначарский как государственный деятель в ситуации широкого бойкота революции и нового государства большой частью интеллигенции не мог не принять эту помощь. При этом такое решение вовсе не зависело ни от личных художественных вкусов наркома, ни от общей эстетической ориентации и художественной политики нового государства. В этом причина назначения на ответственные посты в Наркомпросе художника Д. П. Штеренберга и В. Э. Мейерхольда, поддержки футуристов и других авангардистов. Борьба реалистов и авангардистов в искусстве в результате Октябрьской революции обострилась, и поддержка Луначарским авангарда вовсе не означала, что он и новое государство склонны сбрасывать Пушкина с корабля современности. Нарком стремился предоставить возможность всем современным художественным направлениям самовыразиться. Будущая лукавая маоистская формула «Пусть расцветают все цветы, кроме вредных» оказалась внедренной в художественную жизнь Страны Советов в период руководства культурой Луначарским (1917–1929).
Луначарский работал с бумагами, подготовленными для него секретарем. В руки ему попало письмо дочери Пушкина, написанное на его имя: она жаловалась, что голодает, и просила помочь. Луначарский вызвал секретаря и распорядился оказать ей помощь. Продолжение этой истории было грустным: пока его распоряжение гуляло по кабинетам, дочь Пушкина умерла.
Следующее письмо было от крестьян села Михайловского, сообщавших: «На месте сим желательно увековечить память Пушкина – помещика нашего и память о революции». Анатолий Васильевич затруднился с ходу принять какое-либо решение и отложил письмо, чтобы его обдумать.
Другое, весьма странное, письмо заставило его расхохотаться. Когда вошел Мейерхольд, Луначарский встал из-за стола и пошел навстречу гостю, смеясь, щуря близорукие глаза и натыкаясь на кресла.
– Извините… – еле выговорил он и протянул руку: – Извините, Всеволод Эмильевич…
Мейерхольд смущенно улыбался, не понимая, в чем дело. Луначарский стал объяснять:
– Один весьма знаменитый и весьма пожилой человек… не стану называть его имени, подал проект, в котором предлагает ввести в России многоженство. Вот, полюбопытствуйте, что пишет этот достопочтенный прожектер: «На основании долгого личного опыта могу заверить вас, что многоженство – лучшая форма брака. Введите многоженство – и вы осчастливите миллионы людей».
(Заметим, что в начале XXI века депутат российской Думы Жириновский высказывал эту же идею. Он надеялся таким нетрадиционным способом решить демографическую проблему современной России.)
Луначарский и Мейерхольд дружно рассмеялись.
– Поразительно! Но этот проект разработан до мельчайших подробностей!.. Ну да бог с ним… Мне еще сегодня предстоит разговаривать с автором. Хватило бы сил не расхохотаться при нем… Ну что же, давайте о делах…
Мейерхольд удобно расположился в кресле, артистично положив ногу на ногу, и стал описывать положение в Александрийском театре, оценивая его как тревожное: из 83 человек труппы 45 решили оставить театр. Среди них было много именитых актеров.
Луначарский посерьезнел:
– Везде саботаж. И в театрах саботаж… Я выступлю перед труппой. Попробую объяснить смысл нашей революции и суть нашей художественной политики. Однако при всей сложности борьбы с саботажем это все-таки административно-организационные и политические проблемы. Их решать трудно, но еще более трудны будут сегодня творческие проблемы. Каким должен быть театр Революции, наш советский театр? Эта проблема не только административно-организационная и политическая, но и художественная, и эстетическая, и нравственная, и философская. Вы – первый крупный русский режиссер, принявший революцию, вы и должны решать эту проблему.
Мейерхольд уверенно заговорил о проблемах новой театральной эстетики:
– Я против сокрытия условности театра, я за максимальное использование этой условности. Я за выявление игровой природы спектакля. Мы не должны подражать на сцене обыденной жизни. Я за театр-балаган, за подлинно народный театр. Я хочу вынести театральный эксперимент на подмостки, окруженные рабочими и солдатами. Театр должен заговорить языком площади.
Луначарский высказывался менее решительно и не столь категорично:
– А не кажется ли вам, что театр революции – это еще и митинг, и плакат?
Мейерхольд парировал:
– Балаган и есть театральная форма митинга и плаката! Нужно смело использовать гиперболу, деформацию реальности. Новые формы решат проблему нового театра.
Луначарский возразил:
– Революция смела. Она любит яркость и новизну, однако не только в форме, но в первую очередь – в содержании. Традиция не опутывает революцию, не держит ее за руки, и это позволяет расширить реализм. Он может включить в себя фантастическую гиперболу, карикатуру, всевозможные деформации, если они служат выявлению внутренней сущности явления. Главное – понять суть переживаемой нами эпохи и выразить ее…
Мейерхольд был готов решительно продолжать спор и уже даже начал было полемизировать:
– Вы недооцениваете первостепенную значимость новой формы, роль условности и собственно театральности. Нужно…
Луначарский перебил:
– У нас еще будет время доспорить. Я хотел бы, чтобы вы более серьезно продумали те принципы, на которых должен строиться новый театр. Кроме того, подумайте и над административно-организационными проблемами. Я хотел бы, чтобы вы активно включились в строительство нового театра. Я предлагаю вам войти в руководство Петроградского театрального объединения, в руках которого сосредоточивается всё театральное дело столицы. Видимо, вам следует подумать и о вашей партийной принадлежности.
Мейерхольд ответил не так уверенно, как рассуждал о проблемах эстетики нового театра:
– Да, Анатолий Васильевич, вы предложили целую программу для моих размышлений. Подумаю и вновь приду к вам. Тогда и доспорим, тогда и отвечу на поставленные вами вопросы.
Нарком и режиссер тепло попрощались. Луначарский проводил гостя до самой двери своего кабинета и там дружески пожал ему руку.
За кулисами жанра: факты, слухи, ассоциации
Эренбург рассказывал, как Мейерхольд хотел его арестовать за недостаточно идейное понимание искусства.
* * *
В 1951 году рвавшийся на пост директора Института истории искусств замдиректора Кеменов выступил на партсобрании и высказал мнение, что директор института академик Грабарь не способен решать проблемы художественной культуры с партийных позиций, так как он беспартийный. Грабарь ответил ему: «В 1920 году, когда вы, Кеменов, пешком под стол ходили, я решил вступить в партию, но Владимир Ильич сказал: „Вы нам нужны беспартийный“». Кеменов так и не стал директором института.
* * *
Критик Юзовский рассказывал: «Первая моя рецензия была на пьесу Олеши в постановке Мейерхольда. „Литературная газета“ – главным редактором тогда был Силивановский – не хотела ее брать. Потом оказалось, что все газеты печатают статьи об этом спектакле. „Литературной газете“ неудобно было молчать, а под рукой другой статьи не оказалось. Дали мою. Статья понравилась Луначарскому. На следующий день он меня пригласил к себе. Поразила его манера общения: пожилой нарком просвещения советовался со мной, начинающим критиком, о задуманной им монографии о философе Бэконе».








