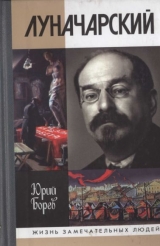
Текст книги "Луначарский"
Автор книги: Юрий Борев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц)
Глава четырнадцатая
ПЕРВЫЕ НЕДЕЛИ ПОСЛЕ 25 ОКТЯБРЯ 1917 ГОДА
Луначарский на заседании комиссии 13 декабря 1917 года выступил на тему реформы школы. Он считал, что реформа эта должна идти на основе четырех методологических принципов: изучение предшествующего опыта работы школы в России и Западной Европе; создание идеальной картины школьного дела; разработка его реорганизации (план-минимум); организация образцовых учебных заведений. Такой подход позволял сочетать мировой педагогический опыт в его историческом и современном плане с реальными возможностями страны.
Луначарский стал обращаться с воззваниями, призывающими граждан России к сотрудничеству с советской властью: «Ко всем учащимся» (15 ноября 1917 года), к артистам петроградских театров – (6 декабря 1917 года), «К учащейся молодежи» (27 февраля 1918 года).
На заседания Государственной комиссии по просвещению нередко приглашались специалисты той или иной области культуры.
«В Совнаркоме царило какое-то сгущенное настроение, – вспоминал Луначарский, – казалось, что самое время сделалось более плотным, так много фактов, мыслей и решений вмещалось в каждую данную минуту».
Работу в Наркомпросе Луначарский пытался сочетать с собственным литературным творчеством. Работать приходилось урывками, в редкие перерывы между приемом посетителей и просматриванием деловых бумаг или ночью за счет сна. Наиболее ценные работы в области истории литературы и литературной критики Луначарский создал в годы советской власти. К ним относятся его статьи и этюды, посвященные русским классикам: Радищеву, Пушкину, Гоголю, Лермонтову, Герцену, Некрасову, Тургеневу, Достоевскому, Салтыкову-Щедрину, Льву Толстому, Чехову, Короленко, основоположнику социалистического реализма Горькому, советским писателям Фурманову, Маяковскому, Серафимовичу и другим. Часто обращался Луначарский и к трудам «наших могучих эстетических критиков» – Белинского, Чернышевского, Добролюбова, горячо пропагандировал их творческое наследие. Деятельность Луначарского по строительству социалистической культуры была напряженной и плодотворной.
Молодой человек подошел к двери квартиры на третьем этаже большого старинного петербургского дома, потоптался на лестничной площадке и наконец постучал. Открыл сам хозяин. Молодой человек поспешил представиться:
– Рюрик Ивнев. Поэт. Хочу сотрудничать в деле культурного строительства нового общества.
Хозяин пригласил гостя к себе в кабинет, где за письменным столом сидел и перебирал бумаги человек средних лет.
– Знакомьтесь, – сказал хозяин, – мой товарищ по эмиграции Дмитрий Иванович Лещенко, а ныне мой помощник в Наркомпросе. А это молодой поэт Рюрик Ивнев, желающий строить новую революционную культуру.
Лещенко встал и, подавая Ивневу руку, сказал:
– Похвальное намерение, молодой человек, желаю успехов, – и, обращаясь к хозяину, прибавил: – Анатолий Васильевич, вот вам с неба секретарь свалился. А вы жалуетесь, что некому работать. Берите молодого поэта в наркомат, ставьте его на довольствие, и пусть он садится за бумаги. А мне пора откланяться.
Хозяин усадил поэта на диван и, видимо, полагая, что всякий интеллигентный человек самодостаточен и не нуждается в том, чтобы его занимали, обратился к Лещенко:
– Сколько вы папок разобрали?
– Две.
– Вот и прекрасно. Спасибо. Жаль, что уходите, однако не смею задерживать. Заходи, Дмитрий Иванович. – Хозяин вдруг перешел на «ты» и заговорил с тоской в голосе: – Знаешь, небо в Петрограде суровое, серое, холодное, люди суровы, а порою и ожесточенны. Сложные и трудные времена наступают. Хотя при этом полные надежд и упований.
Лещенко молча подал руку Ивневу. Луначарский же, провожая гостя, продолжал говорить проникновенно и задушевно:
– Нам, товарищам по совместной борьбе – а ведь мы еще в 1905 году были вместе, – нужно держаться друг друга. Заходи. Я рад, что ты работаешь со мной…
Луначарский вернулся в кабинет и сказал гостю:
– Извините, но я должен ехать в наркомат. Если хотите, можете проводить меня, в дороге и поговорим.
Они спустились на улицу, сели в ожидавшую Луначарского машину и отправились через холодный, окутанный утренним туманом город к зданию Министерства просвещения. По дороге Ивнев произносил горячие, полные революционного пафоса речи о разрушении старой и созидании новой культуры. Нарком слушал его невнимательно, никак не мог сосредоточиться на восторженных словах молодого человека и отвечал односложно и порой невпопад. Доехав до наркомата, Луначарский пригласил спутника пройти с ним, чтобы помочь организовать прием посетителей, назначенный на сегодня. Юноша охотно согласился. Такой небюрократической формы приема на работу в государственное учреждение он еще не встречал. Революция ломала старый государственный аппарат и строила новый. Возникла острая потребность в людях, и их привлечение к работе было делом неформальным, совершенно срочным и импровизационным.
В приемной Луначарский застал аккуратного пожилого человека, который, видимо, уже давно его ожидал. Осведомившись, имеет ли он дело с Луначарским, и получив утвердительный ответ, благообразный посетитель изъявил желание сказать наркому просвещения нечто важное. На предложение войти в кабинет гость ответил отказом. Он не переступил даже порога приемной, в которой, несмотря на ранний час, уже сидели посетители. Нарком согласился выслушать странного гостя в коридоре.
– Я – старый капельдинер Александринского театра, – представился гость. – Мне велено передать вам, что при появлении представителей власти большевиков в зале театра опустят занавес.
– Ну что же, несмотря на эту дурную весть, заходите, побеседуем.
– Покорнейше благодарю. Не велено, так что я пойду.
– Воля ваша. Однако передайте тем, кто вас послал, что саботажа советская власть не потерпит.
Пока шла эта беседа, Ивнев деликатно отошел в сторону, а теперь присоединился к Луначарскому и вместе с ним вошел в приемную. Здесь уже сидел исполняющий обязанности секретаря Флаксерман, наркома ожидали режиссер Александринского театра Мейерхольд, певица Скарчилетти, режиссер Майко, инженер-театроман Эксказович. Луначарский поздоровался с посетителями, пожав каждому руку. Он пригласил Мейерхольда в кабинет, а Ивнева оставил в приемной и попросил его помочь Флаксерману организовать дальнейший прием посетителей и перепечатать несколько бумаг.
Войдя в кабинет вслед за наркомом и расположившись в удобном кресле, Мейерхольд, напряженно улыбаясь, сказал:
– У нас с вами, Анатолий Васильевич, давние и схождения, и расхождения. Мы с вами встретились под одной обложкой в «Книге о новом театре». Это было еще в 1908 году. Неплохая компания тогда собралась: Брюсов, Белый, Сологуб, Аничков, Бенуа…
– Да, припоминаю, компания разношерстная, – заметил на это Луначарский, – и я, помнится, оговорил в конце моей статьи и незнание других материалов сборника, и вероятность моих разногласий с авторами, и право в дальнейшем выступить против того, с чем буду не согласен в этом издании.
– Да, более того, вы потом резко полемизировали с моей статьей «Театр», где излагалась программа условного театра. Однако ваша полемика была во многом неубедительна. Вы утверждали зависимость формы от содержания.
– Форму диктует содержание. Я и сейчас так думаю.
– Нет, форму ничто подсказать не может. Она находится впереди всего творческого процесса, форма в известном смысле есть содержание. Мне не так важен текст, как его театральное прочтение.
(Заметим, что формулировку Мейерхольда «форма в известном смысле есть содержание» почти через полвека повторят структуралисты.)
Луначарский возразил:
– Нельзя так беззаботно относиться к содержанию. Отсюда возникает опасность идейной и эмоциональной пустоты.
Было неясно, для чего пришел этот умный и острый человек. Неужели только затем, чтобы изложить свои взгляды на художественную форму? Луначарский решил придать встрече деловой характер и повернул разговор в нужное русло:
– Уважаемый Всеволод Эмильевич, у нас с вами будет, надеюсь, еще время поспорить о художественных принципах современного театра. Ныне же организационные вопросы должны опережать и определять художественные.
– Видите, – обрадовался Мейерхольд, – форма может опережать содержание!
– Не стану сейчас спорить на эту тему. Только что со мной говорил посланец Александринского театра и заявил, что театр не будет сотрудничать с новой властью. Нет ли у вас каких-либо соображений по этому вопросу?
– Я, режиссер Мейерхольд, сотрудничать с революцией и ее властью буду и полагаю, Анатолий Васильевич, что смогу организовать ваше выступление в Александринском театре. А дальше успех будет зависеть от вашего ораторского искусства и убедительности аргументов в пользу революционной культуры.
– Договорились. Организуйте митинг. Я приеду. А о вашем сотрудничестве поговорим при следующей встрече. Приходите.
Луначарский попрощался с Мейерхольдом и проводил его до двери. Следующим в кабинет вошел человек, лицо которого показалось наркому знакомым, однако он никак не мог вспомнить, где и при каких обстоятельствах они прежде виделись. Кажется, в то недавнее и теперь такое далекое предоктябрьское время они встречались на каком-то собрании художественной интеллигенции. Помнится, это был активный, склонный к резким спорам человек. Пока Анатолий Васильевич вспоминал, откуда он знает этого посетителя, гость представился. Луначарский уловил, что это живописец, но фамилии не расслышал, а переспрашивать показалось неудобно, тем более что художник держал себя как знаменитость, которую все хорошо знают. Спросить в этой ситуации: «Как ваша фамилия?» – было действительно неловко. Гость же сразу стал развивать свою точку зрения на отношение интеллигенции к революции и к новой власти. Начало этих рассуждений Луначарский пропустил и включился в разговор лишь на последней фразе длинной тирады.
– …в нас, художниках, память эпохи, – говорил посетитель. – Если советская власть не подружится с нами, мы изобразим ее для истории в черных красках.
– За нашей властью – народ. Память народа важнее памяти искусства. В искусстве навечно остается лишь то, что совпадает с представлениями народа о своей эпохе, о своей жизни. Так что не пугайте нас возможным отлучением от истории, а подумайте, как бы самому к ней приобщиться.
– Для этого вы рекомендуете покориться вашей власти и пойти с ней на сотрудничество? – не без сарказма спросил художник.
– Не вижу в этом ничего зазорного, – сказал Луначарский. – Напротив, такое сотрудничество для разумного художника сегодня – единственно верный путь служения своему народу.
Художник говорил уверенно, ни минуты не сомневаясь в истинности своих слов и сопровождая каждую фразу жестом:
– Кто только не отождествлял себя с народом! В прошлом провозглашалось единение православия, самодержавия и народности. Сегодня вы объявляете новое триединство: партия, советы и народ. Художник должен следовать не политическим лозунгам, а реальности. Союз с властью сулит ему личное благо. Но есть еще его душа, его призвание, его искусство. В довольстве разнежиться – себя потерять. Художнику жить должно быть неудобно. Как река ищет путь к морю, преодолевая горы и ущелья, пороги и перекаты, так и деятель культуры может осуществиться лишь в поиске!
– Я тоже за поиск, – мягко возразил Луначарский, – но искать нужно благо для своего класса, для своей отчизны, для всего человечества. Революция – локомотив истории, и неразумно стоять на ее пути.
– Однако в топке этого локомотива не уголь, а человеческие судьбы и жизни! – воскликнул художник. – Слишком мал коэффициент полезного действия вашего локомотива. В его топке горят людские судьбы, путь, проторенный историей, изменен, по топи и глуши во тьму, в неизвестность прокладывается новый путь. Прокладывается днем и ночью, с неимоверными трудностями: не хватает шпал – кладут людей вместо них, не хватает рельсов – на них переплавляют чайники, самовары, кровати, не хватает проводов – и из людей начинают вытягивать жилы и натягивать их на столбы. И это все, чтобы история продвинулась в новом, никому не известном, непредсказуемом направлении? А кто ведет ваш локомотив? Поначалу – бескорыстные энтузиасты, талантливые безумцы. Однако на смену им придут корыстные люди, готовые половину вагонов пустить под откос ради того, чтобы установить свою безоговорочную власть над поездом, над всеми пассажирами всех классов!
– Ваши рассуждения излишне мрачны, чтобы не сказать – контрреволюционны.
– От отрицательной политической квалификации они не становятся менее истинными.
– Политические эпитеты характеризуют классовую ориентацию ваших рассуждений, а чтобы понять их ложность, надо вам почитать Маркса. Вам нужен политический ликбез, тогда вы поймете главное: локомотив революции идет не в случайном направлении, не в неизвестность, а в научно обоснованное будущее и научно обоснованным путем. Машинист этого локомотива – партия… Ваши футурологические прогнозы выдают вашу политическую безграмотность.
Отповедь Луначарского, видимо, немного отрезвила посетителя, и он начал говорить более примирительно, обозначая линию своего возможного сотрудничества с советской властью.
– Я не хочу идти на глубокий конфликт с новой властью, но в мои планы не входит и тесное сотрудничество с ней. Я полагаю служить русской национальной и мировой культуре. А поскольку сегодня это возможно лишь в рамках новой власти, я готов, чтобы она меня использовала в качестве творца и проводника культуры в массы, а я использовал бы новую власть в качестве способа передачи культурных ценностей аудитории и для обеспечения условий моего существования и творчества. На таких взаимовыгодных условиях и имея в виду известное единство целей – создание культурных ценностей и их передачу народу – я готов и даже желал бы сотрудничать с новой властью, сохраняя свою независимость. Маркса я почитывал и, если угодно, сформулирую свои убеждения по-марксистски: я – производительная сила культуры – нуждаюсь в посредничестве власти для создания моих производственных отношений с читателями и зрителями и в орудиях и средствах производства – типографиях, театрах, библиотеках, которые национализированы новым государством. Государство же нуждается во мне – творце искусства.
Луначарский устал от словопрений. У него уже не хватало терпения продолжать эту беседу. Выручил Флаксерман, который сообщил:
– Анатолий Васильевич, звонили из Смольного. Владимир Ильич просит вас приехать.
Луначарский извинился перед художником и выразил надежду, что «творец искусства», несмотря на ряд расхождений с советской властью, сможет с ней сотрудничать. Порукой тому служит верно подмеченное художником обстоятельство, что в культурном просвещении народа заинтересован не только сам уважаемый «творец искусства», но и советская власть.
Извинившись перед посетителями, сидевшими в приемной, Луначарский отправился в Смольный.
Когда Луначарский вошел в кабинет председателя Совнаркома, Ленин немедленно оторвался от бумаг и спросил:
– Как у вас в наркомате разворачивается работа? На что вы делаете сейчас упор?
– Мы описываем ценности, доставшиеся нам после революционного переворота. Нужно все учесть, а затем распределить по музеям, библиотекам, клубам, театрам. Беда в том, что большое количество посетителей замедляет работу.
– Ценности учесть нужно. Социализм начинается с учета народного достояния. Однако сейчас главная ваша задача не столько материальные ценности культуры, сколько люди. Интеллигенцию надо перетянуть на нашу сторону, ее надо терпеливо привлекать к работе, даже если она сегодня не принимает наших целей.
– Понятно, Владимир Ильич. У меня состоялась беседа с руководителями Российской академии наук. Они готовы сотрудничать с советской властью. Там еще много сложностей…
– Сотрудничество с учеными архиважно. Нужно привлечь Академию наук к решению важнейших экономических и народно-хозяйственных задач. Нужно создать ученым все условия для успешной работы.
– Я понимаю. Однако иной раз приходится разговаривать с такими субъектами, что никакого терпения не хватает… Тысяча претензий. Он, видите ли, согласен сотрудничать, но отнюдь не везде, не всегда, не во всем и на особых основаниях.
– И все же нужно набраться терпения.
– Я понял, Владимир Ильич, буду проявлять терпение, гибкость, широту и принципиальность.
– Ну, хорошо, батенька. До свидания. И больше не совершайте необдуманных поступков.
Выйдя из Смольного, Луначарский попросил шофера отвезти его обратно в Наркомпрос.
…Была уже глубокая ночь, когда Луначарский с огорчением подумал: «Безобразие, снова не успел написать ни строчки для статьи о задачах революционного театра. Очень медленно работаю. Не хватает времени. Как мало сделано за сегодняшний день! Надо торопиться. Ленин верно говорит, что в деле просвещения за месяцы и годы нужно сдвинуть то, что веками стояло на месте: нужно культуру двинуть в народ, а народ – навстречу культуре… Это же недопустимо, совершенно недопустимо, сегодня надо было… решать проблемы школьных завтраков… Как их распределять? Нужно было выхлопотать разрешение на отъезд за рубеж для художника… О боже, так устал, что сейчас уже забыл фамилию известного художника… Посплю, усталость спадет, и на свежую голову вспомню… Нужно было связаться с Наркоматом финансов насчет дополнительных ассигнований на нужды культуры. Нет, с фамилиями сегодня совсем плохо… Обычно помнил все четко: и фамилии, и цитаты, и дела… Дела… дела…»
Он заснул в кресле, положив голову на письменный стол…
За кулисами жанра: факты, слухи, ассоциации
Прочитав «Несвоевременные мысли» Горького, Сталин сказал: «Видимо, Горькому захотелось в архив, где уже находится Плеханов».
* * *
Если искусство писать есть умение вычеркивать, то умение жить есть умение отбрасывать второстепенное.
* * *
Однажды в Доме творчества в Переделкине Ивич и Шкловский хохотали до слез, вспоминая о каком-то договоре, заключенном в начале Гражданской войны Горьким – от имени «Всемирной литературы» и Чуковским: слева на договоре был двуглавый орел, а справа – серп и молот.
* * *
Философ Диоген ел чечевичную похлебку. Философ Аристипп сказал ему:
– Если ты научишься льстить правителю, как я, тебе не придется питаться чечевицей.
– А если ты научишься питаться чечевицей, тебе не придется льстить правителю.
* * *
«Когда помилует нас Бог, / Когда не буду я повешен, / То буду я у ваших ног, / В тени украинских черешен». Так альтернативно видел А. С. Пушкин свое будущее. В России даже великий поэт вынужден предполагать такую несчастливую развязку.
Глава пятнадцатая
НАУКА И ГОСУДАРСТВО
Авторитет Луначарского возрастал и не за счет высокой должности, а благодаря его образованности, увлеченности наукой и искусством, преданности культуре, уважению к личности. Он умел выслушать и принять во внимание любые доводы, даже самые противоречивые. Такую возможность создавать свое мнение или даже концепцию на основе противоречивых, но сводимых к единому основанию фактов и мнений в философии начала XXI века назовут «системным плюрализмом» (термин Л. Столовича). Он умел сделать обобщение, концентрируя внимание на главной проблеме. Луначарский всеми силами старался добиться сотрудничества советской власти и Академии наук.
Одному из руководящих деятелей Наркомпроса, в прошлом профессиональному революционеру Л. Г. Шапиро, была поручена связь с академией. Вскоре он доложил Луначарскому, что после посещения Наркомпроса три академика, возглавляющие академию, развернули большую деятельность.
Был проведен ряд совещаний, а затем академики Российской академии наук собрались на экстраординарное общее собрание. Президент Александр Петрович Карпинский сообщил, что происходящие события угрожают гибелью стране и необходимо, чтобы Российская академия наук не молчала в такое исключительное время. В ходе горячих прений были предложены разные варианты проекта резолюций. Однако ни один проект не собрал большинства голосов. Поэтому было решено избрать комиссию из академиков А. А. Шахматова, А. С. Лапно-Данилевского, С. Ф. Ольденбурга, М. А. Дьяконова, Н. С. Курнакова, М. И. Ростовцева для составления текста обращения и представления его новому общему собранию академии. Это известие обрадовало Луначарского, и он обрел надежду, что будет принята резолюция, прокладывающая пути сотрудничества академии с новой властью.
В начале 1918 года по заданию Луначарского от имени Наркомпроса Шапиро нанес официальный визит в академию. Его проводили к Ольденбургу.
Представитель Наркомпроса сказал:
– Мне поручено наркомом просвещения высказать соображения и пожелания о связи научной работы академии с широким кругом государственных задач настоящего времени – от военно-оборонных до народно-хозяйственных.
Ольденбург ответил:
– Я доложу о вашем приходе президенту академии и полагаю, что он сочтет целесообразным столь принципиальный вопрос обсудить на очередном общем собрании академии.
Как только посланец Луначарского покинул академию, Стеклов, Ольденбург и Карпинский втроем заперлись в кабинете и обсудили поручение Наркомпроса.
Суть проблемы и «академическое» отношение к ней сформулировал Стеклов:
– Соглашаться или отказываться сотрудничать в каждом случае следует решать, исходя только из научных соображений. Принципиально же следует идти на сотрудничество.
Карпинский поддержал:
– Вы правы, Владимир Александрович. Академия не должна отказываться сотрудничать. Соответствующую резолюцию постараемся провести через общее собрание. А вы, Сергей Федорович, подготовьте общую смету на государственные субсидии академии, поскольку мы собираемся выполнять научные исследования, необходимые государству. Прошу вас, милейший Сергей Федорович, назначить общее собрание на 24 января 1918 года.
Резолюция общего собрания, зафиксированная в протоколе, гласила: «…ответ Академии может быть особым по каждому отдельному вопросу в зависимости от научной сущности вопроса по пониманию Академии и от наличия тех сил, которыми она располагает».
Через пять дней после принятия академией этой резолюции (29 января 1918 года) Луначарский назначил заседание Государственной комиссии по просвещению. На заседании нарком сказал:
– Рабочий контакт с академий налажен, и Наркомпрос должен подготовить конкретные предложения. Академики уже представили смету и дали согласие войти в переговоры относительно реформ. Нужно срочно подготовить записку «Предложения к проекту мобилизации науки для нужд государственного строительства». Руководство этим делом поручим товарищу Шапиро.
В дальнейшем «Предложения к проекту…» почти не фигурировали под полным официальным наименованием, а в академической среде назывались для краткости «Записка Шапиро». В этом документе речь шла о необходимости создания специальной комиссии при академии, которая могла бы стать мобилизационным центром решения государственных задач российской наукой. Записка предлагала широко организовывать коллективные исследования, сконцентрировать научные силы, обеспечить всестороннее исследование основных отраслей народного хозяйства.
Ольденбург тут же доложил о «Записке Шапиро» президенту академии, который пригласил академика Ферсмана и сказал:
– Многоуважаемый Александр Евгеньевич, ознакомьтесь, пожалуйста, с «Запиской Шапиро» из Наркомпроса и подготовьте ответ с учетом уже сложившейся ориентации научных исследований академии на народно-хозяйственную практику. Не вам объяснять, что КЕПС (созданная еще в 1915 году Комиссия по изучению естественных производительных сил России. – Ю. Б.),собственно, и нацелена на решение тех задач, о которых печется Наркомпрос. Так что, как сказал однажды один капрал своему генералу: «Ваше превосходительство, мы выполнили ваш приказ еще до вашего приказа».
Ферсман, ознакомившись с содержанием «Записки Шапиро», заметил президенту:
– Александр Петрович, я считал бы нужным возразить против обязанности академии изучить все народное хозяйство, ибо эта задача слишком широка, сложна и лежит вне прямых обязанностей академии. Распыление научных сил нельзя допускать, в этом Луначарский и его комиссариат правы. Однако в тяжелые моменты русской истории охрана того, что уже создано, должна превалировать над идеей нового строительства.
– Ну что же, Александр Евгеньевич, в этом духе и подготовьте ответ Луначарскому. Подчеркните, что мы считаем первоочередной необходимостью широкий подъем народного труда, продуманное использование народных богатств и бережное сохранение работников свободной научной мысли.
– Я постараюсь учесть все ваши соображения, Александр Петрович. Только свободная мысль интеллигента, избавленного от социальной несправедливости, может быть творческой и потому полезной народу. И нужно объяснить новой государственности, что в ее собственных интересах создание благоприятной обстановки для ученых.
На новом внеочередном собрании академии 20 февраля 1918 года был обсужден вопрос «О предложении Комиссариата по народному просвещению относительно мобилизации русской науки». В ходе прений академики подчеркнули, что деятельность академии тесно связана с благом России, что они почитают своим долгом изучать материальные и духовные богатства страны. В резолюции, принятой собранием, говорилось: «Академия всегда готова по требованию жизни и государства приняться за посильную научную и теоретическую разработку отдельных задач, выдвигаемых нуждами государственного строительства, являясь при этом организующим и привлекающим ученые силы страны центром».
Луначарский счел, что простое сохранение уже достигнутого в науке недостаточно даже при трудных обстоятельствах современной жизни. Однако все же высоко оценил готовность академии участвовать в разработке государственно-важных задач и в организации научных сил страны.
Так было положено начало сотрудничеству Российской академии наук и революционного правительства. Луначарский решил углубить и расширить контакты и командировал в Московское общество сельского хозяйства своего представителя. Последний посетил председателя этого общества Ивана Александровича Стебута и сказал ему:
– Академия наук дала свое принципиальное согласие работать в контакте с Наркомпросом. Хотелось бы надеяться, что общество сельского хозяйства также согласится на сотрудничество с советской властью и на выполнение работ, связанных с народно-хозяйственными задачами.
– Если работа будет вестись под руководством Академии наук, то наше общество не замедлит согласиться, – ответил Иван Александрович.
Как только представитель Наркомпроса ушел, Стебут сел писать письмо Ольденбургу. В письме он откровенно перепроверял информацию, полученную от представителя Наркомпроса, о контактах этого нового государственного учреждения с Академией наук.
Вскоре Стебут получил от Ольденбурга подтверждение, однако с тем существенным уточнением, отражающим позицию академии, которая «каждый раз сама будет решать, входить ли ей в рассмотрение данного дела, и сама будет определять формы и способы своего участия в работе».
Луначарский после первого успеха не оставил без внимания проблему углубления контактов с академией и уже 5 марта 1918 года написал письмо Карпинскому. В этом письме отмечалось, что для всякого значительного научного начинания вопрос об организационном центре является наиболее существенным, имея в виду прежние и вновь созданные комиссии академии. Стараясь соблюдать почти дипломатический такт, нарком пишет: «Академия в ходе своих работ уже сама близко подошла к границам народно-хозяйственной области, причем не всегда оставляла эти границы неперейденными». Луначарский никак не посягает на суверенность академии в постановке и решении научных задач и отдает должное этому «высшему в России представителю чистой теоретической науки». Однако он тут же подчеркивает, что академия сама взяла на себя почин и попыталась «установить живую связь между наукой, техникой и промышленностью». Поэтому сегодня особенно остро встает вопрос о необходимости разработки существенных для промышленности и экономики проблем. Все это свидетельствует о том, что «отдаленность области настоящих работ академии от задач экономического изучения России на деле меньше, чем это может показаться с первого взгляда». Заканчивает письмо Луначарский словами: «В тяжелой обстановке наших дней, быть может, только высокому авторитету Академии наук с ее традицией чистой независимости научности удалось бы, преодолев все трудности, сгруппировать вокруг этого большого научного дела ученые силы страны».
Карпинский в ответном письме Луначарскому подчеркнул роль академии в объединении научных сил и рассмотрел формы их возможного сотрудничества с новым государством. Учитывая дух времени и противопоставляя свой взгляд вульгаризаторам науки и революционным экстремистам, президент утверждает и отстаивает высокий статус интеллигенции и общенародную значимость ее труда, подчеркивает ложность понимания «труда квалифицированного как труда привилегированного, антидемократического», считает, что подобные представления вредны и ложатся «тяжелой гранью между массами и работниками мысли и науки».
Позже В. Маяковский будет бороться за правильное и достойное «место поэта в рабочем строю», доказывая: «мой труд всякому труду родственен». Сегодня об этом пишет ученый. Острота проблемы «интеллигенция и революция», борьба за достоинство интеллигенции и за ее народный статус чувствуются в письме президента академии.
Карпинский решительно утверждает, что пагубно отождествлять научную работу с барством, необходима борьба с этими представлениями и создание для русской науки нормальных условий существования. За этими словами президента стоит его возмущение уплотнениями, жилищными и бытовыми притеснениями. Президент академии решительно отвергает социальную практику конфискаций и обложений. В его письме возражения против повинностей, которые несправедливо возлагались на представителей науки борцами с «угнетателями» и иными ревнителями решительных революционных действий.
Луначарский с удивительной проницательностью строит стратегию взаимодействия революции и науки. Президент оказывается достойным партнером в отношениях с наркомом и на его дальновидную государственную дипломатию отвечает академической мудростью и социальной прозорливостью. И только после того, как нарком принципиально поставил вопрос об интересах научной интеллигенции, президент формулирует те мысли, которых от него ждали: «Чистая наука должна войти в тесное общение с техникой и прикладным знанием вообще… Это является истинным залогом настоящего, глубокого использования сил природы и сил человека для создания новой, улучшенной во всех отношениях жизни». Президент призывает бороться с уже произошедшими, по его мнению, утратами в преемственности традиций и потерями в культурных ценностях. Эти утраты он оценивает как «несчастье русской жизни». И снова можно подивиться прозорливости президента, который в преддверии разгула пролеткультовского нигилизма по отношению к классическим традициям предупреждает об опасности разрыва с предшествующей культурой.








