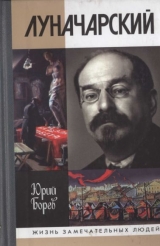
Текст книги "Луначарский"
Автор книги: Юрий Борев
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 25 страниц)
Глава двадцать третья
ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРОЧТЕНИЕ КЛАССИКИ
Автомобиль быстро довез Луначарского до театра, и он вошел в зал с третьим звонком. Его соседкой оказалась актриса Яблочкина. Она внимательно смотрела на сцену, часто сокрушительно вздыхала и наконец сказала: «Когда-то смотрела у Мейерхольда „Грозу“. Это было совсем как Малый театр, но только хуже. А „Ревизор“ – право, не знаю, что и сказать. Совсем не похоже на Малый театр».
После спектакля, во время перерыва перед началом обсуждения, Луначарский в фойе встретил немецкого драматурга Эрнста Толлера, собиравшегося уходить. Луначарский обрадовался, приветливо поздоровался и повел немецкого писателя в кабинет Мейерхольда. Всеволод Эмильевич предложил гостям располагаться в его кабинете, сам же, извинившись, что должен готовить предстоящее обсуждение, ушел, предварительно попросив своего помощника организовать угощение.
Вскоре на столе мейерхольдовского кабинета появились две бутылки ситро, конфеты и бутерброды.
– Я рад приветствовать вас в Москве и рад, что вам удалось посмотреть «Ревизора» у Мейерхольда, – на немецком языке начал разговор Луначарский. – Как вам показалась эта работа?
– Трудно судить по первому впечатлению, – ответил Толлер. – Но мне кажется, что Мейерхольд впадает в натурализм, натурализм же – буржуазен, и пролетариат его не примет.
– А каков же, по-вашему, вкус пролетариата? – спросил Луначарский.
– Почти весь немецкий пролетариат состоит из мещан по духу. И ваш русский пролетариат носит в себе, по-видимому, много мещанского, – ответил Толлер.
– Странное суждение! Из чего вы вынесли такое впечатление?!
– Доказательством служит то, что пролетарии любят натурализм.
– Кошка, которая ловит свой собственный хвост!
– Что-что? Не понимаю.
Луначарский с готовностью пояснил:
– Idem per idem– так в логике называется логический круг. То же доказывается через то же. Это порочный круг; к тому же у вас логически разорванный круг.
– Зрительный зал не может переносить патетики, он отвечает ироническими улыбками. Некоторые элементы патетики мне мешают воспринимать мейерхольдовские спектакли, – ответил Толлер, совершенно не принимая во внимание возражения Луначарского.
Разговор начал утомлять наркома, однако он вновь любезно возразил:
– В «Ревизоре» у Мейерхольда почти нет патетики, хотя патетика как таковая вовсе не противопоказана театру.
Раздались звонки, возвещавшие о начале обсуждения. Луначарский привык всегда ровно в пять часов приезжать домой обедать. Однако сейчас он быстро дожевал бутерброд и взял следующий, понимая, что пообедать ему сегодня не удастся. Он стал прощаться с Толлером, объяснив гостю, что вынужден торопиться на обсуждение и что рад этой импровизированной встрече, которая, к сожалению, может заменить их назначенную более основательную встречу, но в импровизации есть своя прелесть и свои преимущества – живость, непринужденность и так далее…
Здесь же, в театральном зале, состоялось обсуждение спектакля. Большинство выступающих резко критиковали Мейерхольда за вольное обращение с классикой, за непонятную трактовку гоголевской пьесы.
Когда страсти накалились, Луначарский решил вмешаться и взял слово. Он сказал:
– Имел ли право Мейерхольд изменить гоголевский текст, вольно трактовать его? Конечно, имел. П олно разглагольствовать об этой форме пиетета перед классиками! Кто же не знает, что классиков из классиков, Эсхила и Аристофана, во многих нынешних театрах мира дают так, что не остается и малейшего сходства с первоначальным замыслом авторов. Кто же не знает, что шекспировские пьесы подвергаются всевозможным переделкам, сокращениям, искажениям и что отдельные постановки «Гамлета» отличаются и друг от друга, и от первоначальной постановки театра «Глобус», словно это совершенно разные пьесы.
Почему никто не возмущается, когда Леконт де Лилль переделывает «Эринний», а Гофмансталь – «Электру»? Почему «Федру» совершенно по-новому писали, только слегка сверяя с шедевром Еврипида? А Сенека, Расин, Д’Аннунцио? Почему никто из нас не сомневается, что Пушкин мог быть только обрадован «Борисом Годуновым» Мусоргского, хотя в либретто ряд сцен прибавлен, зато другие убавлены?
Иное дело, что нам необходимо хранить не только самые точные тексты пьес, но и воспроизводить в наших академических театрах в возможно более точном виде старые постановки. Однако смешно на театр Мейерхольда возлагать почтеннейшую обязанность музейного консерватора! Ведь даже Малый театр, на который эти обязанности возлагаются совершенно законно, наряду со спектаклями старого стиля ставит спектакли нового стиля. Нельзя же при этом запрещать смелый полет фантазии театру, который целиком является лабораторным, экспериментальным, ищущим!
Критик Чужак подал реплику:
– Пушкин сказал: «Мне не смешно, когда маляр презренный мне пачкает Мадонну Рафаэля».
Луначарский парировал:
– Это сказал у Пушкина Сальери, осуждая Моцарта! Представьте себе: кто-то, оставляя Мадонну Рафаэля в Дрезденской галерее, решил написать версию, вариант, может быть, даже карикатуру на Мадонну. Разумеется, не Пушкин стал бы ему запрещать это. Иначе можно было бы сказать: как вы смели, Александр Сергеевич, после Евангелия изобразить по-своему Благовещение в вашей «Гавриилиаде»?
Критик Кононов возмущенно воскликнул:
– Мейерхольд убил гоголевский смех, я ушел после первого акта! Я не мог смотреть на это безобразие!
Луначарский ответил:
– Что бы вы подумали о человеке, который, прочитав первые пять страниц из «Капитала» Маркса или из «Фауста» Гете, сказал бы: «Галиматья!» – и захлопнул книгу? А что, если бы сей ценитель искусств в оправдание своему поведению привел доказательство: да ведь я не понимаю? Если ты не понимаешь и если ты хочешь культурно развиваться, то, когда перед тобой крупный художник, твоей первой мыслью должно быть: он гораздо больше тебя знает и умеет. Надо признать раз и навсегда: даже когда я ничего не понял после просмотра спектакля, мне скорее следует отчаиваться от собственной непонятливости, а не оплевывать художника.
Чужак встал и выкрикнул:
– Товарищ Луначарский не оставляет места для свободы критики!
Луначарский парировал:
– Пусть мое предложение слишком смелое. Осуждай, бросай камни в художника, если после внимательного рассмотрения его произведения ты сочтешь, что он не преуспел. Однако если ты уходишь после первого антракта и чувствуешь себя вправе говорить о «провале» «Ревизора» у Мейерхольда, то позволь мне сказать, что этим ты выдаешь свою малую культурность, свой мещанский консерватизм, свое чванство перед художником.
Из зала кто-то подал реплику:
– Гоголь знал, почему лучше отбросить тот или иной вариант! Зачем же возобновлять их?
Луначарский ответил:
– Гоголь даже сжег второй том «Мертвых душ»! Он сжег его под давлением враждебной среды. Вы можете поручиться, что тот или иной вариант «Ревизора» не был отброшен Гоголем, чтобы не слишком шокировать чопорную публику петербургских чиновников? Вы можете поручиться, что соображения цензуры не висели над Гоголем? Оговорюсь. Тому или иному зрителю окончательный текст «Ревизора» может нравиться больше мейерхольдовского, однако новые фразы, которые я слышал со сцены, собственно гоголевские фразы. Слышать их приятно и радостно. Какое было бы счастье, если бы Гоголь мог увидеть этот спектакль вместе с нами. Я уверен, что великий писатель с пренебрежением отнесся бы к своим защитникам и дружески поблагодарил бы за «Ревизора» Мейерхольда, как дружески поблагодарил бы Мусоргского за его «Бориса Годунова» великий Пушкин.
Луначарский под аплодисменты сошел с трибуны с ощущением выигранного боя. Однако даже в отдалении не было видно перспективы победы в войне с невежеством, консерватизмом, вульгарно-социологическим догматизмом по отношению к искусству.
После обсуждения «Ревизора» Луначарский отправился в наркомат.
В Наркомпросе его секретарь Сац сумел перенести прием посетителей на завтрашний день. Так что перед заседанием коллегии можно было спокойно просмотреть текущие бумаги и заняться рукописью новой книги.
Луначарский не перечитывал бумаги, которые давали ему на подпись. Он схватывал их содержание сразу. Помнил, о чем идет речь, как возникла эта бумага. Он доверял своему аппарату, своим помощникам и сотрудникам, а поток дел был столь стремительный, что приходилось экономить время на всем: на сне, еде, перечитывании отпечатанных бумаг. Зная эту особенность Анатолия Васильевича, его секретарь Сац решил подшутить над ним и подсунул на подпись бумагу со следующим текстом: «В Совнарком. Заявление. В связи с тем, что я занят многими другими делами, прошу меня освободить от обязанностей наркома просвещения. А. В. Луначарский».
Не читая, Луначарский подписал эту бумагу в числе десятка других. Анатолий Васильевич радовался освободившемуся времени – до начала заседания коллегии оставалось еще более полутора часов. Он стал работать над рукописью книги.
Через полчаса Сац зашел к Луначарскому и спросил:
– Анатолий Васильевич, вы что, уходите с работы?
– Нет, – не понял вопрос Луначарский, – я, как обычно, буду работать сегодня допоздна. Еще после коллегии останусь, хотя, впрочем, нет. После коллегии я еду в Академию наук.
– Я спрашиваю не о сегодняшнем дне. Мне стало известно, что вы решили уйти с поста наркома просвещения.
– Кто это сказал?
– Вы. Я задержал ваше заявление.
И Сац положил перед ним бумагу. Луначарский прочел текст, узнал свою подпись и начал хохотать. Он встал с кресла, изнемогая от смеха, дошел до дивана, упал на него и продолжал хохотать. Отсмеявшись, сказал:
– Теперь я буду читать все бумаги, прежде чем их подписывать.
Луначарский посмотрел на часы: четыре часа двадцать пять минут. Сегодня ему еще предстояло провести заседание коллегии Наркомпроса и выступить в Академии наук.
За кулисами жанра: факты, слухи, ассоциации
Однажды Мейерхольду представили режиссера лондонского театра «Лобус» мистера Олди. Мейерхольд о таком театре не слыхал, но ему объяснили, что это один из самых левых театров Великобритании и что мистер Олди высадился с английским десантом в Мурманске, перешел на сторону красных и попал в Москву. Одет гость был весьма странно: белый френч с блестящими пуговицами, желтые краги, галифе для верховой езды, кепи из рыжей кожи, в руках – трость. Мейерхольд и сам был одет хоть куда: старый рыжий свитер и солдатские ботинки, а его седую голову венчала ярко-красная феска. Мистер Олди совершенно не владел русским, но немного говорил и хорошо понимал по-немецки. Больше часа Мейерхольд объяснял на немецком языке революционные принципы режиссуры и основы актерской биомеханики. Закончил он любимой идеей: режиссер – это дирижер спектакля. Англичанин внимательно слушал, изредка произнося «вери гуд» или «йес», и вдруг на чистейшем русском спросил:
– Не пора ли побеседовать по-русски?
Мейерхольд опешил, а потом расхохотался:
– Мерзавцы! Кто этот талантливый проходимец?
Мистер Олди оказался одесситом Леонидом Утесовым.
Мейерхольд сказал:
– Больше его ко мне не приводить. Я его боюсь.
* * *
Мейерхольд с Зинаидой Райх путешествовали по Италии. В одном из самых прелестных уголков Рима они поцеловались… и были задержаны полицией. Когда в полицейском отделении разобрались, что нарушители общественного порядка муж и жена, полицейские были обескуражены. Начальник отделения пожал супругам руки:
– Ах, русские, умом вас понять невозможно… У нас, итальянцев, такого не бывает…
* * *
Сталин посмотрел «Отелло» и сказал: «А этот – как его? – Яго – неплохой организатор».
Глава двадцать четвертая
ХРАМ НАУКИ И ГЕРОСТРАТЫ
Организационная сторона не всегда удавалась Луначарскому-наркому, в чем он самокритично признавался. Умение же создать атмосферу дружной, целенаправленной работы было органично присуще ему. Многими его товарищами по партии овладело наваждение всеобщего реформаторства. В более умеренной форме, чем у других большевиков, эта страсть охватила и Луначарского, и он не всегда мог противостоять более радикальным своим коллегам по руководству культурой. Он не смог воспрепятствовать и фактически санкционировал разрушительный реформаторский удар по Академии наук. Он был инициатором создания Коммунистической академии и институтов красной профессуры. Это была альтернатива традиционному высшему образованию и даже альтернативный убыстренный способ получения высших научных степеней и званий. С помощью этих мер Луначарский стремился преодолеть нехватку квалифицированных преподавателей в университетах и институтах страны – ведь многие старые университетские профессора покинули Россию, а другие по причинам недостаточно пролетарского происхождения или из-за своих идеологических ориентаций не были допущены к преподаванию.
(История с красной профессурой вспомнилась мне, когда в начале 1970-х годов я был на Кубе с группой московских профессоров, приглашенных на «курсо де верано» (летние курсы). Диктатор Батиста боролся с коммунистами и расстрелял всех левых преподавателей кубинских вузов. Придя к власти, Кастро расстрелял всех правых преподавателей. Университеты стали работать революционно: первокурсников учили второкурсники, их – третьекурсники, третьекурсников – дипломники, а их – уцелевшие преподаватели, в основном малоквалифицированные. Для повышения их квалификации и устраивались летние курсы, на которые приглашались специалисты из Швеции, Франции, Англии и России.)
Красная профессура порой была недостаточно подготовлена, и ее деятельность была чревата нелепыми казусами. Так, в ГИТИС приходили люди записывать анекдотические «перлы», сообщаемые профессором Гагариным: «Данте одной ногой стоял в феодализме, а другой приветствовал зарю нового общества»; «Польшу четвертовали на три равные половины». И все же меры, принятые Луначарским по созданию кадров для вузов, давали и положительные результаты.
Отношения с новым государством были основной проблемой дальнейшего существования и успешной работы Академии наук. Геростраты, готовые поджечь храм науки, всегда были среди бюрократов.
Еще в кулуарах общего собрания академии Анатолий Васильевич почувствовал напряжение. Предстояло первое выступление наркома просвещения перед академиками. Не все из них были благожелательны к Луначарскому, так как он не имел никакого отношения к академической среде, а многие не принимали новую власть, которую представлял докладчик. Начало заседания было совершенно неакадемичным, и даже сам президент академии не смог сдержать накал страстей. Раздавались реплики, в которых брался под сомнение культурный уровень большевиков и говорилось о необходимости просветить руководителя советского просвещения. Это Луначарский, может быть, еще и стерпел. Однако ставилась под сомнение и даже отвергалась как нечто противоправное сама советская власть. Президент академии Карпинский был растерян и предложил не обострять обстановку:
– Анатолий Васильевич, я предлагаю отложить ваше выступление до более благоприятного времени.
Луначарский возразил:
– Нет, я прошу предоставить мне слово. Благоприятные времена надо создавать, а не ждать их.
Карпинский, не ожидая ничего хорошего, вынужден был согласиться. Луначарский поднялся на трибуну. Шум прекратился, но некоторые академики демонстративно развернули кресла и сели спиной к докладчику. Луначарский спокойно принял вызов и начал речь с обращения к уважаемым академикам, а потом перешел к актуальным проблемам истории и революции, культуры и науки. Он говорил о трудностях и величии современного исторического момента. Некоторые академики стали демонстративно громко переговариваться между собой кто на английском, а кто на французском или немецком языках. Тогда Луначарский переходит на французский язык и говорит об Октябрьской революции и о роли и месте интеллигенции в революции.
От неожиданности зал смолкает и реплики прекращаются. Тогда Луначарский переходит на английский язык и говорит о возможностях и долге академии перед народом и государством в нынешних суровых исторических обстоятельствах. Недовольство академиков переходит в недоумение, недоумение – в любопытство. Вот уже некоторые академики снова развернули свои кресла и сели лицом к наркому, который столь блистательно владеет не только иностранными языками, но и, оказывается, остро чувствует насущные проблемы, стоящие перед страной, перед академией, перед всем народом.
Луначарский перешел на немецкий язык и стал рассказывать о первых благоприятных контактах советской власти и академии. Затем по-итальянски – о перспективах развития науки в революционной России.
В аудитории наметился явный перелом, и Луначарский почувствовал интерес многих академиков к своему выступлению.
Однако кто-то из академиков бросил реплику, что протестует против вмешательства большевиков в дела академии. Тогда нарком обратился по-русски к тому, кто бросил эту реплику, и продолжал сидеть спиной к трибуне:
– Вы недовольны революцией и большевиками. Вы считаете, что советская власть вмешивается в дела академии. Я уважаю академию и цвет русской науки, объединенный в этом высоком учреждении. Однако позволю себе напомнить, что академия однажды по приказу полиции за неблагонадежностью вычеркнула из числа своих почетных членов Горького и отказала в академическом звании художнику Леониду Пастернаку из-за его еврейского происхождения. Позволю себе напомнить и то, что писатель и академик Короленко написал письмо в академию: не может высокое ученое учреждение по приказу полиции отказывать в академическом звании писателю, которым гордится русская литература. Многие ли из вас поддержали Короленко? Многие ли выступили против вмешательства полиции в дела Российской академии наук? На публичный призыв к достоинству, обращенный Короленко к академии, она ничего не ответила. Тогда Короленко заявил, что в этих условиях он считает для себя постыдным носить звание академика и слагает с себя это высокое, но опозоренное звание. Единственным российским академиком, который последовал примеру Короленко, был Антон Павлович Чехов. Он написал: «Присоединяюсь к Короленко, прошу не считать меня далее академиком». Все остальные академики промолчали.
Луначарский снял пенсне, протер его, вновь водрузил на нос и продолжил:
– Напомню еще одну историю. После трагических июльских событий 1917 года Бурцев обвинил целый ряд лиц в том, что они «немецкие шпионы». Попал в эту компанию и Ленин, и Горький. Я также имел «честь» попасть в список бурцевских шпионов. Великий врач, крупнейший в Европе авторитет по борьбе с туберкулезом, стал ездить по всем академикам, чтобы собрать подписи под протестом против несправедливости. Из академиков один только полусумасшедший Марков подписал протест. Остальные отказались. Нет, дорогие академики, с гражданской совестью у вас пока еще не все в порядке. Как, впрочем, и с этикетом, и с гостеприимством. Вежливо ли садиться спиной к гостю?
Те из академиков, кто еще сидел спиной к Луначарскому, торопливо повернулись к нему лицом. А Луначарский уже перешел на латынь и стал говорить о великой миссии науки в современном мире, о великой традиции русских ученых служить своему народу. В конце выступления он вновь перешел на русский язык и выразил твердую уверенность в том, что русская наука выполнит свой долг перед народом.
Так закончил свой доклад Луначарский, и академики, еще недавно устроившие ему обструкцию, проводили наркома с трибуны аплодисментами.
Прошел год со дня Октябрьской революции, а над академией начинают сгущаться тучи, несмотря на ее пусть медленный, но все же поворот к сотрудничеству с советской властью. Пафос всеобщего преобразования и идеи созидания путем разрушения витают над всем. Даже не важно: происходит ли это в процессе революции или в процессе контрреволюции. Важно, чтобы изменение было всеобщим и ничто не осталось в неизмененном виде. Острый глаз историка может заметить, что, когда происходят коренные изменения во власти, находится множество активных деятелей, смыслом бытия которых становится реформирование всего и вся. Начинаются реформы ради реформ. Многим хочется немного порулить, что-то изменить, что-то улучшить, ухудшая, и ухудшить, улучшая. Так в конце XX века, после трагической гибели СССР (о том, что это была большая трагедия, хорошо сказал В. Путин) вот уже два десятилетия не кончаются реформы, общество живет на почве, содрогаемой перманентными преобразовательными землетрясениями. У нас было одно из лучших средних и высших образований в мире, одна из лучших систем научных степеней. Сегодня все это (и не только это) подвергается улучшающе-ухудшающему реформаторству. После Октября 1917 года преобразования охватывали по необходимости многие области жизни и втягивали в свое гравитационное поле многое из того, что в преобразованиях не нуждалось. Кстати сказать, сегодня с Российской академией наук преобразовательные эксперименты продолжаются, невзирая на протесты ученых. Над современной Российской академией наук витает дух реформирования. От академии требуют актуальной эффективности. Именно так академия работала в годы войны с фашизмом. Однако главные задачи академии – не решение прикладных и сиюминутных проблем, а решение проблем стратегических и фундаментальных. Результаты такой научной деятельности входят в жизнь часто через десятилетия и даже через еще более долгие сроки, но без решения фундаментальных научных проблем ни у общества, ни у его науки нет серьезного развития и серьезного будущего.
В первые послеоктябрьские революционные годы нашлось немало архирадикально настроенных людей, выплеснутых революционной бурей наверх, которые замахнулись на академию, как, впрочем, и на бывшие императорские театры – Большой и Мариинский. Да что академия и театры! В те бурные годы находились горе-теоретики, обосновывавшие необходимость срыть железные дороги на том основании, что они-де буржуазны. В этой обстановке в научном отделе Комиссариата по просвещению Союза коммун Северной области, куда входил Петроград, возник нелепейший проект документа, носивший название «О реформе деятельности ученых учреждений и школ высших ступеней в Российской Социалистической Федеративной Республике». Эта бумага касалась «разновидности, именуемой высшим ученым учреждением типа Академии наук». «Таковые, – категорически утверждал этот документ, – подлежат немедленному упразднению как совершенно ненужные пережитки ложноклассической эпохи развития классового общества. Коммунистическая наука мыслима лишь как общенародное, коллективное трудовое жизненное дело, а не как волхование в недоступных святилищах, ведущее к синекурам, развитию кастовой психологии жречества и сознательного или добросовестного шарлатанства».
Нет, все же только преобразовательного пафоса и реформаторского зуда недостаточно, чтобы создать такой документ, замахивающийся на цвет отечественной и мировой учености – Академию наук, коей в тот момент было уже без малого 200 лет. Для создания этого документа нужны еще и комплекс неполноценности бездарного псевдоученого, и ненависть к истинной учености, и ощущение вседозволенности разрушения.
26 ноября 1918 года Ольденбург вновь посещает Наркомпрос, дабы отвести от академии угрозу, исходящую от реформаторски настроенных новых красных бюрократов. Защищаясь от реформаторского произвола, непременный секретарь академии упомянул в переданном в Наркомпрос письме «о тех крупнейших переменах, какие произошли и во внутреннем строе академии, и в характере ее работы».
И все же из беседы Ольденбург вынужден был сделать вывод: «Настроение комиссариата по отношению к академии не может считаться особенно благоприятным». В июле 1919 года Наркомпрос вновь подтверждает и конкретизирует свои претензии к академии: «Комиссариат не находит удовлетворительной проведенную Академией наук реорганизацию. Академия именует себя Российской, однако остается не связанной со многими важными сферами жизни страны». При этом выборы академиков все же остались прерогативой общего собрания Академии наук. Как заманчиво было для бесстыдно корыстных карьеристов отнять эту научно-демократическую процедуру у Академии наук и под революционным предлогом передать возможность решения вопроса о членстве в академии какой-либо бюрократической инстанции! Однако преобразования в этом бюрократическом направлении на каком-то этапе остановились. Впрочем, даже уже в XXI веке не прекратились попытки придушить, или развалить, или лишить самостоятельности Российскую академию наук (в том числе и в вопросе выборов членов академии).
Ольденбург обращается к академику П. Л. Лазареву:
– Попросите Красина, чтобы он поговорил с Лениным и объяснил ему, что разрушение Академии наук опозорит любую власть. Науку, конечно, уничтожить нельзя, но расстроить систему академии нетрудно.
Вскоре Ленин вызвал Луначарского и резко выговорил ему:
– Я очень обеспокоен! Вы, я слышал, хотите реформировать академию, у вас даже издаются какие-то планы на этот счет? До меня доходят неприятные сведения о том, что ваш комиссариат замахивается на Академию наук.
Луначарский ответил:
– Наркомпрос на академию не замахивается. Просто молодой коммунист и астроном Павел Карлович Штернберг разрабатывал план реорганизации академии. Он предполагает сломать существующую систему академии, он хочет здание академии как научного учреждения заменить сооружением образцового академического града. Этот прожект даже не обсуждался и не имеет еще никакого статуса.
– Анатолий Васильевич, прошу вас лично проследить, чтобы никто не вздумал озорничать с Академией наук ни под каким предлогом! Только осторожно и органично ее следует вводить в новое коммунистическое строительство. Не озорничать! Озорство может дорого стоить!
– Владимир Ильич, я учту ваши соображения. Вместе с тем я полагаю, академию необходимо приспособить к государственной и общественной жизни, нельзя оставлять ее каким-то государством в государстве. Мы должны ближе подтянуть ее к себе, знать, что она делает, а потому давать ей некоторые директивы. Но, конечно, планы коренной реформы сегодня несвоевременны и серьезного значения мы им не придаем.
– Нам сейчас, Анатолий Васильевич, вплотную академией заняться некогда. Это важный государственный вопрос. Его решать нужно осторожно, тактично и на основе изучения и знания проблемы.
– Боюсь, что, пока мы заняты проклятыми черновыми вопросами, у вас найдется какой-нибудь «смельчак», который наскочит на академию и перебьет там столько посуды, что потом и в сто лет осколков не собрать. Вы понимаете? Я уверен, что понимаете.








