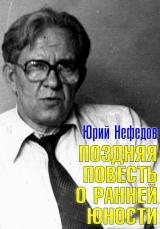
Текст книги "Поздняя повесть о ранней юности"
Автор книги: Юрий Нефедов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 24 страниц)
Председателем колхоза был отставной солдат-инвалид, ходивший в шинели, из-под которой торчал деревянный протез вместо правой ноги. Ходил он без костылей, которые брал в руки только ближе к вечеру. Он всячески старался помочь нам, но мог это сделать только добрыми советами и по-отечески нас пожалеть.
Утром следующего дня мы вышли на работу. Второй роте повезло больше: их послали на уборку винограда, а нас – кукурузы. Роту разделили на две группы и, меняясь через день, одна ломала кукурузу в поле, вторая – очищала кочаны. Что было легче – сказать трудно, ибо у ребят обеих групп к концу дня руки распухали и болели всю ночь.
Но очень скоро мы втянулись в работу и время пошло быстрее. Некоторые ребята болели: простуживались или расстраивались желудки. Иногда на работу не выходило по 10–12 человек. Надо отдать должное командиру, он очень заботился о заболевших, приводил к ним молоденькую фельдшерицу, выпрашивал у колхозников для них еду и очень хорошо распознавал симулянтов, благо, таких было очень мало.
Командир жил в маленькой комнатке, где была полуразрушенная печь, которую иногда протапливали соломой и от которой дыма было значительно больше, чем тепла. Спал он на железной кровати, устланной соломенными матами, в обнимку с винтовкой СВТ, которую иногда выдавал на пост у нашего дома, если из него уходили все. К нему повадились ходить в гости и играть в карты наиболее бойкие ребята из числа «приблатненных». Они со временем стали приносить ему где-то добываемый самогон. Это никому не мешало, ни на что не влияло, командира мы все уважали и внимания на этом не заостряли.
Однажды трое или четверо из этой кампании с винтовкой на ремне отправились на дальний, в 3–4 километрах от нас, хутор по той же надобности. Патронов в нашей винтовке не было никогда, но в то время, если не лениться и пройти вдоль любой дороги с километр, поглядывая в кювет, то можно было найти не только патроны, но и кое-что более существенное. Я видел этих ребят, они весело прошагали мимо меня, что-то говоря о возможной встрече с немецкими диверсантами.
Утром до завтрака всю роту построили, перед нами предстал председатель колхоза и едва сдерживая слезы, рассказал как он вез из Сибири свиноматку и кнура, подарок сибирских колхозников возрождающимся колхозам Украины, и что этого кнура сегодня ночью убили, в упор застрелили из винтовки. После короткого замешательства из строя выскочили те, что вчера уходили из нашего расположения с винтовкой, и вытолкали из строя четверых маленьких и худеньких мальчиков, которых часто можно было видеть стонущими от боли в животе, корчившимися на соломенных постелях.
– Вот они, товарищ командир, это они убили кабана, – кричали ретивые юнги, «друзья» командира, – мы видели, это они, мы можем подтвердить.
Возникла пауза, наступила тишина, даже видавший многое командир понимал, что ему никто не поверит в причастности этой четверки к свершившемуся. Очевидно, он не хотел «сдавать» ставших ему близкими воспитанников, искал приемлемый для них выход. В этом деле я ему здорово помог: выйдя из строя и желая установить истину, я громко сказал, показывая на группу обвинителей:
– Товарищ командир, эти ребята, – я показал на четверых инициаторов, – вчера вечером ходили с винтовкой и только они могли это сделать.
Со мной из строя вышли В. Потапов, А. Лючков, Б. Лысенко и подтвердили сказанное. Опять короткая пауза, а затем крик командира:
– Бунт в экипаже, коллективка, срыв уборочной кампании.
Арестовать немедленно и отправить в Херсон.
По какому поводу нас построили, было тотчас же забыто. Приближенные командира бросились связывать нам руки за спиной, мы не давались, началась потасовка. Потом нас посадили на землю и велели стеречь. Четверка плотно окружила нас и бдительно стерегла, командир ушел в дом, а председатель прихрамывая удалился по своим делам. Дело о гибели кабана-производителя было закончено и начиналось новое – срыв уборочной кампании.
Командир вернулся с запечатанным конвертом в руке, вручил его одному из наших охранников, велев отвезти нас на пристань, откуда должна отправляться баржа на ремонт в Херсон, сопровождать до школы и передать замполиту, тому самому капитан-лейтенанту, который оформлял нас в Днепропетровске.
Путь до Херсона оказался весьма забавным. Охранники затолкали нас в трюм ржавой баржи, где на дне было по колено воды, и мы сидели на ее округлых бортах, держась за шпангоуты. Задвинув люк над нашими головами, они всю дорогу стучали по крыше, прерывая это занятие лишь на время переговоров с экипажем буксирного катера:
– Кого везете, – спрашивали с катера. – Уж не героев ли, потемкинцев?
– Хуже, – отвечали наши охранники, – эти люди сорвали уборку урожая в совхозе и убили племенного кабана, которого…
Далее подробно излагалось то, с какими трудностями одноногий председатель колхоза привез его из Сибири.
В Херсоне нас передали замполиту, который тут же отправил нас на уборку помещений вместе с охранниками, объяснив, что начальника школы нет и будет только завтра.
У дежурного лежало письмо Борису от его мамы, в котором она сообщала, что его брат Владимир, старший лейтенант, командир батареи противотанковых орудий, был ранен и лежит в госпитале в Николаеве, уже в команде выздоравливающих, с подробным описанием, как его найти. Я видел Владимира, когда он приезжал к Борису, и даже был знаком с ним.
На следующее утро нас вызвали к начальнику школы. Вместе с ожидавшим нас замполитом, все еще веря в высочайшую справедливость вышестоящего командира, героя морских сражений и обороны Севастополя, мы вошли в кабинет Москалини.
Мы молча стояли перед капитаном первого ранга, который сидел за большим письменным столом, не надеясь, а будучи полностью уверенными, что сейчас произойдет справедливое разбирательство происшедшего и все станет на свои места. Каперанг молча встал из-за стола и, с лицом, налившимся кровью, подойдя к нам вплотную, закричал:
– Пойдете под суд за срыв работ по уборке урожая. По условиям военного времени вас будет судить военный трибунал.
– Можете вы нас выслушать? – тихо, спокойно и вежливо спросил Вова Потапов.
– Слушать вас не желаю. То, что произошло на уборочных работах мне известно от вашего командира роты. Сегодня же мы оформим документы и передадим в суд, а сейчас идите в расположение, при необходимости вас вызовут, – еще больше багровея, продолжал кричать каперанг.
Надежда на справедливое решение наших судеб рухнула окончательно и сознание почти автоматически отделило героическую оборону Севастополя от справедливости. Прежде чем выйти из кабинета, я вдруг заявил, обращаясь к каперангу:
– Но перед расстрелом, когда нам дадут последнее слово, мы расскажем, как все было на самом деле.
– Вон отсюда, – заорал каперанг…
Весь оставшийся день мы драили коридоры, лестничные пролеты, мыли двери и окна. Замполит дал нам талоны в столовую. Сочувственно к нам относилась только наша воспитательница Зоя, демобилизованная по ранению связистка морской пехоты, направленная на работу в школу райкомом комсомола. Она была уверена, что Москалини все простит и все образуется. О нем она говорила как об очень добром человеке и мы этому уже почти поверили.
Вызвали нас к начальнику школы только к вечеру следующего дня.
– Я решил отчислить вас всех четверых из числа воспитанников нашей школы юнг и вы можете взять свои документы в канцелярии, – заявил каперанг, не отвечая на наше «здравия желаем…».
Просить его о помиловании не хотелось. Мы уже познали и нашего ротного командира и методы решения конфликтов начальником школы, и хоть не совсем осознанно, но отделяли военно-морскую романтику от элементарных человеческих качеств. Остаться в школе можно было только ценой большого компромисса с совестью, а этого как раз и не позволял сделать юношеский максимализм.
Забрав документы, мы попросили разрешения у замполита переночевать в школе, ибо идти на вокзал было уже поздно. Охранников наших отправили обратно и в большой спальне мы были одни, совещаясь до полуночи, что же делать дальше.
Потапов и Лючков твердо заявили, что едут домой и пойдут в школу. Когда я вернулся из армии через 6 лет, они оканчивали институты: Вова – горный, а Анатолий – университет.
Анатолий Демьянович Лючков и сейчас работает в Трубном институте ведущим специалистом в области металловедения и термообработки. Владимир Потапов долгое время работал на заводе им. Карла Либкнехта, а затем связь с ним была потеряна.
Мы же с Борисом решили отправиться в Николаев, найти его брата Владимира и попроситься с ним на фронт в его противотанковую батарею.

Юнги встретились через 54 года. 1998 г.
25-й учебный стрелковый полк
25 октября рано утром мы приехали в Николаев, без труда разыскали госпиталь, в котором находился брат Бориса, и вызвали его через дежурившего у входа сержанта. Очень скоро к нам вышел щеголеватый в габардиновой гимнастерке с двумя орденами на груди старший лейтенант Владимир Лысенко, слегка прихрамывающий и опирающийся на трость. На рукаве красовался черный, с красной окантовкой, ромбик с двумя скрещенными старинными пушками, такими, какие до сих пор лежат у нашего исторического музея – знаком противотанковой артиллерии. На секунду и мы с Борей представили себя припавшими к прицелу противотанкового орудия, наводя его прямо в крест на башне фашистского танка.
Володя знал, где мы учимся и, увидев нас, сильно обрадовался: в то время родственники, если это было возможно, старались навестить раненых и чего-нибудь необычного он в нашем появлении не узрел. Немного поговорив о доме, братьях и знакомых, Владимир сказал, что сейчас устроит нас на ночлег у себя в команде, он оказался начальником команды выздоравливающих, а завтра отправит нас в Херсон. Мы тут же, чуть ли не дуплетом, выпалили о цели нашего приезда и замерли, ожидая решения нашей судьбы уже в который раз за последние трое суток.
Лицо Володи изменилось до неузнаваемости, вмиг исчезла доброжелательность и радушие, а мы, не зная, что делать, стали наперебой рассказывать о случившемся, отчетливо видя, что он нас не слушает и пытается найти выход из создавшейся ситуации.
– Вот что, ребята. Я сейчас должен уйти на обход главного врача, у нас сегодня выписка. Заодно я поговорю кое с кем о вашем желании. Вы меня подождите. Я постараюсь вернуться минут через сорок, – сказал нам Володя и удалился в глубокой задумчивости.
Просидели мы два часа. К тому времени у меня уже были большие карманные часы фирмы «Павел Буре», так называемые часы машиниста, с гравировкой «Екатерининская железная дорога». Вернулся он с каким-то результатом, что угадывалось по его энергичной походке и решительности в глазах. Подойдя, он взял за руку Бориса, кивнул мне и повел нас в госпиталь, в какую-то маленькую комнатку, где стояли две железные кровати, усадил нас, сам сел напротив и, глядя на нас, начал энергично:
– Вы что, думаете, война – это романтическая прогулка, где мы бьем врага и только побеждаем, потом с улыбками проходим по освобожденным городам, а девушки забрасывают нас цветами? Что такое шестиствольный немецкий миномет, вы знаете? Это когда тебя и твою батарею накрывают шестью двухсотмиллиметровыми минами, а если останешься цел, то увидишь перепаханную осколками позицию, вроде бы черт огромным плугом поработал и, самое жуткое – растерзанные тела своих товарищей. А «юнкерсы» колесами по головам бьют и сотками засыпают. Кругом кровь и смерть.
Володя говорил долго и очень убедительно. Я, естественно, не могу помнить всего, но основу, которую я изложил, запомнил надолго и впоследствии вспоминал часто.
– Нас, противотанковую артиллерию, перед каждой атакой или наступлением стараются обнаружить и обязательно подавить. Последний раз это было под Одессой. От моей батареи осталось трое: через неделю меня выпишут, через месяц – второго, а третий – через два месяца уедет домой калекой.
Он помолчал, видимо, обдумывая что-то и добавил:
– Должен же кто-то живым остаться после этой страшной войны.
Затем он поднялся, поправил гимнастерку, взял в руку тросточку и молча повел нас на вокзал, купил два билета на «500-веселый», дал телеграмму маме Бориса, накормил нас пирожками, напоил кислым молоком и, взглянув на часы, заторопился в госпиталь. До отхода поезда оставался час. Мы попрощались очень тепло, и Володя сказал, что есть надежда получить неделю отпуска по ранению и приехать домой, может, еще увидимся.
Он удалился, мы смотрели ему вслед и не знали, что почти через три месяца Борис получит одно за другим два письма: в первом мама сообщит о гибели Володи в декабре в Венгрии, а во втором – что погиб еще один его брат – Шура – в Будапеште.
Как только он скрылся из вида, мы вышли с перрона в город, спросили у патруля где военкомат и через пять минут стояли перед одноэтажным домом Заводского райвоенкомата г. Николаева.
Осмотревшись и найдя кабинет военкома, мы решили войти к нему, когда он останется один. Вскоре нам это удалось. Он выслушал, улыбнулся и сказал, чтобы мы выбросили эту затею из головы и шли учиться в школу. На пятом или шестом нашем заходе он не выдержал:
– Сейчас в учебный полк направляется команда из разбронированных молодых рабочих судостроительного, и коль вы хотите воевать, я запишу вас 1926 годом и отправлю с ними. Давайте ваши документы.
Мы подали ему все, что нам вернули в школе юнг, он прочел, улыбнулся, вписал наши фамилии в список, лежащий перед ним, и вышел из-за стола:
– Ребята, возьмите ваши документы, сохраните и предъявите невестам, когда будете жениться. А сейчас идите во двор, там собирается ваша команда. Постарайтесь обязательно вернуться живыми и протянул нам единственную руку.
Таким он мне запомнился навсегда – высокий, стройный, черноволосый, с красивыми усами и орденом Красного Знамени на груди.
Через много лет, поимев множество неприятностей в нашем Жовтневом военкомате, я захотел узнать больше о майоре, о котором сохранилось доброе воспоминание. В архиве Николаевского облвоенкомата никаких сведений за 1944 год не оказалось. Как сказал работник архива, в тот период были развернуты полевые военкоматы, подчинявшиеся мобилизационному отделу штаба соответствующего фронта и найти следы майора можно только в Подольске, в Центральном архиве Министерства обороны.
В 1974 году в Подольский архив на несколько месяцев был командирован сотрудник нашего института Василий Павлович Шевелев, фронтовик, начальник штаба стрелкового полка, с задачей отыскать там следы сотрудников, которые затерялись в период войны. Я попросил его, если будет возможность, помочь мне в розыске майора, но безрезультатно: на тот момент подавляющее большинство документов периода войны оставались закрытыми и работать с ними можно было только в присутствии и при участии работников архива, которых, как всегда, не хватало.
В тот вечер 25 октября 1944 года нас, команду из 50 человек, привели строем в расположение 25-го учебного стрелкового полка, постригли, помыли в бане и переодели в военную, изрядно поношенную форму с ботинками и обмотками, которые здесь же в бане научил наматывать сержант, принявший нас по списку. Затем он привел нас в казарму и объявил, что мы все зачислены во 2-ю пулеметную роту и утром, познакомившись с командиром, будем расписаны по отделениям и пулеметным расчетам.
В казарме были двухъярусные огромные нары, где нам предстояло спать, а напротив – пирамида с винтовками и стеллажи с пулеметами «максим», на которые мы смотрели завороженно, конечно же представляя себя уже удалыми пулеметчиками, каких мы насмотрелись в кинофильмах.
Роту сформировали в 150 человек: 3 взвода по 50 человек – 48 солдат и два сержанта. В нашем взводе командиром был сержант Сергеев, а его помощником – ефрейтор по фамилии Сыч, что полностью соответствовало его характеру. Командир роты – старший лейтенант Михайлов, выдержанный, никогда не повышающий голос, улыбчивый и добрый, из фронтовиков. Был в роте еще один офицер, лейтенант, инструктор по пулеметному делу, которого мы видели редко, только при изучении пулемета.
Наш взвод состоял целиком из той команды, в которую нас зачислили в военкомате. Все ребята были молодые, окончившие ускоренное ПТУ и работавшие на судостроительном заводе им. 61 Коммунара, а затем разбронированные, когда на завод стали поступать демобилизованные по ранениям или отозванные с фронта кадровые рабочие-судостроители. Остальные два взвода состояли почти полностью из солдат-фронтовиков, попавших в учебный полк из госпиталей.
Наш пулеметный расчет состоял из Бориса – 1-й номер, меня – 2-й номер, Жоры Стрижевского – 3-й номер, и еще двух солдат, фамилии которых не помню. Сам пулемет системы «максим» в собранном виде весил 63 кг; тело (ствол с механизмом) – 22 кг; станок с колесами – 32 кг; щит – 9 кг. Кроме пулемета – 5 коробок с брезентовыми пулеметными лентами по 250 патронов в каждой и в дополнение ко всему 5-литровая фляга с охлаждающей жидкостью.
Военная учеба началась с курса молодого бойца: один день занимались строевой подготовкой, а затем вся неделя – в поле, на тактических занятиях. В поле выходили с винтовками, в вещевой мешок клали груз в 5 кг, в сумки для гранат – 2 металлических болванки, малая саперная лопатка и противогаз. Место для тактики было выбрано за селом Вознесеновка, расположенном на правом берегу Южного Буга, куда можно было пройти по длинному понтонному мосту. Почва в Вознесеновке и на прилегающих полях глинистая, а погоды на юге Украины в ноябре дождливые, и нагруженная рота продвигалась как по льду. Если ефрейтор Сыч подавал команду «воздух» или «танки справа», мы лежали в глинистой жиже и целились из винтовок в воображаемого противника, ненавидя и кляня Сыча больше, чем противника настоящего.
В казарме на трех огромных голландках 150 мокрых шинелей за ночь не высыхали, подсыхала только корочка глины, которую можно было соскоблить с сукна ножом. Постепенно пропитавшиеся влагой шинели стали неподъемными.
После обеда был час отдыха, после которого мы расходились по классам или углам казармы и изучали устройство пулемета: тактико-технические данные, разборка и сборка, чистка, правила стрельбы. После этого на тактику стали ходить с пулеметами, катить которые не разрешалось и станок весом 32 кг мне приходилось тащить на себе. Теперь уже хотелось быстрее услыхать команду «воздух» или «противник справа» и хоть немножко отдохнуть в глинистой жиже.
Стреляли боевыми патронами дважды: из винтовки по 3 выстрела каждому и из пулемета по 15 выстрелов только 1 и 2 номеру расчета. Из винтовки по поясной мишени на 100 метров, а из пулемета по двум поясным мишеням, изображавшим пулемет противника, удаленным на 300 метров. Ручные гранаты показали учебные, рассказали устройство, а боевые РГ-42 и Ф-1 только в руках сержанта Сергеева, который и метнул их, мы же осмотрели место взрыва и зоны поражений.
Питание в полку было скорее символическое: на завтрак 2 столовые ложки какой-нибудь каши, пайка в 200 г хлеба и чай; в обед – то же и полмиски мутной горячей жидкости, остро пахнущей американской свиной тушенкой, в которой плавали несколько крупинок пшена или перловки; на ужин – то же, что и на завтрак. При такой физической нагрузке, которую мы испытывали, питания не то, чтобы не хватало, а его как бы не было вовсе. Но была война и были понятны трудности, которые нужно было пережить. Все это понимали и мирились, если бы не раздражающая всех свора красномордых поваров и кухарок. Один раз мне пришлось быть рабочим на кухне в течение суток при дежурном сержанте Сергееве, и я увидел, как мимо солдатского котла продукты уходили в кошелки кухарок.
А выживать было необходимо и солдаты, в первую очередь побывавшие в подобных ситуациях, нашли интересный выход. Вечером перед отбоем несколько человек уходили в туалет с вещмешками и приносили выбранные из мусорного ящика банки из-под свиной тушёнки. К утру изготавливали несколько банок лжетушенки и на маленьких стихийных рынках в Вознесеновке или вблизи расположения продавали или меняли их на хлеб незадачливым торговкам. В качестве наполнителя пустых банок использовали куски рваных обмоток, в которые заворачивали битые кирпичи, обильно смачивая водой для создания характерного хлюпа желейной массы настоящей тушенки. Развальцовка и завальцовка банок осуществлялась специальным приспособлением, изготовленным из предохранительной скобы ручной гранаты.
Менее квалифицированные умельцы пошли иным путём: они собирали в мусорнике стеклянные пол-литровые консервные банки, наливали в них глицериновую жидкость, используемую для охлаждения пулемета, и ставили на холод. Застывшая жидкость была похожа на искусственный мед, сладковата на вкус и все бы шло хорошо, но одну баночку такого меда купила жена командира полка. На следующее утро полк был поднят по тревоге и построен на плацу. Командир полка, далеко не молодой, но хорошо сохранившийся, стройный, в полевых ремнях, со свистком и почему-то со шпорами (поговаривали, что он полковник еще с царских времен) выступил вперед, адъютант подал ему банку, и он рассказал о покупке своей супруги.
В полку были две пулеметные роты, и мы стояли на правом фланге полка. Командир прошел вдоль строя, медленно вернулся и остановился напротив пулеметчиков.
– К сожалению, я не знаю этого курсанта, который торговал медом, но я знаю, что он честный человек; он несколько раз сказал моей супруге, что мед искусственный, но липовый. И она, вспомнив детство, свою деревню и дедушку, который угощал ее на пасеке липовым медом, купила. Если он еще и смелый человек, пусть выйдет из строя и все расскажет. После окончания учебы я оставлю его в своем полку учить молодое пополнение для действующей армии. Такие люди здесь очень нужны.
Наверное, он думал, что сейчас же вся рота, или даже две, шагнут вперед, или последует признание и раскаяние. Но никто не шевельнулся. И тогда командир раскрылся:
– Ладно. У меня есть другие способы выявить этого пасечника, но учтите, наказание будет очень и очень строгим. Сгною на гауптвахте. Командиры подразделений, разведите свои учебные роты по местам проведения занятий, – закончил свое выступление командир и, сопровождаемый адъютантом, удалился. Продолжения эта история не имела, видно, стукача не нашлось.
Еще одной нагрузкой было оказание помощи соседствующему судостроительному заводу. Почти каждую ночь нас поднимали на разгрузку бревен с железнодорожных платформ. Почему-то это происходило с 24-х часов до 4-х утра. Подъем в 6.00 не отменялся и к постоянному чувству голода прибавлялось хроническое недосыпание. Единственным утешением на этих ночных работах была невероятных размеров сушильная камера, на огромные горячие ворота которой мы вешали свои шинели и они высыхали за два часа.
В одну из ночей неслыханно повезло: вместо завода нас послали на армейский склад разгружать эшелон с продуктами. Нашему взводу выделили два пульмановских вагона с тяжеленными 100-килограммовыми ящиками, которые по доскам надо было спускать в огромный подвал. На ящиках были надписи на английском, которого никто не знал и мы, изнемогая от тяжести и любопытства, трудились в поте лица, пока кто-то шепотом не предложил уронить его углом на рельсы. Из ящика вывалились огромные, килограмма но четыре, куски белого, пересыпанного солью и обернутого бумагой свиного сала. Старшина-кладовщик ругал нас и даже бросался с кулаками, но потом успокоился и велел утащить разбитый ящик в дальний угол. Когда под утро мы закончили работу, он нарезал нам по куску сала, примерно по килограмму, и велел хорошо спрятать, а в случае поимки – на него не ссылаться. При выходе со склада нас обыскали, но в рукавах шинелей прощупать не догадались и мы благополучно принесли его в расположение. Одну долю продали в Вознесеновке, купили хлеба и три дня были сыты. Сержант Сергеев и ефрейтор Сыч учуяли запах сала, рыскали по нарам и под матрасами, но так ничего и не узнали.
Упомянутые наши младшие командиры заслуживают отдельного рассказа, но так не хочется вспоминать о них, а тем более писать. Озверевшие от страха быть отправленными на фронт, они позволяли под предлогом поддержания строгой военной дисциплины не только оскорбительные высказывания, но и рукоприкладство по отношению к ослабевшим физически и морально молодым мальчишкам, попавшими в незнакомую и тяжелую ситуацию. Сержант Сергеев никогда не повышал голос, но о его садистских наклонностях знали все, он сам тоже понимал это и, предполагая возможные последствия в определенной обстановке, держался подальше, когда взвод бывал в поле с примкнутыми к винтовкам штыками.
– Товарищ сержант, поедемте с нами на фронт, когда нас отправят, с вами нам ничего не страшно и мы победим любого противника, – говорил какой-нибудь остряк, желая услышать лукавый ответ командира и развеселить взвод.
Не улавливая иронии, сержант заученно со вздохом отвечал:
– Не судьба, видно, много раз подавал рапорт об отправке на фронт, но, говорят, что здесь ты нужнее. Кому-то же надо учить молодое поколение. А вообще нас, учебных сержантов, иногда отправляют в особые гвардейские части, действующие на направлении главного удара. Что бы там ни говорили, а военное дело мы знаем хорошо.
После этого монолога сержанта Сергеева взвод весело хохотал, а он вроде бы и не замечал реакции своих бойцов, продолжая говорить то, что не один раз, вероятно, рассказывал молодым солдатам.
Когда мы уезжали на фронт, сержант Сергеев сопровождал нас до вокзала и усаживал в эшелон, но к вагонам ближе чем на 20 метров не приближался. Среди солдат ходила молва, что маршевики иногда захватывали особо ретивых сержантов учебных подразделений, связывали, затыкали рот, запихивали под нары и увозили на фронт. Очевидно Сергеев знал о таких случаях.
Ефрейтор Сыч ходил всегда со сжатыми кулаками и вроде бы намеревался пустить их в ход. Постоянно в казарме стоял его крик:
– Ты как стоишь перед ефрейтором Красной Армии?
Он тут же объявлял наряд вне очереди, что означало мойку полов в коридоре и лестницы после отбоя. Однажды он наступил на ногу одному меленькому, худенькому пареньку и с силой толкнул его в грудь. Тот упал и ударился головой о деревянную стойку нар. Подошел солдат из соседнего взвода, из старослужащих и, крепко сжав руку Сычу выше локтя, сказал:
– Если вы, товарищ ефрейтор, еще раз позволите нечто подобное – будете иметь дело со мной.
– Кто ты такой? – заорал Сыч.
– Об этом я и расскажу в следующий раз, а ваше обращение ко мне на «ты» не уставное, я вместе с вами свиней не пас.
Ходили слухи, что солдат тот был разжалованным капитаном.
После этого случая Сыч притих, но продолжал пакостить исподтишка: в коридоре, в поле, в столовой. Прослужив 6 лет в армии и бывая в разных частях и ситуациях, я ничего подобного больше никогда не встречал.
В один из дней наш взвод послали в почетный караул на похороны Героя Советского Союза, погибшего на фронте, и мы почти весь день пробыли в городе, а когда вернулись, оказалось, что все молодые солдаты нашей роты и других подразделений приняли военную присягу. Нас привели к присяге в комнате командира роты, заводя туда по десять человек, а через день выдали на руки красноармейские книжки, где было записано, что воинскую присягу принял, подпись ротного, а в графе «гражданская специальность» указано – электрик. Когда в казарме гас свет, мне приходилось ремонтировать поломку, а однажды даже в городе на квартире у Михайлова. Этому я в свое время научился у Ивана Петровича. Обе эти записи имели интересное продолжение.
Старослужащие стали упорно говорить, что принятие присяги и выдача красноармейских книжек – ни что иное, как подготовка к формированию маршевых рот и батальонов, т. е. отправка на фронт. Да и по поведению наших младших командиров чувствовалось, что грядут изменения уже привычного образа жизни и, действительно, однажды утром после развода нас вернули в казарму, велели за полчаса почистить и густо смазать оружие, составить в пирамиду, а затем повели в баню. После мытья переодели во все новое, выдали полную солдатскую амуницию: вещмешки, патронташ, сумку для гранат, чехол для лопатки, котелки, фляги с чехлами, запасную пару нового фланелевого белья и портянок, но главное – кирзовые сапоги вместо ненавистных обмоток. По размеру мне досталась шинель желто-зеленого цвета из плотного канадского сукна, чем выделяла меня в строю из серых шинелей, что мне очень не нравилось и при первой же возможности, уже по приезду на место, я обменял ее на серую у какого-то писаря.
Из казармы приказали не отлучаться, и мы впервые были свободны: писали письма домой, ходили из угла в угол и спали, кто сколько хотел. Все слухи шли от старослужащих, а они говорили, что, судя по экипировке, нас направляют в пограничные войска то ли на румынскую, то ли на финскую границу.
Был вариант и воздушно-десантный.
Ближе к вечеру организовали команду во главе со старшиной и принесли продукты на дорогу. Надо отметить, что в этот раз не поскупились: дорожный паек состоял из двух банок тушенки, двух селедок, буханки хлеба, сухарей и большой пачки сухой американской овсяной молочной каши. Командиры бдительно следили, чтобы мы не стали его тут же уничтожать, а когда пошли на ужин – ахнули: по полмиски перловой каши с хорошей дозой тушенки, по пачке печенья на двоих и кружка сладкого чая.
Построение объявили в час ночи. Старослужащие-остряки тут же откликнулись: чтобы нас не засекла вражеская авиаразведка и не раскрыла направление главного удара. Полк стал в каре по две роты с каждой стороны и образовал замкнутый квадрат. В центр вышел командир полка и замполит. Что он говорил я, естественно, уже не помню, но это было доброе напутствие солдатам, уходящим на фронт и он совсем не был похож на того, со стеклянной банкой в руке. Его речь была больше похожа на обращение к близким людям или своим детям. Потом он представил начальника эшелона, какого-то капитана и его заместителя, нашего ротного командира. А замполит говорил долго, но по-казенному, пересказывая сводки Совинформбюро.
Последовала команда и поротно мы вышли из ворот военного городка, свернули налево, прошли мимо завода и казарм, вошли в жилые кварталы, оркестр, шедший впереди, грянул марш «Прощание славянки» и, к величайшему нашему удивлению, мы увидели вдоль дороги огромное количество народа.
Плотной толпой стояли женщины, пожилые мужчины и дети. Совсем маленьких держали на руках. Строевой подготовке нас учили и мы, не желая оставить плохого впечатления у провожающих, изо всех сил старались держать ряды, идти в ногу и попадать в такт звучащему маршу.








