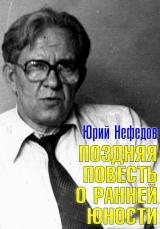
Текст книги "Поздняя повесть о ранней юности"
Автор книги: Юрий Нефедов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 24 страниц)
А от того «ура!» до сих пор, когда вспоминаю, испытываю величайшее недоумение.
Днепропетровск, 25 августа 1941 г.
Накануне несколько дней где-то громыхала артиллерия, по ночам вспыхивали зарницы и доносились далекие разрывы. Потом снаряды стали залетать в город и даже на нашу улицу. Там, где сейчас студенческая поликлиника, стоял одноэтажный дом, в котором жили три почти наших сверстника. При одном из артналетов, за день до прихода немцев, снаряд угодил в щель, в которой прятались ребята. В общей суматохе тех дней мы даже не знали, где и когда их похоронили.
Щели тогда были в каждом дворе, их заставляли рыть службы гражданской обороны. Но прятались мы при бомбежках не в щелях, а в бомбоубежище, в общежитии строительного института, что на углу улиц Чернышевского и Лагерной.
Город наш бомбили часто, особенно в июле. Иногда по два раза в ночь объявляли воздушную тревогу, и тогда мама нас сонных тащила за руки в бомбоубежище. Когда налет заканчивался, мы возвращались домой. Собирали по дороге осколки зенитных снарядов, иногда еще горячие. Пока их было немного, мы их коллекционировали и обменивались.
С 1-го августа маме на работе дали для меня путевку в пионерлагерь, который находился возле двух радиоантенн на нынешнем проспекте Гагарина, а в то время это было за городом. Жили мы в лагере в палатках. По ночам, во время налетов, нас будили, мы сидели в щелях. Вожатыми у нас были студентки ДИИТа и учительницы. Меня избрали командиром звена, которое состояло из двенадцати человек.
Однажды ночью в ботанический сад, находившийся напротив нашего пионерлагеря, прибыла воинская часть, разместилась и замаскировалась под деревьями. Все время мы проводили там и так несколько дней, пока часть не уехала.
Подразделение это, как я понимаю сейчас, было штабное или разведывательное. Под деревьями рассредоточились маленькие танкетки с пулеметами «максим» и машины с радиостанциями. Бойцы и командиры были уставшие, некоторые с бинтами на ранах. Они позволяли нам лазить в танкетки и собирать там стреляные гильзы, восторгаться крепкой броней этих маленьких машин. Остудил нас сержант с забинтованной головой, сказав, что эта броня защищает так же, как зонтик.
18 августа, в связи с приближением фронта, пионерлагерь закрыли и детей отправили по домам. Мне поручили, наверное, потому что я до двадцати лет всегда казался старше своего возраста, отвезти на вокзал и отправить в Днепродзержинск двоих детей: маленького мальчика и девочку, но не намного младше меня.
Я не представлял тогда, что творится в городе, а тем более на вокзале. Вся площадь была завалена чемоданами и узлами, на которых сидели люди, дожидавшиеся отъезда.
Попытавшись несколько раз безрезультатно пройти в вокзал, я заметил справа, где сейчас кассы предварительной продажи, низкий барачного типа дом и надпись: «Военный комендант». Схватив за руки своих подопечных, я стал проталкиваться к этому дому, как к последней надежде. В дверях стоял в мокрой от пота гимнастерке, затянутой в ремни полевой формы, с красной повязкой на рукаве старший лейтенант-кавалерист – «Дежурный помощник коменданта».
Его окружала чего-то у него просившая толпа военных и гражданских. Говорили все одновременно и он, взявшись за голову, шагнув из этой толпы, вдруг оказался прямо передо мной. Что меня осенило в этот момент, я не помню, но на секунду выпустив руку одного из подопечных и, глядя в его удивленно раскрытые глаза, вскинул руку в пионерском салюте:
– Я командир отряда пионерского лагеря имени Валерия Чкалова и мне поручено отправить двух детей в Днепродзержинск.
Я не помню, почему меня понесло в командиры, очевидно, какое-то чувство «сработало» подсознательно, сообразно обстановке. У старшего лейтенанта на мгновение округлились глаза, он развел руки в стороны и посмотрел на окружавших его людей, как бы давая понять им, что деваться ему некуда.
Схватив детей за руки, он побежал вдоль вокзала к пешеходному мосту, перепрыгивая через тела и ноги лежащих и сидящих людей. Девочка чуть не потеряла туфельку, но он подождал ее, потом подхватил одной рукой и, не выпуская руку мальчишки, взбежав на мост, бросился к последнему пути, где стоял готовый к отправке воинский эшелон.
Двери теплушки были открыты, в вагонах были красноармейцы, у дверей лежали минометы, ящики с боеприпасами. Старший лейтенант поднял детей в вагон, передал бойцам, сказал, чтобы высадили в Днепродзержинске. Эшелон тут же тронулся. Уже на ходу, пройдя несколько шагов вместе с движущимися вагонами, он спросил:
– А дорогу от вокзала домой найдете?
Когда он бежал обратно, я не поспевал за ним. Сзади на лестнице увидел на его сапогах шпоры.
Кавалерия в то время была в большом почете. Мы много читали о ней: «Тихий Дон», «Кочубей», «Конармия». Много кинофильмов и песен посвящалось именно ей. Я до сих пор помню много песен, посвященных красным конникам. Правда, в 1940 г. во время финской кампании в магазинах появилась конская колбаса, и народ тут же откликнулся: «Товарищ Ворошилов, война уж на носу, а конница Буденного пошла на колбасу…»
Под Сурско-Литовским наши лихие кавалеристы атаковали наступавшие немецкие танки. Что из этого вышло, я слышал из уст замкомэска Анатолия Ивановича Грушко, отца моей соученицы Нелли, человека совершенно необычной, даже для того времени, судьбы.
За день до прихода немцев сослуживец Анатолия Ивановича принес семье его полевую сумку с документами и красочно рассказал о его гибели именно в боях под Сурско-Литовским. Посидели, помянули, а когда сослуживец ушел, появился сам Анатолий Иванович с перевязанной головой.
Потом он воевал и попал в плен в Лозовой. Бежал из плена. Пробыл дома около месяца и ушел через фронт опять воевать. В середине декабря 1943 года семья получила похоронку из Харьковского госпиталя о его смерти от ран. Нелля с матерью собрались ехать туда, искать могилу. Когда вышли из дома, встретили живого Анатолия Ивановича, правда, на костылях.
На вокзале даже подойти к трамвайной остановке было невозможно и я пошел на следующую. Когда я был в двух кварталах от вокзала, начался воздушный налет и бомбардировка моста, станции и привокзальной площади. Это была самая мощная с начала войны бомбардировка и старые люди ее помнят хорошо, этот ужас 18 августа 1941 года.
Немцы в город вошли без боя и очень тихо. Со стороны Дачной показался мотоцикл с двумя солдатами. В коляске мотоцикла – дощечки с дореволюционными названиями улиц. Мотоцикл остановился на углу Кирова и Чернышевского. Тот, что сидел сзади, сошел на землю, порылся в коляске, достал дощечку и прибил ее двумя гвоздями: «Полтавская штрассе». Так мы узнали прежнее название нашей улицы. Водитель же мотор не глушил и из седла не поднимался, стоявших на улице людей просто не замечал.
На тротуарах группками у своих домов толпились люди, в основном женщины и дети. Отдельно со своей семьей стоял священник Лазаревской церкви Предыткевич, его дети Игорь и Люся, матушка Зинаида. Он махал дымящимся кадилом и что-то говорил. Мы не понимали, что это значит: то ли во славу немецкого оружия, то ли предавал их анафеме. В 1942 году Игоря угнали в Германию, и он исчез бесследно. Священника Предыткевича в 1943 году расстреляли немцы за связь с подпольем. Матушка после войны работала уборщицей в Металлургическом институте, а дочка Люся – в городской технической библиотеке. Она была очень красивой девушкой.
В этом же доме, где жил священник, жили две молодые женщины, квартирантки, мало кому известные. Они тоже стояли на улице и призывно махали ручками немецким солдатам, складывая ладошки, поднося их к щекам и наклоняя головы. Это ошеломило всех.
На противоположный по диагонали угол со двора на тротуар вышли 10–12 красноармейцев с винтовками в руках. Водитель мотоцикла только глянул на них и отвернулся. А по Чернышевского вниз уже катил бронетранспортер, из которого торчали головы в касках. Подъехали к нашим бойцам, в упор навели пулемет, велели положить винтовки на землю. Унтер спрыгнул на тротуар, сложил винтовки на обочину дороги, махнул рукой. Тяжелая машина искорежила их, а потом повернулся к солдатам и, подталкивая их в спину, крикнул: «Век, нах хауз!».
Затем пошел поток машин и бронетранспортеров, они шли без остановки, очевидно, это были подразделения первой линии. Народ стоял и смотрел молча, не двигаясь, застыв в ожидании чего-то.
Наступила пауза, немцев не видно и только изломанные винтовки свидетельствовали о том, что они были. Немая сцена. На улицах стало тихо. Люди, до этого молча наблюдавшие за происходящим, стали расходиться, ушли и наши красноармейцы.
И вдруг улицы стали оживать. Прошел небольшой шум. Засновали какие-то озабоченные люди, неся в руках различные вещи: от узлов и чемоданов, мешков и ящиков с продуктами до мебели. Самый догадливый из нас, Юрка Писклов, пояснил, что началась «грабиловка». Он потом очень здорово изображал лица грабителей. Мы смеялись. Уж очень она была характерна, грабительская внешность.
В это время где-то далеко что-то взорвали. Взрослые сказали, что, наверное, железнодорожный и гужевой мост через Днепр.
А грабители уже ломились в квартиры уехавших соседей.
Мама забеспокоилась, что могут ограбить квартиру моей сестры Марии, которая жила в районе Исполкомовской. 21 июня она вышла замуж за Василия Исаенко, который вернулся из армии после участия в финской войне и работал вместе с ней на обувной фабрике. А 22 июня во второй половине дня он уже шагал на войну от Октябрьского военкомата на станцию Лоцманка, как тогда назывался Южный вокзал.
В середине июля Василия привезли раненного в обе ноги в госпиталь, который располагался в Строительном институте, и он на костылях пришел к нам. Мы позвали Марию. Потом он отвез ее к своей матери на Полтавщину, на Воркслу, в село Лучки, где она и дождалась его с войны. Вернулся он в 1945-ом после семи ранений, честно прошагав до самой Победы командиром противотанкового орудия.
После войны Мария родила ему сына и дочку, и они прожили счастливо долгие годы. Я бывал у них в гостях в этих неповторимой красоты местах. Мне часто кажется, что-то от их счастья осталось и в моей судьбе.
Квартира сестры оказалась разграбленной. Но, очевидно, это произошло еще до прихода немцев, ибо даже дверь с петель была снята.
А по улицам Нагорной, Исполкомовской, Шевченковской сновали люди, таща и везя всякий домашний скарб, вдруг оказавшийся «дармовым».
В центре была слышна пулеметная стрельба, изредка рвались гранаты. Именно туда и тянуло нас детское любопытство. Страха не было. Я его не ощущал в тот период своей жизни. Казалось, что самое страшное где-то в стороне, с кем-то другим, но только не со мной. Он придет, страх, но позже, и я познаю его сполна.
Мы по Артемовской спустились к проспекту. На углу, где был большой гастроном, увидели в его хозяйственном дворе как несколько десятков молодых парней призывного возраста ведром на шесте черпали сметану из огромной, стоявшей во льду, цистерны. В тот момент, когда мы подошли и остановились на противоположной стороне улицы, один из них свалился в огромный люк цистерны, двое его вытащили оттуда, и он стоял на цистерне, как гипсовое изваяние. Толпа хохотала. И опять на мгновение показалось, что нет никакой войны, никаких немцев.
А мы продолжали двигаться в сторону вокзала, по левой стороне проспекта, именно туда, где стреляли. Некоторые дома на проспекте горели, но не от бомб и снарядов. Очевидно, кто-то поджёг.
Стрельба прекратилась, мы подошли ко Дворцу пионеров. На углу стояли люди, человек десять: мужчины и женщины, в основном пожилые. Два немецких солдата оттеснили их дальше от проезжей части. Прямо на углу, ближе к бульвару, горела легковая машина – кабриолет, в которой сидели наши убитые офицеры. Сзади торчали стволы двух ручных пулеметов. Над машиной высоко поднималось пламя. В пламени было видно, как они еще шевелятся.
Очевидцы рассказали, что машина с офицерами опоздала на мост: его взорвали, а они, очутившись в уже занятом немцами городе, метались на машине по проспекту от вокзала до улицы Ленинской, отстреливаясь из пулеметов. На четвертом или пятом кольце, когда машина притормозила перед поворотом, два немецких солдата из-за угла Дворца пионеров швырнули в них по гранате… потом еще.
Это были первые жертвы войны, которые мне пришлось увидеть почти в самом ее начале.
Потом приходилось видеть много. Когда мы ходили к Днепру за водой, то видели, что течением несло и прибивало к берегу трупы наших бойцов. Местные их хоронили, если не было артобстрела с левого берега.
А в город уже по-настоящему входили немцы. Неисчислимое количество автомашин, бронетранспортеров, мотоциклов и велосипедов двигалось по всем магистральным улицам. Многие въезжали во дворы и маскировались под деревьями. Когда мы вернулись домой, то у нас во дворе уже стояло несколько машин. Немцы занимали пустующие квартиры уехавших соседей. Настроены они были благодушно, со всеми вежливо здоровались, а те, что не помещались в домах, укладывались отдыхать в машинах или под деревьями на раскладушках.
Наши соседи Добины, Елизавета Григорьевна и Марк Евсеевич, смущенно улыбались и рассказывали, что он, Марк Евсеевич, стриг немцев, а те благодарили и расплачивались марками. Их дети, дочь Сарра и сын Янкель, эвакуировались с Металлургическим институтом. Дочь преподавала там немецкий язык. Родители сожалели, что дети уехали в неизвестность, а немцы совсем не такие страшные, как о них писали в наших газетах.
Вместе с тем, во всем этом была какая-то настораживающая неопределенность, все ждали чего-то зловещего, но оно еще не пришло в этот первый день немецкой оккупации. Впереди был еще 731 день…
Сентябрь-декабрь 1941 г.
Оккупанты, стоявшие во дворах на нашей улице, оказались австрийцами. Это выяснили соседи, говорившие с ними на идиш. Отсюда, очевидно, и их довольно миролюбивое поведение, понять и оценить которое мы смогли через месяц-полтора.
Все это время с левого берега по городу била наша артиллерия. Как говорили взрослые мужчины, стреляли из бронепоезда со станции Игрень. Чаще стрельба была беспорядочной, больше доставалось центру и нагорной части. «Начисто» снесли Лазаревскую церковь на Севастопольском кладбище. О потерях немцев мы не знали, а среди населения жертвы были. Под нашим окном разорвался снаряд, когда нас не было дома. Следы его осколков можно видеть и сейчас, если заглянуть в ворота между жилым двухэтажным домом и прокуратурой Жовтневого района по улице Чернышевского.
Вначале начались проблемы с продуктами. Несколько дней после взрыва Днепрогэса мы ходили к Днепру и приносили рыбу, собирая ее в оставшихся ямах с водой на оголенном дне. Но это быстро кончилось. Тогда мы одолжили у соседей двухколесную тачку и отправились в деревню менять вещи на еду. Пошел я с тетей Шурой, маминой сестрой.
Дорог в деревни мы не знали и пошли по Запорожскому шоссе. На дороге стояли два сгоревших танка Т-34, в кюветах валялись противогазы, каски, ящики со снарядами и патронами, кучи окровавленных бинтов.
Тащить тяжелую тачку нам оказалось не по силам. Мы поняли, что далеко не уйдем. По какой-то проселочной дороге стали спускаться к Днепру и пришли в Лоц-Каменку. Заходя во дворы, предлагали свои вещи в обмен на какие-нибудь продукты.
Никто ничего не хотел. Только в конце улицы, обойдя 10 или 15 дворов, сравнительно молодой хозяин заинтересовался папиным зимним пальто, совершенно новым, не ношенным. Он долго его рассматривал, прощупывая каждый шов, очевидно, раздумывая, как с нами поступить. Потом пошел в дом, оставил там пальто и вынес нам маленькое ведерко столовых буряков, не более 5–6 килограммов.
– Побойтесь Бога, дядя, – сказала ему тетя Шура.
– Геть звідси, бо зараз візьму ружжо, так тіки мозги з твого виблядка полетять.
Так впервые встретился я с воспеваемой сейчас толерантностью.
Из магазина на нашей улице немцы выбросили на тротуар остатки никому не нужных товаров. Мы с Женькой притащили оттуда ящик ячменного кофе. Мама терла буряки на терке, смешивала с этим кофейным порошком и пекла горько-сладкие лепешки.
Вездесущий Юрка Писклов разузнал, что можно чем-то поживиться на элеваторе на улице Горького. Отступая, наши взорвали его снизу, и в силосных башнях горела пшеница. Сотни людей выгребали через круглые взрывные проломы дымящееся зерно. По мере уменьшения его количества огонь разгорался сильнее. Скоро все сгорело. Мы успели сходить туда два или три раза.
Дома полусгоревшее зерно мы научились «обогащать», промывая в воде, затем сушили и измельчали на мясорубке. Если два раза, то муки было больше. Из дробленого зерна варили темно-коричневую кашу и ели, как казалось, вместе с дымом.
Немного позже мы с тетей Шурой совершили поход в Сурско-Покровское. Там наменяли на вещи несколько ведер картошки, сахарной свеклы и кабаков. Мама экономила. Постоянно хотелось кушать, но до глубокой осени мы дотянули.
В первых числах октября фронт быстро покатился на восток, уехали из города фронтовые части, перестала бить по нам наша артиллерия. Изредка прилетали наши самолеты, пытаясь разрушить переправы. В город въехала оккупационная власть…
На следующий день по городу были расклеены приказы военного коменданта, объявлявшие комендантский час с 6 вечера до 6 утра, правила поведения для населения, добровольный набор в украинскую полицию и т. д. За невыполнение любого пункта приказа коменданта – расстрел.
Ровно через неделю появились большие, величиной с газетный лист, приказы о взимании с еврейского населения контрибуции в три миллиона рублей золотом в течение десяти дней. При неуплате будут расстреляны двести заложников.
Еврейским семьям было приказано стать на учет. Пошли не все, некоторые пытались скрываться. По городу ходили полицаи, откуда-то наехавшие дядьки в костюмах явно с чужого плеча с винтовками и белыми повязками на левом рукаве, на которых черными буквами было пропечатано по-немецки и по-украински: «УКРАЇНСЬКА ДОПОМІЖНА ПОЛІЦІЯ», с немецкой печатью, с орлом и свастикой. Они отыскивали евреев. Немного позже их одели в черную форму с серыми обшлагами рукавов. Они же исподволь распространяли слух, что регистрация производится для переселения евреев в села немцев-колонистов Сталиндорф, Калининдорф и Ямбург, а немцев, или как их стали называть, фольскдойче – в город. И действительно в нашем дворе появилась некая Евгения Карловна из Ямбурга, толстенная, одинокая, сравнительно молодая женщина. Мама продала ей какие-то вещи за пуд муки. А в соседнем дворе – Эльза Фридриховна, к которой тут же приехал брат фельдфебель, занимавшийся ремонтом бронетранспортеров на территории Химико-технологического института.
Все немного успокоились. Наверное, стали привыкать к страху. Соседи-немцы, гражданские и военные, по утрам, встречаясь, говорили «Гутен морген», а соседи, евреи Добины, приходили к маме и о чем-то подолгу шептались. Однажды я услышал, что они беспокоились о своей бабушке-инвалиде, постоянно сидевшей в коляске, не представляя, как с нею можно добраться до места, куда их будут выселять.
В городе ничего не менялось, только прибавилось оккупационного воинства: итальянцы, румыны, венгры, словаки и даже латышский полицейский легион. Казалось, что вся Европа навалилась на нас. Мы все чаще вспоминали наших отступавших бойцов. Как им сейчас там, на фронте против такой армады? А немцы в расклеиваемых листовках писали, что уже взята Москва, что скоро войне конец.
Открылось несколько школ. Мама сказала, что нужно учиться, и я вместе с ребятами с нашей улицы пошел в пятый класс школы № 33, что напротив Троицкого собора. Проучились там несколько дней, а когда учительница немецкого языка закричала изо всех сил:
– Это вам не при советской власти, всех буду сечь! – мы ушли и больше в школу не возвращались.
Заработал Лагерный рынок. Вначале там торговали старушки с Мандрыковки. Был он какой-то по-домашнему добрый: торговки подкармливали тех, кто добирался домой из плена, детей и тех, у кого нечего было менять на продукты. Потом в торговлю вступили румынские солдаты и офицеры. Солдаты продавали белье, одеяла и прочее вещевое военное имущество, а офицеры – сигареты и табак. Затем на рынке появились венгры, итальянцы и все, кто был в городе. Немцы, а у них, видно, с этим было строже, иногда заскакивали на базар и где-нибудь в уголочке продавали самое дефицитное – в бутылках бензин и керосин. Итальянцы, как нынешние кавказцы, – цитрусовые.
Появились ремесленники, в основном из покалеченных военных. Делали и продавали зажигалки, керосиновые и карбидные светильники, свечи, ремонтировали примусы и керосинки, запаивали дыры в металлической посуде. Верхом технической мысли и ее воплощения казалось устройство из жести для размалывания зерна и крупу – крупорушка.
Потом начали делать одежду: телогрейки, ватные штаны, шитые бурки и обувь из изношенных и брошенных немцами автомобильных покрышек и камер.
Рынок наполнялся товаром и народом, почти постоянно в нем обитавшим. Некоторые мальчишки проводили там все свое время и стали настоящими рыночниками. Даже после войны они не могли изменить свой интерес к этому занятию, зачастую граничащему с криминалом, и многие очутились в тюрьме.
Марфа Ивановна Самарцева, бабушка Юры Писклова, у которой он воспитывался и жил, не захотев остаться ни у одного из разошедшихся родителей, о чем-то переговорила с нашей мамой. Они категорически запретили нам бывать на Лагерном базаре. К тому времени там образовались, как сейчас говорят, бандитствующие группировки и ходить туда стало страшновато.
А Юра Писклов так и прожил с бабушкой и дедушкой до самой их кончины. Окончил строительный техникум, работал на сооружении Каховской ГЭС, после этого окончил Высшие инженерные курсы в Строительном институте и до пенсии проработал в Гипрошахте.
В описываемое время Юра славился тем, что из рогатки стрелял без промаха от бедра и был страстным рыболовом, каким и остался до настоящего времени.
Постепенно нас переключили на заготовку топлива на зиму. Мы выбирали доски и щепки из развалин разбитых зданий. У нас образовался небольшой «творческий» коллектив: мы с братом, Юра Писклов и Федя Кияновский. У Феди был старший брат Александр, служивший на западной границе и приехавший в отпуск за месяц до начала войны. Его зеленую фуражку пограничника примеряли мальчишки всей нашей улицы.
Родители Феди, оседлые цыгане, были очень добрые люди. Мама всегда чем-нибудь угощала детей, а, отвернувшись, плакала. Они очень переживали за старшего сына, служившего на заставе возле Бреста.
Федя был на два года старше нас, но ростом ниже на целую голову и носил ортопедический ботинок. Одна нога от рождения была у него короче. Зато он был рассудительней нас и почти по-взрослому серьезен. Если мы что-либо задумывали, считали нужным с ним посоветоваться. Как правило, его пророчества сбывались.
Когда нам попадались большие бревна или деревья, мы распиливали их у дома Кияновских, потому что у них имелся инструмент: пилы, козлы, топоры, бывшие в то время в большом дефиците. Дровами мы заполняли любое пустовавшее пространство в квартире: под столом и кроватью, на шкафу и даже внутри его, так как к тому времени он опустел. Сгорали они быстро, комната не успевала нагреваться, и утром в ведрах мы обнаруживали воду с корочкой льда. Но это позже, в разгар зимы, а пока продолжалась осень… Мы научились находить в мусорных ямах, в угольной золе несгоревшие кусочки угля и собирать его. Иногда набирали за день целое ведро, тогда удавалось хорошо нагреть комнату.
Так проходили день за днем. Мы бродили по улицам в поисках чего-нибудь съестного или дров. Опять ходили слухи о взятии немцами Москвы. Оккупанты всех мастей ходили гордые и надменные. Очередным приказом коменданта было введено правило: когда идет по тротуару немецкий офицер, необходимо немедленно остановиться, прижаться к стене и пропустить его. Организовали городскую управу и соответствующие учреждения. Все вывески были на украинском и немецком языках.
Стали выпускать городскую газету. Сразу же нашлись желающие в ней печататься. Писали всякую чушь, вплоть до правил гадания на кофейной гуще, блюдечке, картах. Сводки с фронтов были очень тяжкие, но постепенно люди научились понимать их истинное значение. Особенно глубокой осенью после битвы под Москвой.
Несколько позже начали расхваливать условия жизни в Германии и призывать ехать туда добровольно. Наши соседи Калашниковы, Иван Григорьевич и Мария Васильевна, уже не молодые люди уехали туда добровольно. Он работал там бухгалтером в каком-то хозяйстве в Голландии. Как объяснили маме, они боялись местных доносчиков. За неделю до прихода немцев к ним приезжали дочь и зять. Оба окончили ДИИТ и служили в армии. Очень красивая пара: оба высокие, в форме с портупеями и кубиками в петлицах. Они хотели эвакуировать родителей, но что-то не сложилось. После войны они вернулись в город через Англию и тут же уехали в Среднюю Азию. Их зять, Леня Бондаревский, работал там начальником дороги.
Там, где сейчас лечкомиссия, прямо за парком Глобы (на его месте сейчас Оперный театр) стоял двухэтажный дом. В нем разместилась биржа труда. Туда приходили люди, толпились в очередях, надеясь найти работу. Однажды очередь окружили немцы с полицаями, отобрали тех, кто моложе, в одно мгновение загнали в кузова двух машин и умчались в сторону вокзала. Остальные, кто не попал в машины, разбежались, а в парке стоял стон и плач. После этого мы старались в этом месте не появляться.
Позже полицаи стали забирать прямо из дома по каким-то разнарядкам, ими же и составленным. Сначала тех, кто был 1924/25 года рождения, а затем и более молодых.
Не помню по какому случаю, мы оказались на проспекте в районе универмага: я, мой брат, Юра Писклов и Федя Кияновский. Это было 13 или 14 ноября. На проезжей части, между универмагом и нынешней гостиницей «Центральной», стояла толпа людей, как бы построенная в колонну человек по 6–8 в ряд, мирно разговаривая, медленно продвигаясь в сторону улицы К. Либкнехта в окружении редкой цепочки немецких солдат. Некоторые из них, примерно через 10–12 человек, вели огромных овчарок.
Возглавляли колонну несколько офицеров. Они весело разговаривали и громко смеялись. Один из них, высокий, красивый и даже щеголеватый, очевидно, старший, не забывал оглядываться и подавать руками какие-то знаки солдатам. Солдаты были из войск СС и вермахта.
Мы заметили относительно небольшую толпу – начало огромной колонны, а конец ее просматривался где-то в районе Садовой или еще дальше. Колонну проводили последовательно через третий, второй и первый этажи магазина, заставляя их там оставлять свои вещи, якобы для последующей доставки в места переселения.
Колонна медленно двигалась вперед и уже свернула на ул. К. Либкнехта, а мы все стояли и смотрели. Большинство составляли пожилые люди: женщины, многие с детьми; старики, но были и молодые. Они, в большинстве, вели себя спокойно и даже улыбались, но таких было немного. Основная масса шла обреченно, очевидно, отчетливо понимая, куда и зачем их ведут.
Мы прошли ближе к универмагу и увидели, как полицаи подгоняли людей с вещами к входу, который ближе к улице Короленко, а затем выпускали их через противоположную дверь, но уже без вещей. Всех торопили в колонну.
Обратная стена универмага в ту пору была полностью из стекла. Когда мы зашли на ту сторону, где сейчас магазин Михаила Воронина, то увидели толпу, смотревшую куда-то наверх. Там, на третьем этаже, уже шел дележ оставленных вещей, где усердствовали, в основном, полицаи.
Во второй половине дня со стороны Запорожского шоссе стали раздаваться выстрелы, винтовочные, пулеметные и автоматные, затихшие только часам к 10 вечера.
Так расстреляли евреев в Днепропетровске. Говорили, что в этой колонне, которую мы так близко видели, их было 14 тысяч.
Из нашего двора навсегда исчезли наши соседи Добины, Елизавета Григорьевна и Марк Евсеевич. На веранде в инвалидной коляске осталась сидеть бабушка, мать хозяйки. Такая же старушка и тоже в инвалидной коляске осталась в доме № 42 из семьи расстрелянных Шерфов. Несколько дней за ними ухаживали соседи, затем наехали фольксдойче, заняли опустевшие квартиры, а старушек солдаты перетащили в подвал одноэтажного дома, что еще до недавнего времени стоял на углу улиц Кирова и Дачной, напротив студенческой поликлиники.
С середины ноября до середины марта мы ухаживали за старушками с Юрой Пискловым и Федей. Где смогли, застеклили, а где-то забили фанерой окна в подвале. В развалинах нашли и установили маленькую чугунную буржуйку, принесли дрова, посуду, воду, емкости для отходов, убрали комнату и сделали ее чуть похожей на жилье. Носили еду, которую готовили мама, Марфа Ивановна и Федина семья.
Когда мы оставались с братом вдвоем, а мама уезжала на заработки, мы всегда готовили и на бабушек. Мой восьмилетний брат очень строго следил за этим.
В середине марта, в один из дней, когда был наш черед кормить старушек, мы с братом ранним утром, еще не совсем рассвело, несли им котелок горячей кукурузной каши, или мамалыги, другого тогда не было. Дойдя до дома № 31, мы увидели телегу с лошадью, стоящую у входа в подвал, где находились наши подопечные.
Остановились в нерешительности и испуге. В этот момент из подвала вышел полицай, волоча по земле одну из бабушек. Подтянул, без труда забросил ее в телегу, спокойно вытащил из кобуры пистолет и выстрелил в голову. По-хозяйски спокойно повернулся и пошел в подвал. Нас он не заметил. Надо было быстрее убегать…
Я потянул за руку Женю, но он не сдвинулся с места. Взяв у него сумку, где стоял обернутый полотенцами котелок с кашей, я закинул его руку себе на шею и потащил домой. Ноги его не шли. Я буквально приволок его домой, уложил в постель, затопил печку, сварил еду и пытался его растормошить.
Значительно позже я узнал, что такое шок и как можно вывести из этого состояния. А тогда мне было 12 лет, а ему 8. Примерно через четыре часа он сначала начал водить глазами, вроде бы рассматривая, но не понимал, где он находится, а потом сел в кровати. К котелку с кашей, который несли старушкам, мы не притронулись.
В конце марта мама приехала из Сурско-Литовского, а у нас кончились дрова. Утром, когда было еще темно, я отправился на поиски. Где-то на улице Жуковского я оторвал три доски от еще не до конца изломанного забора и потащил их через дворы домой. Когда я вышел на свою улицу, прямо перед собой увидел трех полицейских-латышей с винтовками. Они рассмотрели меня, велели положить доски на землю. Один повел меня в сторону Лагерного рынка, двое не спеша пошли вниз в сторону Дачной.








