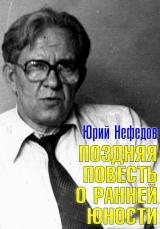
Текст книги "Поздняя повесть о ранней юности"
Автор книги: Юрий Нефедов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 24 страниц)
Почти все что-то кричали нам, но разобрать было трудно, потому что все сразу и уж очень старался оркестр. В короткие паузы, когда музыкантам давали передохнуть, мы слышали только два пожелания: «Ребята, возвращайтесь все к своим матерям» и «отомстите». Одна женщина, державшая на руке маленького ребенка, а второй придерживающая чуть старшего, кричала, что их родителей убили фашисты и просила отомстить. И так на всем пути до самого вокзала. Солдаты шли молча, даже старослужащие балагуры притихли, всех, очевидно, взволновала эта ночная встреча и проводы, все чувствовали, что идем не на парад.
За время службы мне еще раз пришлось ехать на фронт из запасного полка, но все было иначе: старшина пересчитал, прочитал по списку фамилии, посадил в кузов «студебеккера» и привез в часть. А то, что было в Николаеве, запомнилось на всю жизнь, и даже теперь, когда прошло много лет, я не могу спокойно слышать марш «Прощание славянки» – если сумею сдержать слезы, то не смогу подавить спазм в горле.
Вокзал был оцеплен вооруженными солдатами и на перрон гражданских не пустили. Наш эшелон стоял на первом пути, и нас очень быстро разместили по вагонам, назначили дневальных и помощника дежурного по эшелону. Попрощались с провожавшими нас младшими командирами, а они и в самом деле жались к группе офицеров, опасаясь насильственного вывоза, раздалась команда «по вагонам» и эшелон тронулся, увозя нас в полную неизвестность.
Утром проснулись и сориентировались, что эшелон идет на север – значит не румынская граница, может и в самом деле финская? Потом прошли Житомир, Коростень, Овруч, приехали в Белоруссию. Проехали Мозырь, Лунинец, т. е. стали сворачивать на запад. Загадки больше не было, стали только думать на какой 1-й или 2-й Белорусский?
В дороге не обошлось без приключений. Мы с Борисом попали в 4 или 5 вагон, где оказались и старослужащие – умельцы по изготовлению «свиной тушенки». Пустые банки они собирали в эшелоне, заполняли их и на базарах продавали или на что-нибудь меняли. Одну банку продали какому-то немолодому дядьке, он искренне благодарил и все приговаривал, что сейчас с напарником пообедают. А на следующей остановке он подошел к вагону, отыскивая продавца, а увидев его, стал стыдить:
– Кому ты продал, где твоя совесть, ведь я вас везу. Машинист я.
Сцена была очень неприглядная, смутились все и даже продавец. В эту минуту мой Борис достал из вещмешка банку настоящей тушенки и протянул машинисту:
– Возьми, батя, и извини нас всех, если можешь. Это уже не от голода мы, а от дури.
Наступила тишина, все молчали, глядя на машиниста, а он, разглядывая тушенку, перекидывал банку из руки в руку:
– Ладно, чего уж там. Сам такой был когда-то, – и добавил, – скоро приедем, ребята.
Мы уже проехали Барановичи и поезд набирал ход, почти что проносился мимо сожженных сел, маленьких поселков и станций. Чувствовалось, что война уже где-то рядом, это было видно даже по изредка встречавшимся местным жителям: такие же изнуренные, измученные, со следами пережитого ужаса и оборванные, как и мы год назад.
Удивительно, но на всем пути от Николаева нас ни единого раза не бомбила немецкая авиация, ее как бы уже не существовало. В составе эшелона, в середине и в конце, было две платформы с 37-миллиметровыми зенитными пушками и спаренный американский крупнокалиберный пулемет, но зенитчики только мерзли на своих платформах, прибегали на остановках греться в вагоны и ругали всех и вся.
Наконец Волковыск. Тоже разбитый, сожженный и какой-то закопченный городишко. Дежурные предупредили – приготовиться к высадке. И, действительно, протянув с десяток километров от станции на запад, эшелон остановился и тут же команда: «Выходи строиться».
Выскочили все дружно, осмотрелись, кругом чистое поле и ни единой постройки, даже вдалеке не просматривалось никакого жилья. Местность на нашу не похожая: холмистая, с редким кустарником и отдельными деревьями, покрытыми инеем, замерзшие лужи и хороший ветерок с морозом и колючей поземкой. Совсем не так, как на юге Украины.
Нас построили поротно вдоль эшелона. Вперед, кроме наших, вышло еще 4–5 офицеров, объявив, что сейчас мы совершим марш и через 3 часа будем в расположении своих частей. Наши офицеры, одетые в новенькие белые полушубки, подошли попрощаться, пожелали удачи, а Михайлов обошел всю роту и пожал всем руки.
191-я стрелковая Новгородская дивизия
Наши офицеры отошли в сторону и застыли в воинском приветствии. Новый капитан подал команду, и мы двинулись большой колонной, все дальше удаляясь от железной дороги, поротно печатая шаг и держа равнение.
Едва заметная проселочная дорога вела прямо на запад и мы молча, с чувством непривычного волнения двигались по ней, зная, что идем к фронту. Офицеры, видно, поняли наше состояние и стали на ходу вести беседы, переходя от одной роты к другой.
Нам рассказали, что дивизия сформирована еще в 1940 году как соединение береговой обороны, что всю блокаду Ленинграда дивизия билась на разных участках фронта, большую часть этого тяжелого периода – на Невском пятачке. Дрались на Волхове, освобождали Тихвин. После прорыва блокады участвовала в освобождении Новгорода, отличилась там, за что и получила наименование «Новгородской». А сейчас прибыла из Прибалтики, где освобождала Ригу, немного пополнилась там и в настоящее время находится во втором эшелоне на формировании. И, как бы откликаясь на наши мысли, сказали, что с ходу нас в бой не пошлют, а подучат, каждого хорошо проверят, вооружат, у каждого молодого бойца будет наставник из старослужащих фронтовиков и вообще погибнуть просто так не дадут – скоро конец войне и предстоит большая работа по восстановлению разрушенного.
Мы проходили через несколько бедных, полуразрушенных деревушек, видели местных жителей, пили и набирали во фляги воду из колодцев, шутили с девушками. Дружно прокричали «ура» бородатому, очень бедно одетому старику в солдатской, еще с царской кокардой, фуражке, стоявшему у своих ворот на костылях и вскинувшему ладонь в воинском приветствии.
Постепенно наши ряды выравнивались, колонна принимала правильную форму, солдаты подтянулись и в роте старослужащих за нашей спиной запели:
Несокрушимая и легендарная,
В боях познавшая радость побед…
Потом пробовали петь все вместе, не получилось. Тогда стали петь поротно: одна рота заканчивала, следующая начинала новую.
Оглядываясь в то далекое время, силюсь вспомнить лица офицеров, принявших нас на разгрузке, и не могу. Очень мало я их видел, всего несколько часов, пока вели нас в расположение дивизии. Это была первая встреча с фронтовыми офицерами-пехотинцами. Потом было множество других встреч и впечатлений, и все они остались в памяти, как самое дорогое, что мне подарила судьба в тот трудный период моей жизни. Иногда я думаю, что было бы, попади я на другой фронт, а не на 2-й Белорусский? Отвечая себе, уверен, что и на других фронтах встретил бы точно таких, ибо других тогда просто не было. Где же они сейчас?
– Ребята, песню и громче. Мы входим в расположение дивизии, где старшины уже заждались и повара томятся у котлов с кашей. Им приказано вас накормить после запасного полка, – скомандовал старший. И мы вошли в деревню, дошли до центра, свернули вправо на большую поляну и перестроились буквой «П», по две роты с каждой стороны.
В центр тут же вошли генерал-майор с группой офицеров:
– Здравствуйте товарищи бойцы, – приветствовал нас генерал и после нашего громкого, дружного ответа, сказал:
– Желаю вам также хорошо воевать, как вы поете. Мы уже полчаса слушаем ваше пение и радуемся боевому пополнению нашей дивизии.
– Ура, – крикнули мы в ответ тысячей глоток.
– Я командир 191-й стрелковой Новгородской дивизии – генерал-майор Ляскин Григорий Осипович. Дивизия находится на формировании во втором эшелоне 2-го Белорусского фронта…
Далее он кратко рассказал о боевом пути дивизии, пересказав то, что мы уже узнали в дороге, и заключил:
– Сейчас вас разведут по полкам и с завтрашнего дня вы начнете напряженную боевую подготовку. Желаю вам успехов в учебе и в предстоящих боях. Только один вопрос: есть ли среди вас связисты, радисты или телефонисты?
Неожиданно для всех руку поднял Жора Стрижевский, третий номер нашего пулеметного расчета, и назвался радистом-коротковолновиком 1-го разряда. Генерал кивнул подполковнику, тот вывел Жору из строя и, приобняв, увел далеко в сторону. Оставшихся, разделив на три равные части, разобрали представители стрелковых полков и повели в свои расположения.
О том, как и кто нас встретил в 546-м стрелковом полку, зачислив во взвод полковой разведки, я рассказал ранее. А затем события развивались следующим образом.
Младший лейтенант Зайцев повел на кухню, где нас хорошо накормили, затем нам выдали оружие – 2 автомата ППШ, ящик патронов к ним, несколько пистолетов ТТ и револьверов, ящик гранат РГ-42, пообещав остальное выдать через 2–3 дня. Затем мы отправились в свое расположение, на хутор из двух домов примерно в 2-х километрах от штаба полка. В одном из домов квартировал начальник разведки, а в другом хозяин освободил нам одну большую комнату, вдоль двух стен мы настелили солому, укрыли ее плащ-палатками, и это стало нашим жильем. Сразу же расписали и выставили пост – 2-х человек с автоматами, ходивших вокруг хутора навстречу друг другу. Взводный предупредил, что до передовой 5 километров и мы находимся в полосе возможного действия поисковых групп противника. Когда подошла моя очередь заступать на пост и два часа ходить вокруг хутора в кромешной темноте со взведенным затвором автомата и пальцем на спусковом крючке, я пережил первый настоящий страх. За каждым кустиком мерещились немцы, пробирающиеся к хутору с целью захвата «языка», и так не хотелось таковым оказаться. Потом приспособился ходить так, чтобы не терять из виду своего напарника и считал секунды до его появления, когда он скрывался за домом.
На следующий день взводный повел всех в лес на занятия, а меня оставили охранять хутор, с задачей натопить хорошо печь и вскипятить чайники к 14-ти часам. И я остался один на один с автоматом и уймой патронов первый раз в жизни. Долго терпел, изнемогая, а потом не выдержал, зарядил два магазина, вышел во двор, нашел за сараем старую посуду и, спросив у хозяина разрешения, развесил ее на изгороди. Стрелял сначала одиночными выстрелами, а войдя в азарт, стал строчить очередями и тут же увидел бегущий от леса к хутору наш взвод со взводным во главе и с пистолетами в руках.
– Нравится тебе этот автомат? – спросил Зайцев. – Давай красноармейскую книжку и он твой.
Так в моей жизни появилась запись, сделанная собственноручно младшим лейтенантом Зайцевым – ППШ № 6725, а я впервые получил в руки мечту чуть ли не всей своей предыдущей жизни. «Наказан» я был через два дня, когда всему взводу выдали новенькие автоматы ППС-43.
С этого дня началась напряженная боевая подготовка. Вставали в шесть утра, быстро собирались, кушали и уходили в поле, лес или на линию ДОТов, недостроенных в 1941 году. Много стреляли, бросали гранаты, маскировались, а больше всего в ночное время ходили «за языком».
Основным тренером был, конечно же, взводный командир Гордей Зайцев, сибиряк, спокойный, малоразговорчивый, но очень опытный и смелый разведчик. До нашего с ним знакомства он два года пробыл в полковой разведке, один раз легко ранен и пережил два полных состава взвода. Был помкомвзвода старшим сержантом и в день его откомандирования на курсы «Выстрел» взвод ушел в поиск в полном составе и не вернулся. Это было в Прибалтике. Рассказывая об этом, он становился грустным и говорил, что надо лучше учиться сейчас, чтобы вернуться домой всем живыми. И без устали учил стрелять, маскироваться, незаметно приближаться к цели, сверяться с картой, запоминать и представлять по ней местность или наоборот – суметь нанести на карту увиденное, использовать гранату на поражение или испуг и еще многим другим премудростям. От него мы узнали, как разминировать противопехотную мину, как уберечься от уже сработавшей прыгающей, как мгновенно поставить мину-ловушку из гранат…
Его родители были сельскими учителями и он часто писал им, обучив и нас писать письма впрок, а когда появлялся почтальон отдавать ему, проставив только дату, тем более, что письма жестко проверялись цензурой и можно было писать очень скупо: «учимся бить врага», «бьем врага» и «обо мне не беспокойтесь».
Своего котелка у него не было и он каждый раз присаживался к кому-нибудь из солдат, как я понял значительно позже, чтобы чувствовать состояние своих бойцов, держа таким образом руку на пульсе взвода. Никто никогда не слыхал его крика или резкой громкой команды.
Полной противоположностью был его заместитель, старший сержант Владимир Терехин. Его мы подобрали в свой вагон на какой-то станции в Белоруссии. По рассказу и документам, которые он показал, его демобилизовали по ранению из госпиталя в Москве, который находился под патронажем Элеоноры Рузвельт. Маленький осколок вошел ему в лоб и вышел через затылок, пройдя между полушариями мозга, повредив их незначительно. В документах, которые ему выдали, все это было описано на русском и английском с указанием траектории. С нами вместе он и пришел во взвод разведки, где сразу же был назначен помощником командира взвода, как имеющий боевой опыт в качестве артиллерийского разведчика.
Будучи глуховатым по ранению, он всегда говорил громко, срываясь на крик, а когда стали выдавать наркомовские 100 грамм, он после них становился невменяемым, у него забирали оружие и он плелся сзади дня два, пока не приходил в норму. У меня с ним произошел небольшой конфликт, и после этого наши отношения испортились навсегда: он стал постоянно угрожать оружием, и нас часто просто разводили в разные стороны.
Однажды рано утром мы возвращались в расположение после ночных занятий по узкой, длинной и прямой, как стрела, гатке, проложенной через замерзшее болото. Я шел предпоследний, за моей спиной был Терехин. Откуда ни возьмись, выскочил заяц и помчался параллельно гати в противоположную сторону, метрах в 40 от нас. Весь взвод развернулся и стал поливать его из автоматов, а я достал гранату, вырвал кольцо, отсчитал две секунды и метнул ее ему навстречу. В эти две секунды, что прошли после хлопка взрывателя, Терехин упал под гать и закрыл голову автоматом, опасаясь взрыва гранаты в моих руках. Когда после взрыва взвод повернулся и громко захохотал, я увидел лежащего под гаткой, сжавшегося от страха, с автоматом на голове, Терехина. Тут же при всех Терехин пообещал меня убить, если этого не сделают немцы. В дальнейшем у меня бывали с ним неприятные инциденты, но все обходилось, ибо его просто перестали воспринимать как командира и совсем по другой причине.
Во взводе появился Александр Половинкин, разжалованный в рядовые старший лейтенант фронтовой разведки, бывший морской офицер, владеющий немецким языком, москвич и, как он подчеркивал, из Марьиной Рощи. Всего в дивизию прислали шестерых разжалованных: по одному в разведку каждого полка и троих в разведроту дивизии. Был он красивым блондином, выше среднего роста, с фигурой атлета, с кошачьей бесшумной и энергичной походкой, умел с большим изяществом носить солдатскую форму, с обязательным револьвером за голенищем. Сейчас мне кажется, что образ легендарного Таманцева из повести «В августе 44-го» В. Богомолов списал с Половинкина.
По его скупым рассказам мы знали, что во фронтовой разведке они забрасывались в глубокий тыл немцев к партизанам и организовывали там разведслужбу и связь. А если группа была человек 20–25, то организовывали диверсионные отряды и уходили в наши тылы, громя по дороге штабы крупных соединений немцев, строго согласовав сроки своих действий с центром.
С первого дня своего появления он буквально поразил нас стрельбой из револьвера, когда, падая на грудь, спину или на бок, успевал сделать два прицельных выстрела в мишень, почти вогнав пулю в пулю.
От автомата ППС он наотрез отказался, променяв его на ППШ, с которым долго возился, разбирал, стучал молотком, пилил напильником, а затем одиночными выстрелами с 50 метров попадал в донышко консервной банки. При этом он приговаривал с хорошей долей юмора:
– Ребята, это не фокусы или цирковые номера. Вы должны помнить всегда, что для уничтожения живой силы противника у нас есть артиллерия, авиация, танки и «Катюши», а нам нужен противник живой и разговорчивый, желающий сдаться в плен. Но не все этого хотят, к сожалению, и поэтому их надо брать силой. Так как они все вооружены, необходимо оружие из рук выбить, вогнав пулю в правое плечо, не повредив грудную клетку.
Когда начались боевые действия и взводу ставили определенную задачу, происходило это так: командира вызывали к начальнику штаба и давали приказ, а он, возвратившись оттуда, тихонько советовался с Половинкиным и только после этого начинал действовать. Вначале это происходило без нашего участия и как бы скрывалось от подчиненных, а затем вошло в норму в открытую спрашивать и советоваться с Александром, который по сути и был неформальным командиром.
Вместе с ним пришел сержант Владимир Соловьев, призванный в 1940 году из Одессы, где он уже работал сварщиком на судостроительном заводе. Провоевав до ноября 1943 года командиром противотанкового орудия, он был легко ранен и вместе со своей искореженной пушкой был оставлен в каком-то селе в районе Житомира до подхода медсанбата и ремонтных подразделений. На его беду в этом селе формировалась партизанская дивизия П. Вершигоры и опытный сержант понравился начальнику разведки, который и переоформил В. Соловьева в свою разведроту.
После 2-х месяцев боев и походов в немецких тылах пришел приказ из Москвы направить в штаб партизанского движения 10 опытных разведчиков. А так как старые партизаны расставаться не желали, то отправили туда всех новичков, в том числе В. Соловьева. Проучившись в спецшколе какое-то время, он был заброшен в Трансильванию в качестве заместителя командира диверсионной группы (18 человек) с задачей взорвать мост. Летчик не рассчитал и группа погибла при приземлении почти в полном составе. В живых остался командир с переломом обеих ног, невредимые Соловьев и пулеметчик. Они, конечно же не выполнив задания, тащили командира к своим, потом спрятали его на хуторе у румына и к своим добрались одни. Их держали под арестом до того дня, пока не нашли командира, а потом отправили на фронт.
Был он молчаливый, спокойный и как будто всегда о чем-то задумавшийся, очень добрый, готовый в любую минуту прийти на помощь, какими обычно бывают много пережившие люди.
Когда взвод делили на несколько групп, он всегда возглавлял одну из них. Я несколько раз был под его началом и всегда чувствовал себя спокойно, глядя на него, зная, что он не ошибется, не подставит, не пошлет вместо себя.
В конце Восточно-Прусской операции, в Алленштайне, после тяжелого напряженного дня вечером мы сушились у большой, разогретой голландки в просторном немецком доме. Соловьев сидел у раскрытой дверцы печи и, быстро высушив портянки, обулся и встал, посадив меня на свое место. Во дворе скрипнули ворота сарая, где мы поставили своих четырех лошадей. Взводный, обращаясь ко мне, сказал, чтобы я пошел проверить, не задувает ли снег в сарай.
Соловьев, положив руку на мое плечо, велел сидеть, надел телогрейку и вышел. Через несколько секунд раздался негромкий пистолетный выстрел, мы все выскочили во двор с оружием в руках, я и Терехин – босые. В воротах сарая лежал убитый выстрелом в лоб Володя Соловьев. Мы с Терехиным бросались за сарай и увидели убегающую фигуру женщины вверх по склону, в сторону ветряной мельницы, за которой виднелся небольшой лес. Босые ноги проваливались через толстый ледяной наст, казалось, что их режут ножами, но мы уже приблизились к ней метров на 30, и в этот момент женщина повернулась к нам, вытянула руку и два раза выстрелила. Падая с криком в снег, Терехин выпустил короткую очередь, женщина упала на спину, отбросив далеко свой пистолет.
Похоронили Владимира на следующий день на восточной окраине Алленштайна. За ночь соорудили тумбу из красного искусственного перламутра, отодранного от клавиатуры трофейного аккордеона, вырезали надпись: «Сержант Владимир Соловьев».
В книге Януша Пшимановского «Память», посвященной воинам, погибшим за освобождение Польши, в списке захороненных в Ольштыне (так теперь называется Алленштайн) фамилии Владимира нет. Это меня и удивило и обидело, и я даже писал автору об этом, но уже в наши дни мне пришлось ознакомиться с документами о захоронениях наших бойцов в Черске, где погиб почти весь взвод, и я понял систему, по которой велся учет погибших и похороненных. В дальнейшем я постараюсь рассказать об этом более подробно.
Следующим из числа опытных разведчиков, присланных в наш взвод, был рядовой Павел Мусинский, уроженец вологодской области, из семьи лесничего, уже два года воевавший в полковой разведке. Среднего роста, коренастый крепыш, передвигавшийся бесшумно и очень быстро, почти всегда молчавший, а потому незаметный, но всегда готовый прийти на помощь товарищу, даже если к нему и не обращались. Потеряешь ложку или не окажется котелка в нужный момент, он тут же молча тебе их протянет.
Стрелял, маскировался, ползал, метал гранаты на занятиях он безукоризненно, но никогда никто почти не слышал его голоса и, порой казалось, что он не может разговаривать. Снимая шинель, он рукавом правой руки каждый раз протирал орден Красной Звезды на своей груди, совершенно не обращая внимания на солдатские подначки по этому поводу.
Однажды перехватывая бегущих из деревни немцев – сбитый стрелковым батальоном заслон, мы неслись из леса им наперерез и, казалось, не успеем. Но Павел, самый крайний справа в нашей группе, опередил всех, выскочил из-за куста на дорогу прямо перед бегущими немцами, пустил длинную очередь над их головами и не крикнул, а заорал «хонде хох». Шесть немецких солдат, бросив автоматы, остановились, как вкопанные, а когда подбежали мы, Павел уже собирал оружие и был похож на отпущенную пружину.
Таким он и остался в моей памяти: незаметный, тихий, но всегда чуть ли не главный действующий персонаж в самой сложной ситуации.
В числе пришедших во взвод солдат, имеющих боевой опыт, были еще два одессита: Александр Одольский и Борис Эльберт, о котором я уже немного рассказал. Одольский же был весьма интересной личностью хотя бы тем, что с разными интонациями и по совершенно различным поводам говорил, что он не просто одессит, как Соловьев, Эльберт и Нефедов, а он одессит с Пересыпи. Что это означало, мы не знали, но по его жаргону догадывались: сапоги он называл прохорями, пистолет – пушкой, финский нож – пером, а брезентовые складные сумочки, в которые мы сложили свои документы и отдали взводному – лопатниками. Он же, вслушиваясь в польскую речь хозяина, первый придумал автомату «польское» название: джистопуль.
Среднего роста, худой, с золотым зубом и с виду совсем молоденький, он хорошо стрелял и быстро бегал. За его блатные словечки над ним стали подсмеиваться даже молодые солдаты, но однажды он достал из кармана шинели пристегнутый там холщовый мешочек и извлек оттуда орден Красной Звезды и медаль «За отвагу» со старой маленькой колодочкой:
– Медаль мне вручили еще в Сальских степях, а звездочку уже здесь, под Минском, – сказал Александр, задумавшись, будто что-то вспоминая.
Больше он никогда ничего не рассказывал, но со стороны молодых подначки прекратились, а наши старожилы как бы признали его своим: все совещания проходили с его участием.
Однажды на каком-то хуторе, где мы уже приготовились ночевать, он спустился к берегу большого озера, где стояло несколько сараев, и привел оттуда человек 70 вооруженных фольксштурмовцев. Зрелище было захватывающим: впереди идут вооруженные немцы, почти через одного несут на плечах фаустпатроны, одеты кто в чем, а возглавляет эту колонну высокий старик в каске с острым верхом. Сзади, так что и не видно, Одольский идет рядом с немцем, на плече у которого пулемет.
– Пусть положат оружие на землю, – крикнул взводный.
Только передний в нелепой, еще кайзеровской каске бросил оружие.
– А мы что, сами это железо носить будем? Пусть принесут и сложат аккуратно, – откликнулся Одольский.
Немцы подошли, сбросили винтовки в одну кучу, фаустпатроны осторожно сложили в другую и построились в две шеренги, ожидая дальнейших указаний. Все они были весьма преклонного возраста, за исключением двух или трех насмерть перепуганных мальчишек. Беседовал с ними Половинкин вместе с командиром. Узнали, что все они из близлежащих населенных пунктов, и велели им быстрее уходить домой. И тут выяснилось, что там, куда им надо идти, еще немецкая власть и они боятся расстрела. Пришлось нам самим утопить в озере оружие, разрядить фаустпатроны и уйти в деревню, где располагался штаб полка, а сдавшихся фольксштурмовцев оставить на хуторе.
В какой-то из дней мы вели в штаб трех немецких солдат, один из которых был ранен в правое предплечье и, зажав рану здоровой рукой, еле переставлял ноги. По дороге на окраине деревни мы увидели пункт первой медицинской помощи, обозначенный белым флагом с красным крестом, и завели туда своих немцев. Пока одна из сестер перевязывала раненого, Одольский увидел чью-то гитару и, побренчав на ней, вдруг запел:
Я вернусь к тебе, моя родная,
С орденами на блатной груди…
Одна из сестер забрала гитару и довольно резко, с раздражением заметила:
– Ты явно не туда попал, мальчишечка.
Ну а мы, молодые и необстрелянные, по-прежнему оставались детьми, хоть и научили нас очень многому: метко стрелять, маскироваться, быстро бегать и ползать по-пластунски, спать в любых условиях, разводить костер одной спичкой с помощью бикфордового шнура, согреваться, лежа часами в снегу, «подавить» приступ кашля и помочиться в лежачем положении, иметь всегда хотя бы маленький кусочек сахара, чтобы подавить чувство голода, выявить пулеметную позицию, командный пункт, минное поле, возможную смену подразделений противника, заткнуть рот пленному, чтобы не кричал и не кричать самому, если ранят… И еще многим военным мудростям учили нас командир и ветераны, и мы стали более взрослыми, но окончательно не повзрослели.
Командир принес и раздал каждому финские ножи в красивых кожаных чехлах, в которых мы нашли записки от учеников ремесленного училища г. Златоуста с пожеланиями боевых успехов. Тут же нашлись умельцы их наточить, чтобы брили. Половинкин стал учить как ими пользоваться, а Одольский – как их носить за голенищем, привязывая чехол к штрипке сапога. Через пару дней мы уже кое-что могли, тренируясь с деревяшками в руках и доставая ножи из чехлов только по разрешению командира.
В один из дней, вернувшись со стрельбища, мы чистили оружие и готовились к выходу на ночные занятия. Я закончил сборку автомата и уже положил его на свое спальное место, когда Борис Эльберт хлопнул меня по плечу и с криком «защищайся», занес надо мной руку с финкой. Развернувшись к нему лицом, я ударил его двумя руками с двух сторон по кисти с ножом, одновременно подставив ему подножку и толкнул. Он упал на спину, я на него, финка на рукоятку, и, когда я уже почти лег на него, кончик ножа ткнул меня в левый бок. Раздался скрежет ножа по ребру и, как показалось, финка воткнулась мне в левый бок по самую рукоятку. Ужас, который я испытал, неописуем. Вскочив, я задрал гимнастерку и увидел кровь, стекающую тонкой струйкой, и лежащую на полу финку. В комнате на секунду все остолбенели и первым отреагировал командир:
– Идиоты, еще до передовой не дошли, немца даже вшивого не видели, а уже калечите друг друга.
В это самое мгновение раздался стук в дверь, и на пороге появилась девушка, младший сержант, с санитарной сумкой через плечо. Опять стало тихо.
– Здравствуйте, герои-разведчики. Я пришла провести с вами занятие по оказанию первой помощи при ранении.
– Ну и окажи этим двум идиотам. Одному дырку заштопай, другому дурную голову замени, – продолжал неистовствовать Зайцев первый и последний раз за весь короткий период моей службы под его командованием.
Девушка быстро помыла руки, уложила меня на лавку, обработала рану йодом и начала энергично действовать, объясняя по ходу столпившемуся вокруг меня взводу:
– На такую рану необходимо сразу наложить тампон и заклеить или обвязать бинтом, но я сейчас сделаю так, как это сделали бы на ПМП – зашью, – ласковым голосом ворковала сестричка, доставая из сумки необходимое.
А взвод стоял вокруг и, перебивая друг друга, изощрялся шутками в мой адрес. Я же, лежа на правом боку лицом к стенке, готов был провалиться от стыда за случившееся, поставившее меня в центр повышенного внимания и обидных подначек. Надо особо отметить, что взводный об этом случае начальству не доложил и просил сестричку о происшедшем в санроте не рассказывать.
Медсестра тем временем достала из своей сумки большую ампулу, чем-то брызнула на рану, из целлофанового пакетика извлекла иглу с ниткой, двумя стежками стянула рану, смазала еще раз йодом и приклеила марлевый тампон.
– Вставай, будешь жить, если не будешь баловаться, – сказала она шутливо.
Потом она по-настоящему провела занятие, показала как перевязывать голову, грудь, живот, локоть, ступню и т. д., а когда закончила – совсем стемнело.
– Темно и девушку надо проводить в расположение санроты, – начал Зайцев. Половинкин и Одольский схватились за шапки.
– Проводишь ты, – указал он пальцем на меня, – она за тобой ухаживала, поухаживай теперь ты, – закончил взводный, отсекая самых опытных из нас ухажеров по каким-то своим, командирским, соображениям.
Мы вышли из дома и окунулись в полнейшую темноту: луны не было, морозный ветер гнал низкие черные тучи, проселочной дороги не видно и она только угадывалась под ногами замерзшей колеей от подводы. Взяв направление на деревню, мы осторожно шли, стараясь не потерять след телеги, и тихонько разговаривали:
– Возьми свой автомат на правое плечо и согни в локте левую руку, я буду держаться за тебя. Ты ведь девушку провожаешь. Помнишь, что говорил Зайцев? – сказала моя подопечная, рассмеявшись.
Я немного смутился и благодарил судьбу за темень, скрывшую, как мне казалось, мою растерянность.
Я впервые в жизни шел с девушкой, которая вполне ощутимо опиралась на мою руку, вызывая непонятные, совершенно новые чувства. Они настолько заполнили мое сознание, что я онемел и, казалось, просто машинально переставляю ноги.
– Как зовут тебя, я знаю. А меня зовут Шурой, Александра я.








