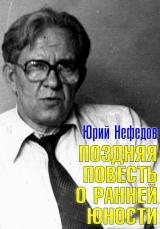
Текст книги "Поздняя повесть о ранней юности"
Автор книги: Юрий Нефедов
Жанры:
Военная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 24 страниц)
Такова была в то время обстановка в том районе Польши, но мы были вооружены, имели кое-какой опыт и главное – были молоды и уверены, что все самое страшное где-то в стороне.
Свернув с магистральной дороги Краков – Жешув, мы покатили свои машины по второстепенной. Асфальт скоро закончился, начался профилированный грейдер, в низких местах засыпанный гравием. Перед въездом в лес мы заправили ленты в оба пулемета, дослали патроны в ствол, а крупнокалиберный «браунинг» я перекатил к правой дверке, закрепив его наглухо, со стволом, чуть поднятым вверх и вправо от оси движения.
Через час-полтора дорога стала немного идти вниз, и мы поняли, что спускаемся к реке. Карта была у старшего лейтенанта в автобусе, шедшем впереди, но мы знали, что это Вислока, приток Вислы. Скоро показался мост, и я успел отметить, что он совершенно новый, добротно сделанный из толстых еще не потемневших сосновых брусьев. А автобус уже стал подниматься на довольно крутой взгорок на противоположном берегу, двигаясь в десяти метрах впереди нас.
В этот момент раздалась грохочущая очередь крупнокалиберного пулемета, ударившая по автобусу. Я сидел на правом командирском сидении и придерживался за одну из рукояток на затыльнике пулемета. Автобус начал оползать назад; уперся в большой каток нашего передка, а я машинально, двумя пальцам, тыльной их стороной, нажал обе гашетки своего браунинга. Успел только заметить, как полетели ветки подрезанного кустарника и стоящих дальше деревьев. Пулемет, бивший по нам, замолчал. В этот момент в автобусе взорвался бензобак, расположенный впереди под капотом и вверх взметнулось высокое пламя. Климентьев с криком: «сумки!» выскочил из БТРа, бросился к кабине автобуса, указывая нам рукой на его заднюю дверь. Мы бросились к ней, открыли, зная, что там, у передней стенки, лежат две больших брезентовых опечатанных сумки со спецкорреспонденцией. И в этот момент раздалась вторая очередь по БТРу. Я упал на мост и стал отползать, чтобы укрыться за левым передним колесом БТРа, а оба автоматчика прыгнули в воду. Раздался взрыв внутри БТРа – взорвался резервный бак с бензином, располагавшийся под сидением водителя, по мосту потек горящий бензин, а я метнулся под перила и очутился в воде. Когда вынырнул – рядом плюхнулось сидение водителя, очевидно уже побывавшее на большой высоте.
Зажав в правой руке не помню как очутившийся у меня автомат ППС, я плыл к берегу, уже слыша рокот автомобильных моторов, приближавшихся с той стороны, откуда мы приехали. А вода была очень чистая и я, разгребая кувшинки и выходя на берег, увидел сидящего под мостом Климентьева с пистолетом ТТ в руках.
Я показал рукой в сторону автомобильных звуков, но Климентьев предостерегающе поднес палец к губам. Очевидно, он предположил, что это тоже могут быть АКовцы. В стороне, в прибрежных кустах лежали целехонькие наши автоматчики и, увидев меня, замахали руками в сторону машины. Выглянув на дорогу, я увидел остановившийся первый «студебеккер» и прыгающих из него солдат в касках, разворачивающихся в цепь. Из всей дивизии в касках и с довоенными ранцами ходил только батальон автоматчиков нашего полка, за что их называли абиссинцами.
Первыми ко мне подбежали двое с ручным пулеметом и, спросив направление, стали из-за толстой сосны стрелять короткими очередями по кустам, а мы вчетвером бросились к автобусу и потушили вовсю горевшую кабину, выхватили тлеющую полевую сумку с колен убитого старшего лейтенанта. Брезентовые сумки в автобусе начали тлеть, а убитый майор лежал на шинели, расстеленной на тюках с газетами. Водитель выпал из кабины, но ногами зацепился за педали и висел, ноги его сильно обгорели. По характеру ранений все трое погибли мгновенно, наверное, и не поняв, что с ними случилось.
Подоспевшие следом автоматчики потушили мост, и мы побежали к тому месту, откуда бил пулемет, нашли там кучу стреляных гильз от немецкого крупнокалиберного пулемета и следы крови, уходящие по дороге. Подбежавший командир батальона капитан Клименко отогнал нас, чтобы не затоптали следы, и сказал, что уже сообщил по радио о случившемся.
По следам, оставленным пулями из браунинга, было видно, что очередь прошла в полутора метрах от земли, прямо над головами АКовцев, а ручной пулемет наших автоматчиков бил точно в то место, где стоял крупнокалиберный пулемет, и следы крови были явно от его огня.
Примерно через час приехало много начальства в сопровождении броневиков, осмотрели местность, нас с Климентьевым разделили и стали порознь опрашивать. Будучи значительно опытнее меня и, предвидя ситуацию, он успел шепнуть мне, чтобы рассказывал только то, что было, и не высказывал предположений и догадок.
В сопровождении каких-то офицеров нас подвели к автобусу и БТРу, мы рассказали все, что было, осмотрели изрешеченные машины. Меня больше всего удивили дыры в броне БТРа: его стены и особенно задний борт были похожи на дуршлаг. Посчитали гильзы от браунинга, их было около 30. Гильз от немецкого пулемета, из которого стреляли АКовцы, больше 70.
Потом нас привезли и посадили в разные одиночные камеры гарнизонной гауптвахты, и два раза в день ко мне приходил военный дознаватель, как он представился, старший лейтенант. Долго и нудно задавал одни и те же вопросы, записывал ответы, давал прочитать, расписаться и уходил.
На третий день он пришел с капитаном, и я понял, что сейчас что-то решится. Капитан опять опросил быстро по той же схеме и вдруг спросил, не знаю ли я, не объявляли ли нам приказ, строго определяющий маршруты движения. Естественно, что я не знал, и он протянул мне его для ознакомления. Приказом категорически запрещалось съезжать с главных дорог, а близрасположенным воинским частям вменялось их патрулирование на выделенных участках.
В самом конце чернилами дописано «ознакомлен» и стояла дата на сутки ранее дня чрезвычайного происшествия. Я понял, что ему от меня надо и наотрез отказался его подписывать, тем более что уже два дня я давал показания, что никаких предупреждений не было. Офицеры уехали, а через два-три часа нас с Климентъевым выпустили, вернув все изъятое, кроме погон.
По дороге в полк опытный Климентьев наставлял:
– Раз живы остались – значит виновны. Здесь такие законы и от них никуда не денешься. Советую тебе в полку никому ничего не ассказывать. Через лучших друзей еще будут проверять долго. Лучше больше слушай.
Потом мы долго шли молча и наконец он закончил:
– Дознаватель сказал, что АКовцы устроили засаду нашим абиссинцам и ждали их. Представляешь, сколько они набили бы, стреляя по полным грузовикам. Их было восемь машин. Клименко должен был бы построить свой батальон в почетный караул, встречая нас с гауптвахты, а все будет по-другому. Держись, тебе еще служить долго, а я может быть скоро уеду.
В полку нас встретили совсем не как героев: Климентьева направили старшиной роты техобеспечения, а меня – в батальон автоматчиков первым номером ручного пулемета. За время нашего отсутствия старшиной разведроты назначили Алексея Бабкина, нашего школьного старшину из 75-й артбригады, и он предупредил меня, чтобы я не попадался на глаза ротному: тот опять вспомнил наше первое знакомство.
Через несколько дней моего пребывания в батальоне автоматчиков пришел заместитель начальника автослужбы полка старший лейтенант Флегонов и стал отбирать 20 человек рядового состава на ускоренные курсы шоферов. Очередная демобилизация оставила без водителей большое количество машин, и предстоящая передислокация дивизии вызывала большие затруднения. Я, тут же забыв о своих сержантских погонах, записался на курсы, прошел медкомиссию, и мы приступили к занятиям по 12 часов в день. Неделю изучали материальную часть, а затем вождение, сначала по внутренним дорогам, потом на магистрали Тарнобжег – Жешув. Через месяц мы лихо гоняли «студебеккеры», «доджи» и «форды» во всех направлениях, сопровождаемые охраной из батальона автоматчиков. Флегонов, довоенный московский таксист, хорошо знал свое дело, умел научить и через полтора месяца мы получили права военной автоинспекции, которые, как нам объясняли, на гражданке без проблем поменяют на общесоюзные.
Тут же началась передислокация дивизии в Опельн, нынешний Ополе. Колесные машины уходили своим ходом, танки, самоходные орудия и тяжелая техника – по железной дороге. Первый раз я поехал туда в небольшой группе бензовозов, сопровождавших основные колонны дивизии.
Военный городок, доставшийся от немцев, располагался в городе и после всем надоевшего опасного леса, казался царским. Четырехэтажные казармы с небольшими на 6–12 человек комнатами, со встроенными шкафами для оружия и верхней одежды, большие умывальники, душевые и туалеты приводили в восторг особенно тех солдат, которые такого не видели никогда ранее.
Рядом с воротами в городок стоял старинный красивый костел, куда по воскресеньям приходило много нарядно одетых поляков с детьми, и мы с удивлением их рассматривали, иногда даже разговаривали, удивляясь их приветливости. Мы уже привыкли в лесу, если появлялись гражданские лица, оттягивать затвор своих автоматов.
Нас стали понемногу переодевать в добротно пошитое обмундирование. Новые шинели на солдатских плечах сидели красиво и даже элегантно. Кирзовые сапоги заменили кожаными. Стали выдавать деньги: оказалось, что за все месяцы службы в дивизии у меня накопилось 2 тысячи рублей на сберкнижке, и 1 тысячу выдали злотыми. Это был последний год, когда за границей существовали полевые и гвардейские доплаты.
Через неделю я в составе группы из 10–12 машин поехал в Дембу. Мы погрузили оставшееся там имущество штаба дивизии, личное имущество, семьи начальства и большой колонной вернулись в Опельн. Здесь потекли дни рутинной военной службы: утром и до обеда – занятия, во второй половине дня до позднего вечера – обустройство парков машин и танков. Несение караульной службы, а особенно гарнизонной, и патрулирование по улицам города нам заменяли увольнения, которые были категорически запрещены.
И как ни старалось начальство уберечь нас от контактов с местным населением, таковые случались. Мой хороший товарищ Сережа Овчаров где-то познакомился с сапожником-немцем, у которого заказал себе хромовые сапоги, готовясь к демобилизации. У старика сапожника жила внучка, молоденькая красивая немочка 18-летняя Барбара, влюбившаяся в Сережу не меньше, чем он в нее. Родители Барбары погибли во время войны, она жила у дедушки и, как немцы, они должны были быть переселены на территорию Германии, что тогда интенсивно проводилось на новых землях Польши. Не знаю уж как, но они договорились, что она с дедушкой в Германию не поедет, а останется в Польше служанкой у знакомых поляков, дождется Сережиной демобилизации, и вместе уедут в Союз, где и поженятся.
Красиво, но наивно. Однако среди нас в то время было много таких романтиков. Слушая политинформации и радио, мы знали, что советский народ стал на трудовую вахту первой послевоенной Сталинской пятилетки и зажил счастливой жизнью Победителя. Офицеры, возвращающиеся из отпуска, на все вопросы отвечали одним словом – «хорошо» и угощали московскими сигаретами «Дукат». А как можно было думать иначе, если каждое утро на завтрак нам давали тарелку жареной картошки с двумя увесистыми котлетами и кружку сметаны, которую мы употребляли с белыми булочками, покупаемыми в пекарне напротив наших окон. Могли ли мы представить, что где-то живут иначе. И гражданское устройство нам представлялось другим, более достойным народа, победившего в этой страшной войне.
В один из дней Сергея Овчарова послали на машине в городскую комендатуру отвезти какое-то имущество, а на обратном пути он попросил водителя завернуть к Барбаре. Они подъехали к ее дому, когда наши и польские солдаты грузили в машину вещи старика-сапожника, а плачущая девчонка уже сидела в кузове, поддерживаемая провожатыми. Увидев Сергея, она забилась в истерическом плаче, пытаясь вырваться, но ее держали крепкие руки, тут же подхватившие старика, и машина тронулась к вокзалу. Желая хоть как-то утешить подружку, Сергей поехал следом и стал свидетелем последней сцены, когда рыдающую, бьющуюся в крепких солдатских руках Барбару вместе с дедом буквально внесли в вагон, у дверей заняли места охранники, и поезд тронулся.
Вернувшись в расположение, Сережа раздобыл где-то бутылку водки, выпил ее и, устроив небольшой митинг с участием личного состава роты, упал и уснул. Дежуривший по роте старший сержант Абалмасов доложил по команде, и спящего Сергея четверо солдат во главе с ротным командиром принесли в вытрезвительную камеру на гауптвахту, где я, находясь в карауле, стоял на посту.
Камера была создана по всем правилам немецкого военного искусства: площадью 2x2 метра, со встроенным в потолок мощным вентилятором. Бесчувственного Сергея положили на цементный пол, включили вентилятор, заперли дверь снаружи, приказали мне не выпускать его до утра и удалились. Вентилятор гудел, казалось, что воздушный поток поднимет Сергея к потолку, он ежился, скрутившись калачиком и было видно, что если он и останется живым, то здоровым никогда. Наказание было жестоким.
На гауптвахте было шесть одиночных камер, в трех из которых сидели арестованные, ключи от помещения были у меня, мой пост был внутри. Я запер на ключ гауптвахту и быстро сбегав в казарму, принес Сергею шинель и одеяло. О моем приходе стало известно дежурному. Он трижды приходил ко мне, требуя вернуть шинель и одеяло на место. Я просил его умолчать, сделать вид, что ничего не знает, открывал дверь и заводил его в камеру, взывал пожалеть Сергея, которого любила вся рота, но Абалмасов был неумолим и в конце концов пошел в караульное помещение и доложил.
Посадили меня на гауптвахту с большим шумом на 15 суток строгого ареста, в назидание личному составу, но получилось все наоборот: Абалмасову весь полк объявил бойкот, а мне в камеру в те дни, когда не давали еду, вся рота носила различные деликатесы, которых с лихвой хватало, чтобы поделиться с коллегами. Разогнав несколько раз толпу солдат из-под окон гауптвахты, бурно выражавших мне чувства солидарности, начальство решило меня выпустить на седьмые сутки и отправить на погрузку угля и дров на станцию в 30 километрах от города.
А как же Сережа Овчаров? Он был безучастным ко всему и совершенно ни на что не реагировал, вроде бы все происходящее к нему не имело никакого отношения. Очевидно, он тяжело переживал разлуку с Барбарой, к которой питал самые сильные и искренние чувства. Только в середине января 1947 года при нашем расставании уже в Баку он отпустил скупую мужскую слезу.
Так заканчивалось мое полугодовое пребывание в 20-й танковой дивизии – тем же, чем и началось – гауптвахтой. Все это далось мне не просто и не легко. Я долго переживал все происшедшее со мною за это время и только молодость, масса новых впечатлений и встреч помогли надолго, вплоть до настоящего времени, когда захотелось описать те события, если не забыть, то немного отвести в другую плоскость всю остроту и трагизм тех месяцев.
Но до конца 1946-го года еще оставалось полтора месяца, и служба продолжалась. Очень быстро все пришло в норму, мы «совершенствовали свое боевое мастерство», много работали с техникой и, как всегда, два раза в неделю сидели на политзанятиях, слушая рассказы о счастливой жизни советского народа.
В середине ноября демобилизовали солдат и сержантов 1924 г. рождения, которых в полку было не более 5 человек. Их призыв в 42-м пришелся на самые кровавые периоды войны и почти полностью погиб. Это все знали и очень бережно к ним относились, хотя вслух никогда ничего не произносилось. Пришел попрощаться Виктор Климентьев, который к тому времени был заведующим клубом:
– Знаешь, о чем я думал там, на Вислоке, под мостом? Мы, когда всем классом уходили в армию, обещали своей учительнице вернуться и рассказать о войне. Из класса в живых остался я один. И тогда я думал, что уже не придет никто. Видимо, один из нас родился в рубашке. А может оба?
Вскоре после их отъезда в полку началось что-то непонятное: стали сокращать парки машин, выбраковывать танки и другую технику. Из 40 транспортных машин в роте оставили 12. Остальные отремонтировали, заправили и вывели на хоздвор. В один из дней дивизию посетил маршал К. И. Рокоссовский, о встрече с которым я расскажу дальше, в связи с еще одной очень интересной встречей.
В декабре все наконец прояснилось: дивизию сильно сокращали, приводя к нормальным штатам мирного времени. Сформировали команды по 50 человек. В нашу командиром назначили старшину Алексея Бабкина. В один из дней, числа 17–18 декабря, на 100 автомашинах, всего около 1000 человек, мы отправились в Бреслау, нынешний Вроцлав, где сдали машины 77-му автомобильному полку и стали ждать своей очереди отъезда на Родину.
Эти дни ожидания были не праздными: когда подавали платформы, мы грузили автомобили для отправки в Союз, а иногда нас посылали загружать вагоны трофейным барахлом отъезжающих генералов. Однажды переносили тяжеленные добротно сколоченные ящики через две железнодорожные колеи в вагон под командованием генеральской жены, которая, не стесняясь присутствия молоденькой дочки, отдавала команды, сопровождавшиеся отборным матом. Алексей Бабкин шепнул, чтобы бросили ящик углом на рельсы, оттуда вывалилось и вдребезги разбилось красивое старинное пианино. Раздался крик генеральши, сравнимый с воем пикирующего бомбардировщика. Появился генерал, все понял и велел разбить еще один ящик, а бившуюся в истерическом припадке генеральшу, протяжно повторяющую «саксонский фарфор», увели солдаты, прибывшие с генералом.
Бреслау – город-крепость, оборонялся в окружении почти до самого конца войны. Вокзал и несколько кварталов рядом с ним остались целыми, а весь город представлял собой груды битого кирпича. Через 40 лет, проезжая поездом через Вроцлав в Прагу, я вышел на перрон и, узнав, что стоянка 30 минут, прошел несколько сот метров по бывшим руинам. Никаких следов от них не осталось, а вокзал был до мелочей прежним.
В самом конце года настал наш черед, и нам подали длиннющий эшелон, состоящий из хорошо оборудованных вагонов, с новыми нарами, буржуйками, запасом дров и угля. Мы не знали в какой конец нашей огромной страны нас повезут, но были уверены, что ближе к дому, если даже и немножко мимо.
Путь на родину
Эшелон отправился во второй половине дня со станции Бреслау-Товарная под ликующие крики его пассажиров, звуки оптимистических мелодий аккордеонов, баянов и гармошек и просто задушевное пение лирических военных песен. Старшина Бабкин, с которым мы оказались в одном вагоне, положив голову на аккордеон, подаренный ему командиром еще в 75-й бригаде, тянул, многократно повторяя с изнывающей тоской одно и то же слово: «Д-а-в-н-о, д-а-в-н-о…», а потом вдруг продолжил красивым баритоном:
Давно ты не видел подружку,
Дорогу к знакомым местам,
Налей же в железную кружку
Свои боевые сто грамм…
Эту песню называли «Сержантский вальс». Бабкин любил и всегда пел ее в концертах солдатской самодеятельности в «красном уголке», когда случалась возможность. Личностью он был типично старшинской: среднего роста, крепкий, красиво сложенный, всегда аккуратный, чистый, энергичный в движениях. Форма на нем сидела настолько привлекательно, что невольно хотелось быть на него похожим. Вне строя и на отдыхе его все называли по имени, но когда он подавал команды, это желание исчезало, заменялось другим: как можно лучше исполнить то, что он требовал. Получить от него замечание считалось позором и почти все, если такое случалось, приносили ему уже вне строя свои извинения. Через месяц он станет старшиной роты управления дивизии, а в апреле 1950 года уедет домой на Алтай.
Когда первые ликования прошли, стали гадать, куда же нас везут. Начальник эшелона, незнакомый капитан говорил, что не знает. Может так и было, но знать очень хотелось. Вспоминали карту Польши, по компасу проверяли движение поезда, он шел строго на восток. Все вместе решили, что если ночью свернет на северо-восток, значит – на Варшаву, далее Минск и Московский железнодорожный узел – полная неизвестность.
Рано утром остановились в Радоме на втором пути. На первом стоял товарный эшелон из больших пульмановских вагонов, на которых 2-метровыми белыми буквами читалась надпись во весь состав: «Трудящимся Польши от трудящихся Советского Союза».
Солдаты – народ любознательный и в вагоны заглянули: эшелон был загружен мукой. Были, конечно, объяснения с польской и нашей комендатурой, но кражи не обнаружили и успокоились.
Дальше эшелон тянулся медленно, как будто решая, куда же нас забросить. Ночью проехали Люблин и утром, постояв немного в Хельме, двинулись к границе. Стало понятно, что наше направление – южное. На какой-то станции нас закатили на запасной путь, отцепили паровоз и оставили. Тут мы заметили впереди мост, украшенный гирляндами искусственных цветов и большую надпись над мостовой аркой: «Родина приветствует победителей!». От избытка чувств все онемели и побежали к мосту, но польские пограничники вежливо, с улыбкой попросили вернуться к вагонам. В каком-то переулке нашли продуктовый магазин и, у кого еще были злоты, решили их истратить.
Магазин небольшой, но по понятиям того времени там было все, что нам надо. Купили хлеб, колбасу, сгущенное молоко. Продукты, которые нам выдали на дорогу сухим пайком, сухари, тушенка и сахар, уже не устраивали.
Во второй половине дня паровоз зацепил наш эшелон и тронулся к границе. Двери вагонов были распахнуты настежь, все кричали ура, а потом запели «Широка страна моя родная». Политработников с нами не было, никто не заставлял нас петь, не призывал к ликованию, наши чувства были естественны и искренни. Только пограничники, стоящие у моста, глядя на нас, никак не реагировали на нашу радость, а сурово разглядывали и провожали глазами каждый вагон.
Первая станция за мостом – Ягодин. Эшелон остановился, мы немного успокоились и рассматривали окрестность, людей на станции, железнодорожников, постукивающих молоточками по колесам, стараясь вновь увидеть Родину, где не были больше двух лет. Неожиданно раздался шум многоголосой детской толпы, и каждый вагон буквально атаковали дети в возрасте от 7 до 12 лет:
– Дяди, дайте сухарика или чего-нибудь покушать!
Дети были грязные, в рваной одежде с самодельными сумками через плечо, чумазые и очень истощенные.
– Откуда вас столько, где вы живете?
– Мы из детского дома, нас сюда из Курской и Орловской областей привезли, там у нас голод. А здесь нам дяденьки военные чего-нибудь дают…
Наступило шоковое состояние, ведь мы отъехала менее двух километров от магазина, где покупали хлеб и колбасу, видели нормальных людей, в том числе детей. И вдруг такой контраст. Все, что было нами получено и куплено в Польше, за исключением необходимого минимума, стало заполнять сумки голодных детей. Они трогательно, совсем не по-детски разламывали хлеб и делились с теми, кто еще не успел получить свою долю. За спинами детей стояла девочка лет десяти, очевидно, стеснялась просить и ждала, когда очередь дойдет до нее. Один из наших солдат, Сережа Моисеев, москвич и очень добрый парень, подозвал ее, и мы увидели, как по ее рваному ватнику ползают вши. Вмиг согрели ведро воды, отгородили плащ-палатками уголок, раздели ее, помыли и одели во все чистое, у кого что нашлось. Получилось даже прилично: маленькие кожаные сапожки, солдатские шаровары, вязаный свитер, ватный бушлат с подкоченными рукавами, шапка и вещевой мешок, почти доверху загруженный продуктами. Сережа записал ее фамилию, имя и адрес детского дома, чтобы сообщить своей маме, попросить ее забрать девочку в Москву и удочерить. Его семья была достаточно обеспечена. Мама, как говорил Сергей, работала сестрой-хозяйкой на даче А. Н. Косыгина, который был в то время министром финансов.
Я не знаю, чем закончился этот эпизод, ибо попали мы с Сергеем в разные части, но я его еще один раз встретил. Мы были на учениях по преодолению водной преграды, ждали переправы, а мимо нас прошла колонна больших амфибий, за рулем одной сидел Сергей в каске. Мы узнали друг друга, крикнули оба, махнули друг другу руками. И все.
А тогда в Ягодине, начало смеркаться, детям надо было еще добираться до своего детского дома километров 5 по лесу, мы, отдав все, что могли, проводили их и молча сидели в вагонах, потрясенные встречей с Родиной и увиденным.
В один миг мне вспомнились все письма из дома с заверениями, что «у нас все хорошо, ни о чем не беспокойся» и истинная их цена, явно выраженное преднамеренное умалчивание правды в ответах офицеров, возвратившихся из отпусков: «все хорошо». И чувство опустошения от того, что тебя бессовестно обманывали, предавали.
Долго размышлять не пришлось, опять раздался детский крик, и почти все они вновь оказались у вагонов:
– У нас местные отбирают все, что нам дают дяденьки военные… Им свиней кормить нечем…
Молча выпрыгнули из вагонов и бросились к станции. Прямо передо мною под штабелем бревен сидели два парня и пересыпали содержимое в корзину из вещмешка той самой девочки, сухари падали на землю, а они смеялись…
Паровоз чуть ли не захлебнулся в длинном гудке, и состав медленно тронулся. Все бросились к вагонам, впрыгивая на ходу. Уже темнело. Эшелон отошел от станции 2–3 километра и остановился. Послышалась команда выйти из вагонов. Вышли, построились. С двух сторон нас осветили фарами два «студебеккера», в центре появился майор в зеленой фуражке пограничника в сопровождении отделения вооруженных солдат:
– Я комендант пограничного участка майор… (фамилию я не запомнил). Каждый день через нашу станцию проходит несколько эшелонов, но еще не было случая избиения местного населения. Что вы себе позволяете?
– На вашем участке у голодных детей-сирот погибших воинов отнимают милостыню, которую они просят, чтобы не умереть от голода, – раздался чей-то зычный голос с одного из флангов нашего, почти тысячного строя.
Майор нервно закричал:
– Это не ваше дело, здесь я начальник!
И тысяча глоток дружно заорала на всю округу:
– Позор коменданту пограничного участка!
– Бандиты, ваше место на Соловках и Колыме!
– По вагонам! – крикнул наш капитан, и мы дружно бросились на свои места. Эшелон отправился без промедления.
Паровоз набирал скорость, вагоны болтались из стороны в сторону, и порой казалось, что он и впрямь, выполняя команду пограничного коменданта, спешит доставить нас куда-нибудь подальше. Мы до полуночи спорили, кричали, митинговали. В вагоне было темно, светились только щели в дверце буржуйки и мы со всем откровением обменивались впечатлениями от увиденного. Потом, когда устали, замолчали. Бабкин велел мне дежурить до утра. Холодало, и чем дальше мы уезжали от границы, тем интенсивнее надо было топить. В вагоне тишина, но чувствуется, что многие не спят.
Перед утром, но было еще совсем темно, послышались паровозные гудки со всех сторон, я понял, что проходим большую станцию, приоткрыл дверь и увидел сгоревшее здание киевского вокзала: черные стены с белыми строчками свежего снега на карнизах.
Около полудня, наконец, остановились, спросили, оказалась Полтава. До Днепропетровска 200 километров. Если бы мама знала, что я буду так близко проезжать – непременно приехала бы с Женей. Уголь кончился, в вагоне холодно, вокруг много снега и хороший мороз. От такой погоды мы уже совсем отвыкли.
Маленький тепловоз подтянул к эшелону вагон с углем. Команда – пополнять запасы угля. Стали набирать и сразу же увидели под тонким слоем угля человеческую ногу. Откопали труп в нижнем белье, на котором отчетливо виден штамп воинской части. Солдат. На груди несколько ножевых ранений…
– Вот и вернулся солдат на Родину, – мрачно заметил кто-то из наших, и уголь из этого вагона брать не стали.
Мы стояли у своего вагона, человек 6–7, обсуждали случившееся, настроение мрачное, подавленное. Подошла маленькая, очень худая женщина и обратилась прямо к Бабкину, очевидно, рассчитывая на его решительность, которую он излучал:
– Старшина, у меня продовольственный аттестат офицерский. Мне его оставили друзья погибшего мужа, проезжавшие через Полтаву. Дома двое умирающих от голода детей. Помогите, если можете, получить по нему немного продуктов.
Она сняла перчатку, мы увидели ее опухшие руки, которыми она протягивала Бабкину сложенную вчетверо бумагу. Аттестат был на 15 суток, и срок его истекал через день. Бабкин взял аттестат, кивнул мне и еще одному, ей велел ждать у вагона, а мы отправились на продпункт, расположенный метрах в 300-х от станции в большом сборном бараке, обнесенном колючей проволокой и двумя часовыми у входа.
За большим прилавком в бараке стоял огромного роста красномордый старшина в белом фартуке и белых нарукавниках. Он взял из рук Бабкина аттестат, глянул на него и решительно заявил:
– В гробу я этот аттестат видел, мне его уже четвертый раз суют. Я сказал, что без офицерского удостоверения он недействителен. С ним бегает какая-то шлендра по станции, провокаторша. Теперь вот тебя нашла, дурака.
Работник продовольственно-фуражного снабжения, как в армии называлась эта служба, не предполагал с кем он имеет дело, швыряя аттестат в лицо нашему Бабкину, который в одно мгновение, перехватив за рукоятку один из больших ножей, лежавших на прилавке и направив его острый конец ему в живот, тихо и спокойно объяснил:
– Шлендра, как ты говоришь, офицерская вдова с двумя умирающими от голода детьми. Аттестат – друзей ее погибшего мужа. Больше ничем они помочь не могли. Ты все понял?
Красный цвет лица старшины сменился на белый, и он примирительно сказал:
– Ладно, ребята. Я все понял, но надо было с этого начинать.
Он действительно все понял и в два бумажных мешка положил продуктов значительно больше, чем было положено по аттестату. Когда мы подошли к вагону, женщина, увидев нас с мешками, бросилась к Бабкину, начала его обнимать, плакала, потом упала, забилась в истерике и стала хватать и целовать его сапоги. Подошел начальник эшелона, узнал в чем дело, велел проводить ее домой, пообещав задержать отправку, если ее объявят раньше. Она жила в двух кварталах от станции и мы, подхватив ее под руки, буквально потащили к дому. В маленьком домике в железных кроватках под лоскутными одеялами лежали дети, издавая нечленораздельные звуки, похожие на кошачье попискивание.
Опытный Бабкин велел закрыть в доме ставни на прогоны, наносить запас воды из колонки рядом, а также из сарая уголь и дрова, которые ей привезли, как она сказала, из военкомата. Велев ей никому не открывать, пока не поднимет детей, объяснив почему, мы бегом бросились на станцию. Эшелон стоял на прежнем месте, и все было спокойно, но совсем скоро поехали.








