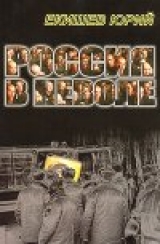
Текст книги "Россия в неволе"
Автор книги: Юрий Екишев
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 29 страниц)
– Не слушай, Леха, сфинктор – это не передняя, а задняя часть, и даже не задняя часть, а такая зажимуха…
Хмурый смеётся, Леха краснеет, Безик шепчет ему на ухо: – Давай врежь ему, давай! Давай вместе его вгребём, и выкинем из хаты… Зажимуху ему устроим… – И шутя берёт Лёху за руку и бьет несильно Хмурого – начинается обычная шуточная борьба в хате, в которой выходит молодая сила.
…Но этих хоть можно попытаться вылечить. На их лицах нет ещё печати несмываемой измены. Такой, как на портретиках в кабинетах, соседствующих с лубочно-неправдоподобным софринским ширпотребом – совмещенное глупой силой системы несочетаемое: честь офицера и так запачканный, что не отстираешь, мышино-голубой мундир, рожденный революцией – то есть началом уничтожения величайшей державы, методичного, систематического, жесточайшего. Честь, вера и уничтожение личности, страны – в одном флаконе? Да помилуйте… Не это ли зовется шизофренией?
Рождественская ночь. За долгие выходные, начавшиеся с новостильного Нового года, все подметено, все подъедено. Осталось несколько шоколадок в заначках на баулах, глубоко заткнутых под шконками. Полуночный чай-кофе – домино с кусочками "Бабаевского" (большинство предпочитает молочный, который умяли в первую очередь). Идет трансляция по ТВ рождественской службы из Храма Христа Спасителя. Вася "Кепа" из дорожников – все подрывается переключить на очередной негритянский детектив, сплошь состоящий из юмора на уровне мозжечка – ужимок, пацанских повадок, женского матриархата – безика, подспудно таящего в себе времена женского правления в африканских племенах, – но получает по бритой голове:
– Вася у тебя не только волос, но вообще ничего и в голове нет. А ну верни на место. Пусть идёт служба. Это ведь красиво, – Геныч, не выпуская из рук доминошек, осаживает Ваську. Протодиакон возглашает прокимен перед Апостолом, усиленный микрофонами, телекомментатор выдает очередную порцию сентенций, что означает это очередное действие (в основном по популярным источникам, пытающимся объяснить необъяснимое и выразить невыразимое). Телевизионная фигурка Фрадкова со свечкой в руке кланяется, даже крестится, как это ни удивительно… Мелькают лица жён других "персон грата", первых шахматных фигурок российской политики – в платочках, с рембрандтовской подсветкой снизу. В хате, между выкладыванием костяшек, свой комментарий:
– О, этого клопа я знаю. Когда его назначили, я тоже на "централ" заехал. А что это он со свечкой? – сравнил кто-то коллизии своей судьбы с линией жизни небожителей, спустившихся ради традиции раз в год к такому способу демонстрации своего единства с вконец разорённым и раздраконенным народом-тружеником, который должен был ощутить своё телевизионное единство с жителями другой планеты, мудрыми управленцами с неведомыми планами относительно будущего русского народа, дети которого стали вдруг сиротами и беспризорниками (их уже больше, чем после Великой Отечественной). Да и сам он, народ, от такого разумного управления успешно развивается в нужную правителям сторону – уменьшается на 1,5 миллиона в год. Под благостные заупокойные просьбы смириться с такой долей и покаяться перед тем, что ничего изменить нельзя, перед безысходностью нищенского будущего и тьмой безвестности, в которой уготовано сгинуть русскому народу нынешними умельцами-управдельцами, которых узнают по блеску глаз, по походке, по чему-то неуловимо знакомому, как узнают судью или следователя после отсидки, случайно вновь встреченного уже по гражданке, в каком-то другом обличье:
– … Меня тогда нагнали[7]7
нагнать – освободить подчистую.
[Закрыть], чудом сорвался. Дело-то было громкое, по ТВ про нас говорили, суд показывали – обычно в таких случаях крепят по полной, а тут – раз, и сорвались. Мы ждали, когда за нашу делюгу местные будут рассказывать, жуть гнать… У нас в хате, как «криминал» местный – так все как очаровашки, собирались – о, это мой дом! о, это мой подъезд!.. Однажды даже мою показали – говорила про капризы погоды. Ничего так, грамотно, в белой шубке была… А этого джуса я помню – этого тогда по НТВ главный по еврейской теме определял – обосновывал, помню, что это нормально, что у нас и на этом стульчике тоже будет еврей…
– Да не на стульчике, а на посту…
– Ну на посту, какая хрен разница – как его ни назови… В общем, нас не показали: нагнали же, а это неинтересно. А этого джуса я запомнил – со всех сторон квадратный…
Безик, любитель невзначай по-дружески, свернуть кровь Хмурому, как бы случаем, краем задел его: – Хмурый, что ты там про шубку белую? А сам-то тоже говорил что-то, краем уха я слышал, что у нас бабушка в Одессе еврейская…
– Теперь ясно, кто у нас ушкует! А про бабушку – это надо доказа-а-ать!– полу-шутя, полу-серьезно взвился Хмурый, часами пролистывавший книжки в поисках стихов и крылатых выражений про любовь. – Вот ты сейчас расскажешь мне, почём сахар в Одессе!.. Я-то уж о евреях знаю больше твоего, пока ты последний мандарин в хате дожираешь спокойно, и не делишься, конь чисовский…
Безя тут же отломил половинку мандарина, которую и так собирался отдать Хмурому, а получилось – по его хмуровической воле. Хмурый, закинув в кормяк разом полмандарина, спокойно продолжил:
– Ты-то Библию читал? Понял что-нибудь? А ну-ка скажи – сколько там книг канонических, неканонических? Не скажешь – шестьсот шестьдесят шесть отжиманий!..
– Да ну тебя! Ты-то хоть читал, да ничего не понял!
– Я не понял! Да я, если хочешь – могу с Люцифером договориться! Какой у нас срок? – Хмурый из-за спины играющих протянул руку и вытянул первую попавшую доминошку: – Вот видишь, шесть и пять – шесть с половиной тебе, Безя! А хочешь, я тебе устрою – тебя даже нагнать могут. Хочешь? И ничего не надо – только будешь должен, после смерти кое-что будешь должен!..
– Хмурый, идёшь ты пляшешь! Не парь мозга, – на эту тему Безику шутить уже расхотелось.
– Да я же всерьез! Что, не веришь? Вот все вы – верю, верю, а чуть что ни во что не верите, ни в Бога, ни в слугу Его, ставшего врагом…
– Даже не всерьез, лучше об этом не говори, – отозвался за Безика Геныч, относившийся ко всему спокойно и серьезно, и продолжил, окончательно оторвавшись от доминошек, и порушив игру. – Я раньше со своей всегда по праздникам ездил… Свечку ставил, так хорошо было…
В телике опять что-то произошло. Изображение мелькало, антенна сегодня ловила плохо, да и дорожники постоянно её сбивали, более часа пытаясь словиться с нижней хатой, в которую заехали какие-то странные постояльцы: ни тропинки как следует выставить не могут, ни вовремя ослабить нитку. Казалось, что в шипящем мелькающем черно-белом мареве насосавшиеся клопы машут бестолково головками, держа в руках огоньки. Две недели до этого всей стране, и тем более тем хатам на централе, где затянули телевизоры, которые не выключались ни день, ни ночь – "парили мозга" американо-европейской смесью якобы праздника и шоппинга, а также однообразными картинками городов, расцвеченных одинаково – гирляндами, цветными блестящими обёртками, спутниками праздничного шоп-безумия и новогодней истерии – смесью люциферо-пристойной верочки, в которую теперь вляпались и столично-городские кварталы для обеспеченных, а потому беспечных.
Зато сразу за решкой, за антенной – полоса леса, за которой – опустевшая страна. Хмурый сумрак, проблески маячков летящего в ночи редкого самолета, везущего над мраком погасших огней деревень и поселков очередных менеджеров на большой завод, бывшую гордость России, теперь давно уже находящуюся в чужих хищных лапках. Обезлюдевшая страна и разноцветные огоньки городов, манящих зайти в бар, зазывно подмигивающих окунуться в dj-club, в игорную забегаловку, прикоснуться и быть причастными к элитно-обыденному раскрученному фаст-фуду – и не знать, и не помнить о ней, о стране, которую мы теряем.
Планктонные, еле светящиеся в огромном омертвевшем черном море, которым стала Россия, сияния и переливы городов и освещенных трасс и рекламных щитов, с их безумным, стерильным, гораздо более мертвым миром… Глухое посверкивание синего телевизионного пламени, отдельными сполохами пробивающееся из окон угасающей деревни – пламя, в котором в чаду смеха горит и плавится русское прошлое, в телевизионных горелках, в которых, как в печах крематориев, сгорает дотла будущее многих малышей и сынов, неопытной поросли, потянувшейся на манящие, с виду вполне безобидные огоньки.
История нападения, попытки разрушения величайшей державы, может быть описана запросто – в терминах света и тьмы, боли, слез, и окамененного нечувствия: тьма и мрак ксеноново-безжизненной обманки пытаются затмить и загасить, или подменить свет русской лампадки. Удалось ли? Или мы выстояли? Вроде, держимся… Чудом…
Хмурый, тоже как и Вася, нервно ждавший, когда же народ переключится на какой-нибудь концерт, и так и не дождавшись этого, нервно покурил, залез на свою шконку, завернулся в чисовское одеяло, накинул ещё сверху Лёшкин пуховик, и проворчав, – Да мне все по… – отвернулся, заполз в свою норку с головой, и замолчал.
– Бабла у них по бане, – невольно прокомментировал Безик, когда фигурки в телевизоре важно, по-чичиковски, стали друг с другом раскланиваться.
– Давайте "48 часов" врубим. Какого фига, все равно ничего не понятно, – предложил Вася. Гена вспылил: он не любил щелкать по каналам и менять планы. Сегодня у него по плану был праздник: – При чём тут бабло, Безя? Какие "48 часов", Вася? Ты, Вась, недоделанный какой-то, честное слово. Вообще "48 часов" в любой другой день можно посмотреть, тем более завтра будут повторять…
– Завтра днем я как раз спать буду после ночной движухи, – обиделся Васька, тоже нервничавший оттого, что его планы, отличавшиеся от Генкиных, тоже не сбываются. – А я полностью согласен с Безиком: денег там гораздо больше, чем веры.
– Деньги отдельно, вера отдельно. Вы хоть головой-то своей думайте, когда говорите, – запутался Генка, обращаясь к Безику и Ваське, одноголовому существу из двух (или более?) человек. Мишаня сразу постарался его успокоить. – Я со своей тоже иногда хожу. Но все же что-то там не так. Ну не могу я платить, рука не поднимается как-то, – Мишаня высказался в основном, чтоб поддержать Геныча. Ему на самом деле всё, почти всё было безразлично – телевизор, какая-то трансляция, или же "48 часов" – он всё обдумывал к суду – кубатурил, гонял по трассе – искал противоречия в показаниях, одновременно проклинал тот день и час, когда дядька его жены, вовсе и не близкий родственник, а всё же родня – втравил его по-родственному в глупую историю, обернувшуюся двумя статьями – тяжкими, особо тяжкими. Какой тут праздник – только на несколько дней отсрочка, и одновременно – пытка.
Молдаван, все время молчавший, говоривший только по обыденным событиям в хате: отшмонали резку, нечем и хлеб резать; забыли набрать воды на ночь; забыли убрать после еды за собой поляну – кто был последний? – неожиданно тоже забубнил: – Мене бабушка всегда говорила про веру, книги мне читала, рассказывала мне про Бога. Некоторые бабки у нас дома держат чертей, не выпускают, кормят их. Я монастырь ездиль, видель ножка Богородицы на камне, где она стояль…
Вася взял у кого-то Евангелие на русском и очень медленно, по полстраницы в день, пытался читать. Волчара, проснувшийся от всей этой движухи рядом со своим шконарем, почесался, послушал, повернулся на бок, и высунулся лицом, из-под шторки-полотенца, высказался по всей рождественской движухе-положухе:
– Молдаван, речь не о том. Я их изнутри видел. В Москве был, кто-то крестик потерял на улице, я решил зайти – отдать. Вот как раз туда. А там, прикинь! – в храме! – на первом этаже: автосервис, мойка… Так, думаю, не понял! Иду дальше – смотрю, всё морды попадаются, от 100 кг. Кому крестик отдать? Старуха какая-то злая попалась, даже внутрь не пустила – вот так же в праздник, оказывается, вход только по приглашениям. Я очумел. Я не просто очумел – я чуть не охренел на месте. Чуть не выхлестнул её прямо там, во как! Чуть не выругался в святом месте – смотрю, идёт один, опоздавший. Сую ему крестик, святому отцу. А он так равнодушенько, в карман сунул, кивнул мне и побежал дальше. Я думаю – ни хрена, от меня не уйдёшь. Я его выцепил. И знаешь что потом – я даже дома у него был. Случайно. Думаю – встретимся с тобой – мир квадратный, за углом обязательно встретимся… И что ты думаешь?.. – Волчаре рассказывать было неудобно, и тем не менее, он лежал, вытянув шею, выгнувшись, чтоб со шконаря, из-под висевшего на канатике, большого полотенца с полуобнаженной девицей, выговориться на важную тему, о которой редко кто из тех, у кого тяжкие статьи, не думает – о времени и вере, о Боге, Его церкви и её служителях, мнимых и настоящих. – … Мы с одним пацаном решили узнать, что ему дальше делать. В него стреляли несколько раз. И попали – десять раз. Десять пуль, а он ещё живой, коптит, кубатурит. Прикинь!.. Ему нужно было узнать про одного старца, который про будущее может сказать. Подъехали мы, это уже в другой день, на "Лексусе", и как раз этот самый выбегает. Мой друган – к нему, а тот смотрит – машинка не кислая, кастрюля что надо, и к себе его приглашает – поехали, говорит, ко мне домой, там и поговорим. Садится, а я там уже. Про крестик не стал ему напоминать. Квартира у него – шести или восьмикомнатная, я так и не сосчитал. Одна комната – четыре наших хаты!.. Мы в дверь входим – а столик с вином, с сыром, у него в том конце. Еле видно. Вот что я вам скажу. Это не просто обман. Это самая страшная дичь! Дальше рассказывать? – Волчара все же свернул себе шею, и скрылся за занавеской.
Геныч обрадовался. – Ну и не рассказывай, зачем. Хотя я в шоке честно признаюсь, – Геныч с разрушенными планами и ещё больше пострадавшими понятиями о церкви и святости, расстраивался оттого, что всё выходило из-под контроля: надо следить за набранными очками, за тем, чтоб случайно не вышла "рыба", и чтоб воспоминания о "своей", о размеренной жизни, о комфорте в церкви – были в порядке, были спокойными и в меру ровными, веющими теплом устоявшегося быта и маленького скромного своего мирка. Он откровенно обрадовался, что Хмурого мы в эту ночь потеряли, и теперь совсем не желал, чтоб Волчара своими грубыми бандитскими приемчиками залез и поломал карточный домик воспоминаний, который тут выстраивает каждый – из писем, из фоток, из вещей, переданных с воли, и купленных не в цвет (то ли размер "своя" уже позабыла, то ли похудел на чисовской диете, или попросишь понаряднее, а присылают дорогой, хорошо скроенный, настоящий, не тайваньский "Найк" – но серого цвета, а зачем он тут нужен, такой, цвета чисовской обыденности).
Довольно неприятный для Геныча разговор о том, чем на самом деле занимается толстый, хрюкающий в нос, дядька в золотой одёжке не по чину (вот ему-то как раз по делам – максимум что полагается – чисовские контачки, а не золототканые одежды), про их конторских времён Соввласти погремухи, под которыми они строчили доносы по любому удобному случаю – и друг на друга, и на тех, кто приходил исповедоваться или креститься, про их бизнес на водке, алмазах, табаке, детских стволовых клетках, об их потайном имуществе и невероятном богатстве и скупости, помеченным ещё Игорьком Тальковым (вот был парень, кто убил? – ясно, они…). И не только об этом, и о чем говорить-то вовсе срамно – о скандалах с делами по совращению малолетних, о слезах вдов, отдавших им квартиры, и чемоданах денег, утекающих из каждой области России – по их прихотям, выдаваемым за социальное служение обществу – в Москву, в Москву, в Москву – далее везде, от Швейцарии и Финляндии, до поклонения собранию раввинов Нью-Йорка… О том, чего простые люди не знают, а когда узнают, что пока они воевали – в Афгане, в Чечне, в Приднестровье, в Сербии, защищая – отечество и веру – их же в то же время продавали и загребали вот какие пухлые ручки, не брезгующие ни ручейками подаяний, чьих-то проданных квартир, накопленных общинами, не опасающиеся даже своими пальчиками-сосисочками брать и спокойненько опускать в кассу то, что сделано на фетальной медицине, на "продуктах абортов и выкидышей" – ручках, выхоленных в бесконечных приемах в банях, отдыхах и застольях, и прочей мути – всё это кончается естественным для русского человека справедливым судом и приговором:
– С-сука… Что происходит?! Украл телефон – держи два с полтиной. Канистру "Трои" – трояк, даже по малолетке. Украл несколько мультов – пожалуйста, ты депутат, полная уважуха. Украл веру, святое, церковь – и ты святой! Где справедливость? Тут должны сидеть другие и совсем за другое… – Волчара-таки сдул до основания Генкин, казалось бы, устойчивый мир. – Жечь, палить огнём негасимым! От этой херни только одно лекарство – коктейль Молотова!
– А куда же деваться, куда идти, если все обстоит так? – расстроился Геныч. Печать измены, которую он старался не замечать, лежащая на всех телепузиках – есть, надо признать, никуда не деться. А значит, какие могут быть дела с этими насквозь законтаченными обиженками с насквозь татуированными мертвыми душами.
– Геныч, не плачь! – Волчара говорит, будто видел, что происходит с Генычем сквозь занавески из чисовских простыней. – Настоящую-то церковь разрушить невозможно. Она всегда есть, если она настоящая, то есть Божья. Её только надо найти. Мы тогда с этим пацаном были у одного дедушки на одном острове под Псковом, так он там всё сказал, что почём, хоккей с мячом! Всё ещё будет зашибись! И царь будет и справедливость! И башни порубают всем, кому надо… Веришь, нет?
Геныч, расстроенный проигрышем во всем, сам как Хмурый, тоже пошёл и залёг на боковую, принял обычную для нынешнего зека позу – позу римлянина, занятого неспешным разговором и пиром. Разговор мог продолжаться неспешно, долго, на пол-ночи, но зачем? И так было всё ясно. Сколько ещё можно говорить о вере и России? Пора бы и действовать…
Ваське удалось-таки быстренько под шумок нажать заветную кнопку и переключиться на очередной, из бесконечной цепи, негритянский безик об украденных алмазах, или тысячах "бакинских", или миллионах, плюс обязательное переодевание мужчин в женщин, плюс обязательное разрушение и издевательство – обычный салат-оливье нынешнего виртуального пиршества. Но этого никто уже не остановил.
Вера – пожалуй, основное, что здесь проходит испытание на прочность, глубину, искренность, здравость. Множество зон и тюрем в России – и признак слабости правящего пока ещё режима, и признак неприятия русским народом основной веры режима в бесконечную силу денежного вопроса, доведенного акульими аппетитами до денежного безумия. Кто слаб – тот прячет народ в тюрьмы, и "трюмит" там бездельем и унижениями, шмонами и чисовской пайкой-баландой, бессмысленной тратой времени и молодости, и сил, и жизненных соков. Это признаки жертвы, приносимой нынешним режимом своему богу цвета зелёной купюры. Слабаки сами куют себе ритуальный нож, который в них вопьется – вероятность равна ста из ста – вот только когда? Пока что они подносят его хозяину и ждут, когда он сочтёт нужным вонзить его, выдумав причину: за три колоска пшеницы, за мешок полусгнившей картошки, за анекдот, за то, что хочется мне кушать. Но в мире все уравновешено: взявший нож – от него и погибнет…
Не может нежить и измена, гниль – править долго (это успокаивает и вселяет надежду) – русский человек в своей вере в справедливость проходит, вероятно, последнюю проверку – больше никому, даже из самых великих, не выпадало в истории человечества выдержать столько немыслимых издевательств.
Что же будет с нами? – решается сегодня в каждом русском сердце.
Посреди ночи Волчара, после всех дискуссий о том, что и как будет в другой, по-настоящему честной и верной России, кто будет посажен на кол, а кто прощён, сколько звёзд на погонах и сколько килограммов живого мяса священной коровы, уже давно не умещающейся на одном стуле – будет автоматически достаточно для наказания, – полез на решку, за последними остатками колбасы и сала. Там на дне пакета, он нашёл только пару лимонов и маленький огрызок, оставленный кем-то, видимо, для успокоения своей голодной совести. Волчара, в другой ситуации непременно бы доведший разбирательство до логичного наказания какой-нибудь жертвы, самой виноватой на этот день чайки, жертвы растущего молодого организма, ограничился только благодушным замечанием:
– Вот, сука, чайки – они и есть чайки! Всем хрен, а мне два. Дорожники, только они – больше некому… Пока люди спят, они в два ряда харчат продукты. Ладно, продержимся. Хотя я сейчас курочки бы навернул. Но раз нет рождественской курочки, значит, придётся в бизоны переименоваться, в супер-бизоны… – и ворча, стал закутываться в одеяло и простыни. – Библию он читал… А в праздник свистит флюгером, так что с Эдди Мерфи в унисон получается, – Мерфи в очередной раз взвизгивает, и как ни странно, Хмурый в эту секунду всхрапывает. Волчара одновременно с ними чихает – О! Точно, правду сказал. Я всегда говорю только правду!
Под утро, когда большинство ночной движухи разошлось, спавший до того момента единственный ооровец в хате, Санёк "Танкист", вскочил, сбегал на долину, потом в надежде на то, что будут повторять что-то старое, тоже подсел к телевизору, но упёрся взглядом сразу в пышный бюст мужика-бабы, кривлявшегося во всю ивановскую. Санёк (на самом деле уже в годах, за 50, бывший механик), громко выругался и произнёс свой приговор, перекрывая всё:
– Ну что за х…етня – прикусил конфетку-подушечку, глотнул чифиру с некоторым отвращением, ещё раз убедился, что надо верить своим глазам и ушам – в Рождество, посреди страны, выдержавшей страшнейшие войны ХХ столетия, выжившей, несмотря на любые эксперименты, звучали не гордые песни вольных и разумных людей, а дикий рабский хохот, корм для свиней, который выдавался под якобы "народное" гарканье и ужимки какого-то гнойного гидро-пидора: – … Жечь! Убивать! Всех убью-на!.. Всех, кто написал эти законы, кто их защищал, кто ими прикрывался! Вы посмотрите – весь централ – сплошь салаги! Им что, может, стадион построили, сауну, дали в руки штанги, гантели? Дали научиться в технике разобраться? Может им дали заработать? Или им дали получить образование? Всех-то делов: не покупай ты себе футбольный клуб в городе Ахуёндоне, сделай ты доброе дело – построй больничку, другую, дай на спорт. Нет! У них два миллиарда "бакинских", надо три! У кого три – надо шесть! Всех – жечь, от и до! Просто гусеницами давить! От самого первого гондона… – "Танкист" назвал его по фамилии, и снова принялся за чифир, бесконечный, набивший Саньку за десятку строгого такую оскому, что она уже, казалось, не сходит с его исконно русского лица.
– Ты забыл одну вещь! – прокомментировал Волчара из-за занавески.
– Какую такую вещь? – Санёк разошёлся, и начал было перечислять грехи всех последних президентов и олигархов, телеведущих и высоких чинов, идолов от попсы и всяких там РАО-ШМАО…
– Да я не о том… Сначала у…бать!.. – гаркнул Волчара.
– Ну, это само собой, все по порядку, – осклабился старший механик, подготовивший бесконечное число экипажей на учебке в Чите, которые потом горели в своих "72-х" в Афгане, оттого что от удара автоматику заклинивало, которые потом вновь вернулись к надежным "62-м" и в Афгане, и в Чечне, которые потом пересели на новенькие "80-е" (это машина, спору нет!)
– Ещё кое-что забыли, – добавил, не открывая бесцветно-серых очей, Хмурый.
– Да вроде ничего… – Санёк кровожадно перечислял всех, кого, и за что, и как.
– У…бать, зав…флить и об…сать… А потом можно и гусеницами…
– Эт-точно! Пусть подохнут пидорами, как жили!..
– Стоп-стоп… А чай отобрать, а рандоли?.. Все по порядку… Потом уже объявлять их… Хотя… Отбирать не будем – еще законтачится кто…
Рождество в России приблизительно таким образом отпраздновало более миллиона человек на положении зеков. Сколько из них разделяет данные мысли – неизвестно. Думается, немало.







