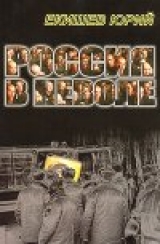
Текст книги "Россия в неволе"
Автор книги: Юрий Екишев
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 29 страниц)
# 11. Последние из неиндейцев.
Красные не так уж и разъедают чёрных, как индейцы, они же албанцы, они же набранные по объявлению, они же упавшие из бомболюка – случайные, не определившиеся по жизни человеки-пассажиры, «обезьяны необоснованные», живущие кем жили – плывущие по течению пузом вверх полудохлыми рыбами. Что по пути случается, то и будет: подвернётся телефон – подтибрят, подвернётся хорошая работа – будут прохладненько работать, могут даже и на выборы сходить от скуки, но чаще проходят мимо всего, что не сулит никакой выгоды. Никогда и никуда, кроме тайного мелкого рывка, они не будут двигаться сами, больше всего ожидая, что будет проплывать крупная акула, к которой можно на время приклеиться, и около которой поесть, поспать вдосталь.
Амбалик изнывает от скуки – в хате полная тишина. Кто мог – забились по шконкам по трое на две и бандерложат, бизонят вовсю. Никакой движухи. Даже воздух, кажется, висит как лондонский смог, хотя этот туман – из дыма дешевых сигарет, испарений с дольняка, бронхитного дыхания, влажных вещей – трудно назвать воздухом, это тюремная смесь, оседающая таким плотным запахом на вещи – на полотенца, простыни, что вряд ли когда выветрится. И тот же горький безжизненный осадок – на душах. Вот она – победа толпы. Это болотце – полная противоположность всей его долгой тюремной жизни: пару дней, или недель – на воле, и уже – не успев очухаться, отжиться – знакомый до боли возглас продольного: "Кипяток брать будем?" – звяк кормяка, жесткий шконарь, ИВС-овская постоянная полутьма… Вроде еще вчера лежала, размякнув во сне, на руке какая-то девочка из-под какого-никакого Оренбурга, или Екатеринбурга… От её раскрытой тёплой подмышки несло лёгким ароматом незнакомой щедрой и доверчивой женщины (обещал жениться, не обещал – не помню…) – и здрасте! – те же и то же: кипяток брать будешь? – то же самое, но не одно и то же, как в том анекдоте…
За шестнадцать амбаликовых лет малолетки, пересылок, лагерей – ему ясно видно, что индейцы не то что бы побеждают, но все больше превосходят количеством своего племени. Вот настоящая опасность для его мира – утонуть в затхлом болотце недоверков, ничтожеств, в болоте безвестности, от постоянного контакта с которым – сам рискуешь стать таким же, по кругозору и действиям… И не он один это осознаёт: чёрное море все меньше, всё страннее, всё более расплывчаты болотистые неверные берега, которые наступают как солончаки на Арал… Все ближе – ничто.
Безик дает о себе знать малявкой: "Юра, здравствуй! С самими наилучшими пожеланиями и теплом! У меня к тебе одна просьба. Пусть она тебе не покажется странной: удели мне хотя бы несколько строк в своей книге. Я совершенно серьезно. Если выйдет – вот тебе адрес (домашний). Туда, когда книга будет готова, можно занести. Там всегда знают, где меня можно найти. И еще маленькая просьба – найдется кофе, или шокольдос, что-нибудь сладкое, по дружбе – тусани. Заранее благодарю, удачи, скорого выхода на "золотую". С искренним уважением, твой Я"
Думаю, просьбу Юры я выполнил в полной мере, как мог. Конечно, здесь можно было сказать больше из того, что в жизни происходило со многими, но все это было бы несколько однообразно, и к тому же мои "хроники Риддика" имеют несколько иную цель. Хотел бы я описать характеры в духе Тараса Бульбы или Ильи Муромца, но здесь их нет пока, хотя некоторые, как пятидесятилетний Саныч, отсидевший из них двадцать семь лет, прошедший всё – от битья, до четырёхчасового обливания холодной водой на соликамском морозе ("Генерала Карбышева хотели из меня сделать, суки!") – многое могли бы поведать того, чего нынешняя Россия себе не представляет. Сам он тоже с горечью замечает: "Сейчас фуфло – как с добрым утром! Раньше была – тюрьма, а сейчас – не пойми что…"
Хотя, кто его знает, может пока до времени скрыто от нас многое – русский дух способен вместить очень многое – и святость, и разбойничью жизнь. Может, со временем из моих соседей и обнаружатся новые Опты, разбойники благоразумные: будут ещё и Ильи, и Тарасы. Чтоб этот русский святой дух и дух воинской доблести проснулся – возможно и он испытывается грядой таких испытаний, и он, казалось бы, гибельно тонет в болоте поклонников золотого тельца. Испытания имеют положительную сторону – "надобно прийти искушениям, чтоб выявились лучшие" (ап.Павел), и еще – "кто бежит искушений – избегает добродетелей" (по-моему св. Исаак Сирин). Нужно, чтоб кто-то переболел болезнями бездействия и пустых мечтаний, кто-то прошёл путём деятельного освобождения от своих страстей, как жизнь в Сечи Запорожской, и – опять прихожу к тому же самому, зову и ищу тех, кто стал для других путём: "и ты хребет свой делал как бы мостовою, и спину свою как бы улицей для проходящих…" (Иеремия?)
Пока я был на ИВС – в хате ЧП. На вечернюю поверку некоторые еле встали, и шатались (от самодельной браги). А на следующий день, по густому духу в хате и сивушному запаху – отмели остатки, литров пять, спрятанных в бачке для свежей воды. Захожу в хату – Амбалика нет. Оказывается, Юра-Х…чик (никто и не знает, как его фамилия-отчество), вызвал его на разговор. Можно сказать, на допрос. С ходу заявил:
– Давай, как нерусский нерусскому! Кто брагу ставил?.. Спрос с тебя, как с понимающего…
Амба смеётся. Его отец – болгарин-катала, мамка русская, южная – и сам он выглядит, как Ален Делон, только чернявый и волосатый, побрутальней и гораздо обаятельней, с признаками классической греческой красоты и неотразимой мужской привлекательности (вещдоки – пачки маляв с побежденными женскими сердцами, отданными ему, только ему, единственному такому во всем мире, – "смотри, если узнаю что…" – через раз, разными почерками).
– Да я что, начальник? Веришь – нет? Ни сном, ни духом… Это всё албанцы необоснованные, махновцы, мутанули что-то втихаря… – честные оливковые глаза Амбы сияют так, что никакого полиграфа, никакого детектора не надо – не врёт, не могут эти глаза врать. Юра-Х…чик в растерянности, и верит, и не верит, ведёт его обратно и вызывает всех подряд:
– Кто? Все равно узнаю кто! Амбалик? Липа? Татарин?
В результате Танк вынужден грузиться, иначе всё будет по новой. И – на выход с вещами… Если бы никто не загрузился – было бы хуже всей хате. Подвернули бы крови по полной: кружька, льожка, подваль! (всё с акцентом Юры-Х…чика).
И, наверное, в отместку за вольности с брагой (больше ничего и не было, подумаешь, не допили несколько литров, значит, не особо-то и хотелось…) – стали закидывать в хату индейцев с этапов – пачками. Если характеризовать их хоть как-то (вернее, пытаться), то лучше булгаковского Шарикова Полиграф Полиграфыча на разных стадиях своего получеловеческого революционного пути – ничего и не приходит в голову.
Заходит такое чудо в перьях: в кирзовых сапогах (или валенках, или в обуви, которую вообще трудно как-то назвать – ботинках в виде булыжника), в одних мятых, подвязанных верёвкой, бичевских штанах – только вчера корова жевала, подвязанных так, что из-под дырявой непонятного цвета рубашки, кажется, что у него там подвязана морковка (ни трусов, ни майки). Под мышкой – чисовский рулет и маленький пакет непонятно с каким скарбом. Длинноватые, спутанные клоки волос, так и не отмытые баней, и в глазах – страх, и больше ничего.
– Ты, кто, чудо?
– Я?
– Ну не я же, арояша. По жизни ровно всё?
– По жизни?
– Ну, я что с тобой в повторялки играю, пасынок дурной?
– Повторялки?
Амбалик от изнеможения хватается за голову: – Всё, пойдем пока. Не болей, – падает на место за общаком напротив Кондора. Они, сами того не зная, разыграли сицилианскую защиту (первые три хода), но затем дело приняло привычный оборот. Шахматы в поселковой осужденке – особый вид развлечения. Практически все играют на одном уровне: сначала битва и охота за фигурками друг друга идет на одном фланге, на одной половине доски. Потом, когда там все уничтожается – переходят к оставленному на время другому флангу. Кондор почти постоянно проигрывает Амбе, но от этого игра для обоих не становится менее интересной.
Кондор – действительно напоминает птицу, огромную, допотопную. Плоскостопой походкой, сложив большие руки (с татухой в виде скорпиона), он ходит по хате, щелкая костяшками пальцев, не замечая индейцев, записав на свой счет очередной проигрыш Амбе (на предыдущей неделе он в доминошки проиграл ему блок сигарет, теперь взялся за шахматы, но на интерес, лишь бы хоть разок, но выиграть). Потом, разжав пальцы, взмахивает птеродактильными крылами – и вместе со своим орлиным башкирским профилем: перед вами чистый кондор, житель чилийских Андов: – Я всё равно выиграю когда-нибудь!
Кондор хотя бы не индеец. Прошёл малолетку, общий, спустился на посёлок, сейчас через нас едет на строгий. Многие в Уфе, на родине – и не знают, что он здесь – взяли нежданчиком и упекли в поселок, а на длительное поселковое житье-бытье с России везут к нам: валить лес. О большинстве, кто оказался здесь надолго – забывают практически все. Попал в тюрьму – и вчерашние закадычные друзья, партнёры по делам, весёлые девчонки – отворачиваются с удивительной быстротой. Попал в тюрьму – ищи жену… Хотя жены у Кондора нет. "Полковнику никто не пишет, полковника никто не ждёт" – слишком обычная здесь история.
Но о Кондоре, оказалось – не забыли.
Щёлкает кормяк: – Строев Олег есть?
– Это кто? – удивляется хата.
– Есть, – неожиданно отзывается Кондор.
– Передача. Распишитесь…
Заходит даже по здешним меркам огромный кабан, килограмм на сорок с лишним (хотя, разрешено только тридцать на весь месяц). Конфеты, чай, кофе, сигареты, постельное, мыльно-рыльное… Расставленные для новой партии шахматы пришлось отложить. Амбалик, принимая бесконечный поток пакетиков из кормяка, уже замутил у Кондора сигарчух, кофейку, ручечек, офигительных конвертиков – и так далее по мелочи. Пока длится эта ситуация с Кондором, который всё недоумевает – а с какой стати ему на этой пересылке такое счастье? – Саныч уже раскручивает вновь прибывшего индейца – Шарикова на "прописку":
– Ну что, значит, после проверки готовь тазик.
– С тёплой водой?
– Ну, как хочешь. Тебе же задницей в ней сидеть…
– Ну, дальше. Тазик приготовлю… – напрягается новичок, пытаясь запомнить все сквозь непрерывную вынужденную абстинентую боль во всем теле, особенно в голове, в шлемке, не чуящей никаких подвохов, не способной еще катить на приколе…
– Ну, и сядешь в него. Штаны спустишь, и перед пикой сядешь, к нам спиной. А мы будем наблюдать, чтоб всё было по-научному.
– Ладно, сяду. Что это покажет? – растерянный новобранец преступного мира всё принимает за чистую монету.
– Как что? Сядешь, начнешь в большой палец дуть – если пузыри не пойдут, значит, ты не врёшь – не дырявый. Значит, не брешешь.
– Да я и так не вру…
– Но это же надо проверить. А это объективный, научный способ. С водой. Все так прописываются. Знаешь об этом? Не слышал, что ли?
– Да что-то слышал…
– А теперь все. Иди. Скидывай с себя всё – и в пакет завязывай, чтоб ни одна шестимостовая дрянь не проникла.
Шариков-индеец скидывает с себя всё, оставаясь голым и беззащитным перед в общем-то не такими уж злыми арестантскими приколами и шутками. Сообща находят ему, что одеть-обуть: Рушан – футболку, Амба – труселя и носки, Вихорь – трико, даже домашние тапочки: процесс превращения Шарикова в человека пошёл…
Кондор с Амбой, раскидав дачку, вновь продолжают свой марафон в шахматы. Но Кондор уже играет не так весело, не так радостно проигрывая и выигрывая фигуры. Амба чувствует, что Кондор будто подранен, подбит на лету – и они бросают это дело.
Опять звякает кормяк: – Строев Олег, на выход…
– Кондор! Опять тебя. Может свиданка?
Его уводят неизвестно куда. Но через десять минут возвращается назад. Он садится на свой шконарь и задумчиво утыкается головой в колени.
– Ну что там, неприятности? – интересуюсь вскользь.
– Да, юрист приезжал.
– Какой юрист? – отрываюсь от мульки, которую писал Мишане – узнать, как у него дела перед этапом и дошли ли груза со сладким: орехами в сахаре, халвой и конфетами.
– Хотят, чтобы квартиру на них оформил – на мать с отчимом…
– У тебя квартира есть?
– Да, в Уфе. Осталась после бати. Его убили, и они сначала без меня дачу продали, машину. А вот теперь квартиру хотят. Он мне дает вот такую пачуху документов (со стопку форматки). Говорю – это что? Юрист говорит: я только доверенности оформляю, а что там – не моё дело. Говорю – ну как же не твоё дело? В двух словах объяснить-то можно… В двух словах, говорит – очень выгодно: ты оформляешь квартиру на продажу, на мать. Она продает, кладёт деньги в банк, и тебе с процентов, каждый месяц – падает на твой лицевой счет, или передачками. У тебя же, говорит, ещё пять своих, как минимум… А мамке тяжело – откуда ей брать пять лет деньги тебе? Это что, говорю, шваркнуть меня хотят? Молчит, в сторону смотрит, в глаза боится. Да ну, на хрен, говорю, ничего не буду подписывать, пока с ними не поговорю. Они здесь ведь где-то, правда? Да, говорит, в гостинице остановились на три дня…
Кондор обостренно замолкает. Как человек, столкнувшийся с неправдой рано, он всё это чувствует кожей, боковой линией. Мамка бросила его с младшей сестрой, когда ему было двенадцать. Отец – то в тюрьме, то неизвестно где. Что такое, горечь, горе – он знает лучше многих. И сейчас – взгляд напряженный, хмурый, и затравленный – от обиды, от исчезнувшей надежды – оказывается, опять то же самое: зло, обман, расчет. Никакой любви. И вся эта передачка – данайский конь… Замануха, дешевая. И втройне горькая потому что от мамки.
– Дача у вас большая была?
– Не маленькая. Двести соток земли. Трёхэтажный коттедж. Машина – "Ниссан" двухтысячного…
– Не кисло.
Все сочувственно слушают, комментируют – главное, ничего не подписывай, ни одной бумажки. Вот тебе и передачка – задобрить хотели, запудрить мозги, взять нежданчиком, купить. Кондор всё это и так чувствует и понимает, а все равно обидно – мать вспомнила, когда, видимо, кончились деньги от продажи всего предыдущего. Это даже не обида, это никому не выразимая смертельная горечь.
Так оно и идет своим чередом – "каждому свое", пока в одну сторону: кто-то сидит, а кто-то, как чайка, расклёвывает всё, что осталось у тебя на воле: имущество, наследство, семью. Кого-то забывают, а о ком-то лучше б не вспоминали.
– Дичь, глушенная веслом! – вскакивает Амба, не довыслушав ситуацию Кондора – обращаясь то ли к новому индейцу, то ли в адрес диких чаек на воле, расклёвывающих последнее без всякого понятия о человеческом. – Когда же я уеду, из этой солнечной Коми? Кого убить?
После вечерней поверки прописать Шарикова не удалось – он лежал, лежал на своей вате (ватном матрасе с подушкой), потом затрясся – и в конце концов всё вылилось в эпилептический припадок. Стебануло его не шуточно. Кто в первый раз видел падучую – ломанулись маяковать продольному:
– Слышь, старшой! У него припадок, ну на хрен! Как мы спать-то будем? Вдруг он тут кони двинет! Сделай что-нибудь!
– А я что сделаю? До утра ничего.
– Звони на крест (в больничку). Пусть лепила, дежурный, да кто угодно – сюда двигают! Да таблеток возьмёт побольше!
В результате Шариков со своей падучей концертный номер с тазиком отменил. Но с паршивой овцы хоть шерсти клок – четыре колеса феназепама скрылись у Амбы в кармане.
Уже за полночь, когда обоих залетевших сегодня шариковых побрили налысо, одели, они всё же устроили "концерт по заявкам" – сидели перед шнифтом (глазком надзирателя) на пятаке с поллитровкой в руке, и пели по очереди (неутомимый "смотрящий за бандерлогами" Антоха-Воркута, предложил, как всегда, другой "микрофон", и наиболее весёлые в хате жеребцы долго ржали) Шариков – первый сидел и пел искусственно приблатнённым горловым манером:
Сижу на нарах, шарики катаю,
Тебя, родная, часто вспоминаю.
Такая шняга – гадом буду я –
Ты кружку браги, выпей за меня…
Повторив на бис этот бессмысленный хит, он уступил место своему близнецу, который без слуха, без голоса завыл песню, единственную которую знал, и которую распевал долгими пьяными подзаборными вечерами в своём забытом всеми лесном поселке – о "солдатском цинковом гробу", которого не видел, и о "верной любви", которой тем более ни разу не встречал в пьяных посиделках.
Так идут дни за днями, лукавые дни – то ли ничего не происходит, то ли постоянное движение и безумие – складываясь в месяцы и годы, постоянно манящие "золотой", как солнце – рыб подо льдом, для которых выпрыгнуть из лунки – из затхлой воды: и жизнь, и смерть. Это наркотик, приглушающий болевые симптомы больного общества: никому не нужные на свободе (кроме торговцев "Троей") аборигены-Шариковы массой едут по посёлкам валить лес, давать кубы и быть безмолвным быдлом для местных князьков-ментов, правящих, как в сталинские времена, с помощью кулака и угрозы; едут по этапам "бродяги", размораживая централы (наш – один из самых сложных по стране: между "черными" и "красными" – очень худой мир: постоянно отбираемые телевизоры, режимные натяжки: полотенца не вешать, под одеялами не спать; сотовые – большая редкость, которую очень трудно и затянуть, и занычить…); под общий восторг заезжающие с районных ИВС молодые девушки (в основном по 105-ой или 111-ой – удар ножом, точный, или не очень – по сожителю), чтобы оставить тут всю свою молодость; приходят в себя молоденькие спортсмены-мажоры, ещё вчера приторговывавшие смертью – планом, герычем – не себе! мы даже не курим (228-я, особо тяжкая, по ней срывов практически нет, а срока – немыслимые), а сегодня моющие полы и долину – впервые в жизни (вместо комфортного душа после тренажерного зала); принимают свою долю охранники, охранявшие чужое добро, чтоб теперь быть здесь на самом низу лестницы – всё катится и медленно, и неотвратимо и легко. Годы жизни могут уложиться в несколько абзацев простого ночного рассказа Амбы.
В хату на вечер и полночи затянули телефон. Чтоб не все знали – кому в хате не надо знать (сколько уже было случаев: заходит телефон, и через несколько минут – врываются в хату – руки в гору, работает ОМОН! – и успеваешь только выдернуть батарейку, и шваркнуть трубу о стену! – вот вам телефон…), Репка передает груз с телефоном незаметно мне в руку, мы с Амбой киваем друг другу – здесь… Сразу невзначай завешивается полотенцем уголок, вешается на верёвку простынь – на всякий случай, чтоб не было видно с пики ни огонька зарядки, ни случайного проблеска экрана. И нужен постоянный шум, фон в хате – когда телефон включается, то раздается и виброзвонок и короткий ринг-тон. Когда человек говорит по телефону – то это чувствуется, по тембру голоса, по монотонности темпа – и продольный, если даже не смотрит в пику, а осторожно подошёл и ушкует – может понять, что в хате – телефон.
Хотят отшуметься – многие. И напряжены, и молчат, ждут очереди отзвониться со своей симки – "малышки", или же с чужой – с перезвоном, с обещанием положить денег на счёт. Амба будет звонить долго: и подружке в Оренбург, и своим (у младшего – горло болит, плачет…) – поэтому звонят те, у кого очень срочно. А он сначала садится в доминошки-шаробежки с Кондором, но игра быстро кончается: на интерес Кондор больше не играет, а с остальными просто не интересно.
Амбе надоедает напряженное молчание:
– Кому молчим? Когда не надо – так вся хата на бодряке! А тут – менты рождаются, пачками! Репа, Кондор, так и будем молчать?
– Сам расскажи что-нибудь… – просит Репа. Ему надо отзвониться мамке, а его очередь дорваться до канители вряд ли дойдёт раньше часу ночи – а вдруг она уже спать ляжет?
– Да что вам рассказать! Дичь, битая веслом! Что вам интересно? У вас же режим – наелись и лежим…
– Почему "Амбалик"? – кидает первую попавшую тему Репа. Амба, делать нечего, соглашается заполнить эфир, пока там кто-то в углу, ругаясь, в очередной раз набирает pin-код: телефон разбит почти в хлам, зарядка прикручена чужая, еле-еле действует, да и клавиши западают, и к тому же связь – только в одном положении…
– Да я в десятом классе на танцы пошёл. Танцевали тогда где-то в клубе соседском. Ну, и подвалил ко мне какой-то дядя из местных. Я ему не понравился. Говорит, выйдем. Ну, думаю, что не выйти. Выхожу, а у него – по разбитой бутылке в каждой руке, короче, он на дерьме, и сам не подарок. Ну я, чтоб не ждать – разок левой и приложился. Он месяц в реанимации пролежал, так и не вышел оттуда. Свидетели, девчонки, даже друзья его говорили на суде, что я не виноват. Куда там – так из школы, из класса и взяли. В первый раз поднимали на СИЗО – а мне всё интересно. Сидим в подвале, а подвал длинный, со шконарями, с печкой, с дровами – как тут ориентироваться? Тут меня один дяхон приметил – говорит, первоход, малолетка? Да, говорю. Держись, указывает, рядом со мной – и ничего не бойся. Мне тут чифиру предложили, а я у дяхона спрашиваю – что такое? Воровской компот, говорит, и смеётся – за меня централ каждое утро в пол-шестого поднимает, будешь? Конечно, ору, буду. Ну, я и хапнул. Сначала ничего не понял – только на дольняк потянуло – до смерти. Все смеются, а я отбомбился, возвращаюсь – все тело пошло вдруг двигать само, то плечи, то ноги – и бросает то в жар, то в холод. Болтаю уже без остановки – попёрло волка по бездорожью… И все меня слушают, и ржут… И дяхон по плечу похлопывает: как поднимут с малолетки, я тебя разыщу. Потом стали поднимать по камерам, а меня на малолетку. Заводят в хату, а я такой весёлый, как айсберг в океане – короче, дупля не отбиваю совсем. Смотрю – стоят шконари, двухъярусные. Все пацаны наверху, на верхних полках – на пальме, а сбоку отдельный одиночный шконарь – и на нем пахан. Я спрашиваю, а что вы там, наверху, пацаны, делаете? Один так осторожно – сидим, пока пахан не скажет – слезать нельзя. А курить, говорю? Тоже, говорит, только по приказу. И тут пахан этот на шконаре пошевелился, и встает – весь на мля буду! на фарси! – волосы назад от ветра, харя наглая, некрасивая… Думаю – что творят канадцы! – тут одного левой, возможно, и мало будет. Сразу, молча, двоечку прорезаю! – он, как очухался, куда всё подевалось – ворам сидим… – в шнифт, к своим ломиться! – а никто не пришел. Я на его место ложусь, пацанам говорю – слазьте – пусть эта обезьяна необоснованная на пальме сидит. Так мы и жили – только к проверке его спускали и на моё место усаживали, чтоб не докапывались – всё в порядке. Через неделю всё равно сломился. Перед проверкой сунул в заявление какой-то конверт, а потом нас вывели в боксик на шмон. Возвращаемся – а вещей этого кери, и самого его – уже нет. Пока другого пахана не было – чего мы только не вытворяли. Малолетка тогда, в 90-м, была специальная усиленная, по-нынешнему как взрослая крытка, теперь такой нет. Сто тридцать малолеток – система камерная…
Птица в клетке, птица в клетке,
А на воле – воронье…
Это плач по малолетке,
Это – прошлое моё!..
Нам ведь всё было – по хрену мороз! – не добавят, не накажут. На продоле – молодые девчонки парами дежурят, у нас кровь играет! Так мы у одной ручку в петлю поймаем, в кормяк затащим, и пока она пищит, бьётся, пока другая там тырсится: ну мальчики, ну что вы делаете! – рука твоя… Хочешь – целуй, хочешь – в штаны кому-нибудь суй!.. Пока мы так баловались каждый день – нам решили другого пахана закинуть. Мы прознали об этой движухе – и дверь заклинили – забили зубные щетки с обоих сторон в виде клиньев – а когда так заклинило, замок не открыть: язычок прижат. Так мы ещё щели хлебом размятым замазали – и воду пустили. Двое суток мы там купались и на пальме сидели – воды было полкамеры. Потом договорились с красными – нас не трогают, и мы сильно не бесимся. А оттуда я уже на тубанар попал – смотрю, а там мой дяхон, который меня тогда, малолетку, пригрел – как раз размораживает зону, и зовут его – Юра Амбалик. Вот от него мне погремуха и перешла. Я у него бегал в "п…здюках": то нужно, это, там за общим последи, там иди сделай – всё на тумаках и ласковом слове. Зону размораживать – до хрена делов – он на "фазенде" сидел, в отдельном бараке, и с утра до ночи, без передыху – вату не катали – в этот барак, в другой, в третий – и всё меня в первую очередь, как правую свою руку. С утра, чуть опоздал к нему – держал по шее! – где был, папка уже волнуется?!.. Почему на фазенде не ночевал, подонок? – совсем как маленького. А я к тому времени после полутора лет малолетки, тренажерки, штанги – вымахал под Шварценегера – а он со мной как с сыном, и бьет, и балует, и волнуется… Бывало, правда, специально где-нибудь в бараке застрянешь, подольше кимарнуть, уединиться от всех, даже от дяхона – иначе в дурку попадешь… Иногда я за больничку ходил – полежать, посмотреть, как пацаны там на турнике что-то крутят, двухлитровую бутылку воды молотят с азартом… Смешные пацанята – как-то поспорили со мной – спорим, Амба, не разобьёшь бутылку! Она там уже неделю висела, все её так, попробовали уже разбить, не смогли. Ладно, говорю, только уже не просто так – на блок сигарет. Хорошо, говорят, Амба, но только с первого удара! Я подхожу тут же, дурное дело нехитрое, ничего даже на кулак не наматывал, ни бинтов, ни фига, с левой – херак! – бутылка вдребезги, а у меня кровь на кулаке. Повели в больничку, стучусь, захожу – а там врачиха чулок поправляет. Халат задрала до пояса, ну и… Красивая, разведенная, дочка у неё… Ну, я испугался, засмущался – и дёру, через всю локалку, бегом оттуда! Я же впервые так женщину увидел!.. Она меня потом на зоне ловила, водила за руку при всех, как ребенка – на уколы, на процедуры, всё мне лучшее – и время, и внимание – а я как тюлень. Хороша была – слов нет. Вся зона к ней подкатывала, а она – только ко мне. Один даг, может из-за неё, может ещё из-за чего, из-за базара нездорового – стал прикапываться: ты бутылку разбил? не верю. Попробуй, говорю, чего вяжешься-то? Дяхону не говорю – это личное, неудобно. Он и не знал. Смотрю – тренируется даг-то, шурует. Потом пацанята мне рассказали – взял бутылку с водой – и так бил, и этак! об колено, об землю! – никак. Совсем озлился. Стал с утра до ночи в тренажёрку бегать. Потом кое-как разбил. А у нас там иногда соревнования устраивали, на руках. Как сейчас – армрестлинг. Ну и к концу олимпиады сигарет скапливалась гора, мешки. Кто победит – забирает всё. Ну и, однажды, меня туда приглашают, так, особо как-то, нехорошо. Думаю – что-то не то, подвох какой-то, подлянка – но всё равно иду. Точно, сидит этот даг – весь красный, ждёт. Меня ждет. Ну, думаю, конец. Или тебе, или мне. Я же ни разу этим рестлингом не баловался. Говорю: а что так – с ручками какими-то, массой тела играть. Давай, одной рукой бороться, а вторую – за затылок – так честнее, точно на руках. Правой я его борол, борол – несколько минут стояли – потом всё же повалил. А левую – он встал против меня, чувствую, сейчас попрёт со всей дури – а мне только этого и надо. Он даванул в педаль до полика! – и я навстречу – раз! – короче левую ему сломал. Он и не понял сначала – бах! – и у него рука напополам. Встаю – говорю: а это всё! – гору сигарчух, шмоток, продуктива – всё на общее отдайте – и выхожу. По шее получил, правда, от Юры Амбалика, для профилактики! – чтоб не лез в разную дурь… Правильно получил… Ну вот так и жил. Потом уже мне как-то сказали, что Юра умер… Остался я один такой – Амбалик…
Полуночные дорожники, Репа с Сявой, потихоньку катают ночные малявки, быстро возвращаясь к общаку, чтоб стараясь ничего не пропустить из рассказа. Неспящая молодёжь тоже тихо слушает – редко бывает, когда Амба рассказывает нечто подобное – телевизора не надо. А какие у них могут быть сейчас герои – Зурабов с Абрамовичем? Стёпа с Аленой? Кого из людей они ещё увидят?
Такая судьба – уже нечто выдающееся по нынешним временам. Большинство же ожидает, если так пойдет, серое чисовское ничто. Ни страна не зарыдает ни о ком, ни о ком и товарищи не заплачут, растерянные по пересылкам и чужим хатам – затоптанные тела и судьбы у подножия грязного золотого тельца – всего лишь навоз для удобрения чьих-то золотых планов и золотой жажды и жатвы. Можно до бесконечности рассказывать одно и то же – одну и ту же историю – украл, съел, исчез – и это будет судьба миллионов, потраченная даром, лишённая всякого смысла.
Наконец, все отшумелись. Кто в свою очередь отзванивался – выскакивал из-за ширмы красный, напряженный, ошалевший – звонки отсюда даются непросто. К тому же канитель (сотовая труба) пришла совсем убитая, с самодельной антенной и зарядкой: то ничего не слышно, то связи нет – надо пристраиваться в определенном положении, и почти не дышать (а как? – когда на том конце мамкин голос, или девушки, или друга, который не понимает, почему ты тихо бубнишь – ты чо сипишь, болеешь?)
В конце концов, все закончилось – отшумелись, завернули телефон в несколько слоёв туалетной бумаги. потом запаяли в несколько слоёв в паечные пакеты, надписали – откуда и куда идет груз. Жирно подчеркнули – аккуратно! груз особой важности – и отправили в обратный путь.
И этот груз, именно он, особой значимости – взял и застрял. Между нашей хатой и следующей "людской". В принципе, дорога была всегда надёжной, а тут и наш дорожник – Репа, и в другой хате – Кролян (привет, вислоухий!) – дёргают, дёргают коня. а груз где-то посредине встрял: ходит туда-сюда на метр, не больше, и всё. И дёрнуть посильней страшно: оборвёшь коня, сам будешь отвечать (а то и восстанавливать – если хозяин канители вдруг заартачится и не войдет в положение).
И что-то надо делать. Самое главное – ночь, ничего не видно. Под окнами нашей хаты – скат крыши больнички (прямо над нами, поперёк, хата тубиков, они ещё дадут нам жару в эту ночь), дальше, между нами и ними, с кем у нас дорога по воздуху – медкабинет, на его уровне – конёк крыши, и дальше – скат в другую сторону. Ничего сложного, но груз где-то встрял, то ли ближе к нам, то ли за горбом крыши, ближе к Кроляну, который уже паникует, и орёт по трубе (особый вид связи; прикладываешь к трубе отопления алюминиевую кружку и кричишь в неё, а потом – так же слушаешь): семь девять, семь девять, что делать! Сейчас конь перетрётся об решку!.. Я в шоке!
Амбалик вскочил туда же к решке, к дороге, и в первую очередь кричит Кроляну по трубе: – Эй, вислоухий, только без паники, сейчас что-нибудь придумаем, хали-гали! Как слышишь?
Пришлось затевать целую спасательную операцию. Сначала, с оглушительным для ночного централа треском, отодрали двухметровый кусок плинтуса. То же заставили сделать соседей:
– Эй, Кролян! Трали-вали! Как слышишь? Плинтус рвите, рвите плинтус! Да по хрену на продольного!.. Рви, иначе уши оборвём!..







