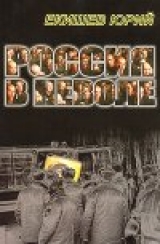
Текст книги "Россия в неволе"
Автор книги: Юрий Екишев
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
Что бы я порекомендовал попробовать, когда вас предали все близкие (не обязательно, конечно, жена и друг), когда в груди, рядом с сердцем – камень, холодный осколок бесконечной царапающей войны: зайдите на далекое болото, затарьте туда своё дряхлое тельце, сопротивляющееся всяким там подъёмам и спускам, преодолениям мелиорационных канав и куч торфа, комариных, мошкариных и оводовых попыток превратить вас в одутловатого узкоплёночного азиата (впрочем, вы и так не очень-то европеец, если согласились пойти на это дело, хотя, кажется, у какого-то очень известного американца запечатлен подобный бездельник – "Сборщик черники", или голубики – фамилия, фамилия, не всплывает – затасканный студенческий альбом – Хеллер, Келлер, нет, не то, – в общем, белый художник, этого достаточно…) – и попробуйте собрать ведра два-три морошки, недозрелой, лучше с чашелистиками – царапающей своими алмазными косточками-стразами вашу тишину и тяжесть в груди. И попробуйте что-либо сделать с ними – с болью, со скопившейся любовью и яростью – разглядеть их, отдать их кому-то, с кем такое уже было когда-то, кто побеждал её, смерть. И возможно вы увидете, как они, предсмертные судороги и холод тления, тают, и исчезают, и переливаются со словами в нечто другое. Не обязательно при этом, вернувшись живым, записать эти слова, чтоб получилось нечто связное (у меня получилась – пьеса, правда, ещё не поставленная). Если получится нечто подобное – я рад. Рад, что есть кто-то, кто ещё жив и способен ощутить это счастье: отходящей на шаг смерти, утихающей боли – и, если повезёт, услышать голос отца, зовущего к себе, чтобы перекусить остатками чая из термоса, бутербродами, и, конечно, сравнить – кто больше собрал? У кого ягоды крупнее и чище?
В-общем, вот такой десерт.
Теперь первое.
Я бы остановился на стерляжьей ухе с домашней, деревенской разумеется, выпечкой.
Первая нами (мной и отцом) пойманная стерлядь мне запомнилась отчетливо – она сломала нашу палку толщиной с мужское запястье, к которому была привязана донка. Мне было лет восемь. Это было в деревне, но на другом от неё берегу реки, глухом, и сумрачно-лесистом. Мы как раз пообедали дома, накопали, под видом помощи бабушке во вскапывании грядки, жирных белёсых червей, осевших на дно стеклянной пол-литровой банки хорошим пучком живых спагеттин, – и вновь побежали обратно к реке, на рыбалку. Лодки у нас не было, да она нам и не была нужна – мы перевязали пучком проволоки два бревна, отец взял вместо весла обломок доски – и мы поплыли на тот берег, расталкивая по пути плывущие общим сплавом враждебные, часто не аккуратно обрубленные, с сучками, или наоборот, наполовину окорённые, сосны (они могли намокнуть, и почти скрывались под водой – поднырнуть с разбега под бону – и оборвать наши донки, или пройтись по ним, прочесать, проутюжить так, что только звенели обрывающиеся поводки с наживкой. Я их буквально ненавидел, эти мерзкие топляки, особенно те, кто всё пообрывав, запутывались в конце концов, и на расстоянии вытянутой нашей донки – хлюпали и поныривали, будто плыли, сделав своё черное дело, вражеские подлодки). Течение было очень быстрое, я с азартом отталкивал вниз, вглубь, подсушенные шершавые стволы, мешавшие нам причалить к боне. Мы ещё не коснулись её, как увидели, что от рывка чего-то мощного, зацепившегося за донку, палка, вокруг которой была ожерельем намотана лишняя леска – сломалась пополам! – и быстро нырнула в стремнину. Только бы не топляк! – мелькнула скользкая, неприятная мысль, и топляком скользнула куда-то под сердце. Мы с папиком выскочили на плитку боны в ажиотаже и, бросив домашние припасы в рюкзаке, поторопились, балансируя на связках-пучках – туда, проверять, не топляк ли это в самом деле, рвёт сейчас крючки. Нет – стерлядь сделала оглушительную свечку! Потом ещё несколько, поменьше (впервые видел такое чудо, как нечто живое билось и рвалось на волю) – а мы с азартом, с дрожью в пальцах и нервными комментариями, её понемногу водили, и то подтягивали, то отпускали сколько она брала, чтоб утомить. Отец в какой-то миг очень ловко, с разгона, выхватил её из воды, выхлестнул с водой прямо на бону, и пока она елозила между брёвен, слишком здоровая для узкой расщелины, отец, всё так же дрожжа от волнения справился с рыбой.
Рыбина еле влезла в наш рюкзак. Отец отправил меня домой, к бабке, вновь переправив на двух брёвнах. А сам остался ночевать. Мне было и грустно, и радостно – хотелось и назад, к отцу (правда и к комарам, от которых не скроешься в простеньком шалаше), и домой, к бабушке, с уловом – похвастаться, а затем мягко, тёплым нагретым топлячком, погрузиться в многослойный свой любимый диванчик, напившись чаю с малиной, наспех собранной в сумерках бабулей, и так и плавающей с листиками в стакане (повод к лёгкому детскому городскому неудовольствию – в городе никто тебе не сыпанёт в твой чай чего-то немытого, с зелёными обрывками, деревянной от старости, как ложка, рукой – и не проведёт ею же по волосам…)
Я ворвался к бабушке во двор, которая как все деревенские люди, рано улеглась – и испуганно выглядывала в окно, в которое я настойчиво колотился: что случилось? Я наверное, сиял, как второе закатное солнце, поэтому бабушка испугалась совсем не сильно – что-то случилось, но хорошее, волшебное, как этот разбрызганный на весь мир свет, падающий почти ниоткуда и на всё, на всю деревню и окрестности, будто из вечности.
Я с загадочным видом развязал рюкзак, и лихо, разом (будто отец из воды), выхватил рыбу на стол, смазанную слизью и крошками со дна вещмешка. Бабушка, как я и хотел, как я и ожидал, будто даже немного испугалась такому огромному чудовищу, и тоже будто с нами вместе, пережила весь мой торжествующий сбивчивый рассказ – как мы плыли! Как она рванула! Как прыгала! – повторяя за мной на свой манер! Вот на! Стерва-то, стерва!...
Она, не зная что с ней делать – помыла, почистила (я по – барски отказался от этой привилегии охотника, сам побаиваясь – проткни желчный пузырь или что-то ещё иное и испортишь рыбу горечью…). Бабушка порезала стерлядь на большие (слишком здоровые на мой взгляд), кругляши с крылышками плавников – целую большую чугунную утятницу, и (холодильника ведь тогда ещё не было) – вынесла так в соседнюю, холодную половину дома, даже не посолив.
Я глотнул чаю, остывшего, с радужной плёнкой (от слишком известковой воды) – с парой карамелек – и пошёл, и утонул в глубоком сне, аж до следующего дня, когда пришёл уже с рыбалки отец, которого я не удосужился вспомнить и встретить – вряд ли он поймал что-то ещё не менее достойное. Он уже разулся, разделся, когда я, потягиваясь, вышел к нему. На столе лежала пара язей, небольшая щука – всё, как я и думал. День был уже в разгаре – жаркий, влажноватый. Отец всё же как ребёнок (как я), поинтересовался у бабули, ожидая восторга (уже сорванного мной, как цветок) – ну как рыбка? а?
"Стерво" всё ещё была там, в летней, без печки, холодной части дома, выходящей всеми своими окнами на солнце, которое палило уже вовсю. Всё повторилось – бабушкин испуг: стерва! стерва! – там, в солнечной яркой комнате – и отец заволновался – не испортили ли мы по своей дурости, старый да малый, такой царский улов… Несмотря на бабулькины причитания, с отвращением и с испугом (я помню, как она осторожно трогала огромную голову с отвисшей вниз трубочкой-губой, отделяя её вчера, как водяное чудище) шептавшей что-то – принёс обратно и попросил, не мешкая, сварить уху.
Я ел эту уху, принюхиваясь к каждому запашку – нет ли того, мерзкого, страшного полумёртвого привкуса? Нет – всё было свежим, чистым, удивительно вкусным – жир, будто смола дерева – всё сохранил.
После этого я уже немало ловил стерлядей, совершенно самостоятельно, обучая этому и своих детей – рассказывая и показывая всё: когда, где и на что лучше ловить (вторая половина июня, каменистый пляж с быстрым течением, минога – лучшая насадка, хотя и червь сгодится, крупный, белёсый, с синей головой, взять которого вряд ли придет какой-то нагловатой мелочи).
Дети мои легко усвоили – как собирать миног, по каким местам лучше закинуть продольники, не знаю – получили ли они свою порцию волшебства, или посчитали это делом техники – не сегодня, так завтра – попадётся вот такая дура, ну, или чуть поменьше…
Уха из стерляди (называемая царской недаром) – самая простая. Главное, не класть ничего лишнего. Соль, лук (половинки средних размеров луковиц), несколько долек чеснока, в меру дробинок черного перца, три-четыре листика лаврушки. Можно добавить за пять минут до готовности горсть нарезанных перьев зеленого лука. И всё. Остальное – только хорошо разделанная рыба. Ну, картошка – это максимум, чтоб не превратить всё из ухи в рыбный суп.
Однажды мой друг, сейчас обитающий где-то в Канаде (утечка русских мозгов), заскочил ко мне на обед (он работал в научном институте). После тарелочек четырёх или пяти этой ухи с неспешной беседой о том, о сём, и некоторой порции выпечки – мы как-то плавно решили, что научные упражнения без него обойдутся (всегда найдутся десять китайцев и пара венгров, которая сделает точно, что и ты) – всё сдвинулось, и поплыло к тому, что без выпивки оставить это дело – грех. Короче, рекомендую коньяк (хотя, конечно это только в России он является рядовой выпивкой, то есть тем, чего можно выпить много, а не просто напитком). Коньяк сам по себе имеющий ценность, и некоторую концентрацию своей философии, это дело вкуса – хотя приемлем и армянский "Двин" – главное не перейти черту, и не стать гурманом и гедонистом, остаться не съеденным своими потребностями.
Выпечка. Бабушка обычно вставала рано, с восходом солнца. И если я спал на полатях, над печкой, то с утра потихоньку, с тихими уютными звуками и постукиваниями посуды, шелестом и шуршанием одежды – с ненавязчивой, похожей на музыку, чередой вечных женских русских забот – выстраивались на брусьях длинные тонкостенные доски с выпечкой – остывать, томиться, натягиваться: плоские картофельные шанежки, небольшими стопками; шанежки из простого теста с деревенской сметаной, где серёдка превращается в солёный творог; пироги лодочкой из белого ароматнейшего пупырчатого теста в кораблике из тонкой корочки ржаной муки; шанежки с начинкой, круглые, колёсиком – с творогом, с картошкой, с кашей разных сортов, хлеба чёрные, белые, колобки, с грибами, солёными и жареными – и так далее.
Это правильная выпечка. Рекомендую к стерляжьей ухе. Всё детство снимал я пробники с них, бабушкиных рукотворных чудных, неповторимо вкусных пирогов, шанежек, хлебов – и с горячих (непредусмотрительно теснившихся рядами у самых полатей, у самого изголовья) и с уже застольных, настоявшихся, натомившихся и натянувшихся под белыми полотенцами по столам и лавкам, в застывшей глазури топлёного масла, нанесённого птичьим крылом будто последним рембрантовским штрихом, последней прописью художника – даже не задумываясь, по какому поводу, к какому памятному или поминальному дню они испечены. Правда, потом, когда я их вкушал, отмахиваясь от комаров на тихом кладбище – я их не ел, потому что у них был другой вкус, непонятный мне, как и сам ритуал. Так, брал, потому что так было положено, не зная – как это связано с безмолвными холмиками и пирамидками, с молчаливыми фотографиями: дед (без руки и ноги, хотя фотография по пояс, но я знал, что он пришёл таким с войны, которая не могла не отразиться на его лице и орлином взгляде), дядя, тётки, мной никогда не виденные…
На порядок ниже, но всё же сравнимо по простоте и чистоте вкуса был хлеб из деревенской пекарни (лучшим, вкуснейшим был тот, который куплен прямо с телеги, ползущей по раскисшей глиняной жиже наверх, к магазину и холодной, наполовину разрушенной церкви) и с маслом из деревенского же маслозавода… Теперь уж ни пекарни, ни этого самого завода – в магазине бруски "Доярушки" (made in New Zeаland, за двадцать тысяч километров). Как нет и деревенских ватаг, забегавших урвать по ломтю хлеба с маслом, посыпанного сахаром – лучшей дворовой пищи.
Вот со следующим блюдом проблемы. Непременное праздничное мясо готовят все. И каждое блюдо из него, хотя и вкусно, но довольно безлико. Слишком велик спектр и выбор. Хотя, церковное правило – "кто мясо не ест и вина не пьёт (из мирян) – тот не церковный человек" – казалось бы страшновато на нынешний светский манер, особенно для вегетарианцев, онорексиков, кефирно-диетиков – но оно, это правило (не для тех, кто страдает булемией), как раз символично: ешь мясо как нечто естественное и для себя, и для временного, земного своего бытия. Кто боится вкушать смертное – и хочет жить вечно вот так, в грехе и блядстве – человек подозрительный. Поэтому мясо – оно и есть мясо, большинство его ест, даже не задумываясь о таких вещах. Необходимый элемент, как смерть необходимая часть жизни.
Это, конечно, не блюдо – но на сегодняшний день мне не приходит в голову ничего кроме походного, военного, лучшего из лучших вариантов, мною попробованного – провяленного на ветру куска просоленной баранины, сушившегося каждую весну (начало весны, когда ещё нет мух) под стрехой крыльца.
Ветерок легко продувал дощатое покосившееся крыльцо, ты вставал на цыпочки и, стараясь не стукнуть, не шумнуть, тянулся к гладкой ольховой жердине, на которую были нанизаны крупные куски, чтоб стянуть один с собой, на рыбалку (попроси – тебе и так дадут, но таким образом – невероятно вкуснее).
Если успевало (я наивно полагал, что никто не видел урона от моих набегов), мясо высыхало до уровня твёрдого тёмного багрово-коричневого кольца с жёлтыми прожилками огустевшего, до вида смолы, жира. При определённом усилии молодых зубов мясо начинало отслаиваться, и во рту, после долгого процесса разминания и разжёвывания – приобретало желанный, притягивающий и неописуемо нежный вкус. Двух-трёх кусков хватало на весь день рыбалки. Больше ничего и не надо было: осторожно закинуть удилище, следить за притопленным поплавком – не всплывает ли, не поплывет ли легко по течению, будто нет ни червяка, ни груза – значит, клюёт лещ – и запустить руку в карман, и не спеша, как можно бесшумней оторвать дольку мяса и запустить в рот. Вкуснее всего на свете. Не пробовал, правда, индейский пимакан, но наверняка нечто подобное – по притягательности напоминающее разве что семечки (для любителей полущить и поплеваться шелухой).
Но это всё же не блюдо. Хотя, на сухом мясе можно, пожалуй, прожить всю жизнь, и оно делалось ради того, чтоб потом из него сварить простенький деревенский суп, а в таком виде – это не пища, а нечто вроде перекуски, столь ныне распространённой – чипсы, фастфуд, гамбургер с томатным соком – только неизмеримо выше.
Что ещё, что ещё? Есть конечно, рыба в молоке, но это на любителя, довольно специфическая вещь. В молоко, как в уху, кладут картофель, рыбу (конечно, не стерлядь, а попроще, можно хариуса). Желательно готовить в печке, запекать в огромной семейной чугунной сковороде, чёрной, наследственно передаваемой чуть не веками – запекать до корочки сверху, которую потом нетерпеливо пробиваешь ложкой, и между картофелинами, как вода в проталинах – рыбно-солёная беловатая с желтым отливом вожделенная жижица (в детстве, увлёкшись, можно было высушить сковородку, оставив взрослым разбираться с тем, что осталось – куски щук и язей, картошек и лука) – неописуемая вкуснотища, невместимая в слова и описания, как деревенское семейное полнокровное счастье.
Я как-то предложил отведать знакомому. Он сначала думал, что я шучу, что это всё на приколе, что такого не бывает и быть не может, потому что нельзя представить некое единство из молока и рыбы. Он сам приехал впервые на службу в церковь. Надо сказать, человек известный, как говорится авторитетный в определённых кругах, не робкий – много испробовал, много ему и досталось, в том числе и десяток пуль, несколькими порциями, одну из которых он сам спокойно выковырял из своей шеи, как случайно застрявшую вишневую косточку – просто поддел пальцем, и сковырнул.
Церковь я строил в память об убитом друге – строил с отцом, можно сказать со всей семьёй. Даже дети, когда мы возились наверху, клали оцинкованную крышу – с чем-то там разбирались внизу, конечно, в силу своих дошкольных лет: разводили костер, кипятили чай… Служат там теперь отцы той самой Российской Православной Церкви, Белой Церкви, о которой я уже упоминал – не торгующей, не покупающей-продающей, не зараженной ересью жидовствующих, сущностью Пидерсии.
Отцы и пригласили этого нашего знакомого на службу на Троицу. Только, наверно не предупредили, что монастырская служба, особенно Троицкая – одна из самых долгих в году. Всенощная, литургия, и по новой – вечерня с коленопреклоненными молитвами. На этих молитвах, под конец четырнадцатичасовой непрерывной службы, некоторые бабушки уже так и остались лежать, как сраженные воины, а у некоторых не осталось сил встать – только сидели на устланной травой и листвой церковной лужайке и кивали на возгласы кадящего священника: да, да…
Наш знакомый приехал, не зная, что его ожидает, бодро заявив с ходу: "Так, отцы! Я тут подзарядился слегка – в баньку, в футбольчик немного погонял! Короче, всё готово, в форме! – хоть сейчас в бой!..."
Гляжу, к середине всенощной уже немного побледнел, дальше – сложнее: стоит, шатается, держится уже за свечной столик, крепится как может. Потом уже сел на скамью, а на коленопреклоненных молитвах, вернее после каждой – едва отрывался от поклона и сидел прямо на пороге, только удивлённо кивая – ну, отцы! Ну, дают!... А отцы не просто читают, а по случаю особенно рьяные – распевают всё вплоть до Шестопсалмия – на долгий праздничный знаменный распев.
Вот после этой службы мы поехали с ним, и с друзьями, ко мне в гости. Думаю, шок от монастырской службы сказался и на всём остальном, и на вкусе хариуса в молоке.
Рекомендую.
Кроме того, конечно, сам хариус, не приготовленный, просто свежеподсоленный, пару часов пробывший под гнётом – отдельная закуска. С молодой картошкой под укропчиком. Дочь моя, которая бегала тогда под лесами нашей тогда ещё новой церкви, и которой на сегоднящий момент двадцать один, первым делом, отзвонившись что едет домой, интересуется: – Хариус есть?
Выросла на этом. Наша земля, коми – вообще имеет название от зырянского слова ком – хариус. И это одно, конечно, из обыденнейших блюд нынешних деревенских жителей, а так же обитателей многочисленных колоний – поселений. Суть не в этом.
На семьдесят пятом году своём умерла и бабушка. Та, что таскала мне морошки. Отпели, подержали во дворе в простой домовине, украшенной всё теми же белыми полотенцами, какими укрывают выпечку, и понесли хоронить (тогда ещё новой не было) мимо старой церкви – на погост. У церкви просто постояли, и в путь.
Домой, обратно в осиротевшую хату, мы с отцом с кладбища не пошли. Молча махнули в тайгу, на речку. И здесь, на первом же перекате, началось чудо – сверху сыпал, как наши невидимые внутренние слёзы, мелкий беспрерывный дождичек. А снизу, с глубины, из переплетений тучных, как бабушкины так и не выцветшие косы, струй – всплывали и всплывали, и садились на наши крючки, будто повинуясь чьей-то воле, будто ожидая своей очереди, крупные хариусы – как подарок Лизы, бабушки моей, напоминавшей так, чтоб не сильно горевали, что есть место в этой, такой же череде дней – чуду смерти и воскресения.
Вот этой, чудесной рыбы – надо отпробовать хоть разок в жизни, как она горит и тает во чреве неким пряным, немного отдающим чем-то, будто тленной горечью, вкусом бледно-розовых, светящихся изнутри, полупрозрачных кусков, переливающихся бледной радугой, от серого, через розоватую, будто предрассветную серость востока, к коричневатому, земному, западу – что никак не свойственно упакованной в вакуум магазинной форели и красной норвежской сёмге, выращенной только для еды.
Попить можно чаю с травами. В первую очередь чай должен быть заварен на правильной воде. Вот на той речушке в тайге, где мы вытаскивали и вытаскивали брусковатых, с сизым отливом, с неясными цветными бледно-синими и красноватыми пятнами, хариусов – вода, из которой они появлялись – правильная. Проверено поколениями. Отца моего, подростком, дед гонял за водой для чая на эту речку. Отец с сестрами жутко радовались этой возможности отгулять где-нибудь в укромном месте до вечера, покуражиться без наказаний и выволочек за безделье, а потом черпануть в ближайшем колодце ведро воды и принести домой, изображая усталость от многотрудного шестикилометрового похода. И дед с бабушкой, намахавшись на сенокосе, будут медленно попивать чай из ведёрного самовара, пока не выпьют весь. И дед будет приговаривать: ах, вкусно! Вот это вода!
Дело прошлое, но вода с тех перекатов, каменистых, хариусных – действительно, необыкновенная, пьёшь и не можешь напиться – каждый глоток требует следующий, пульсируя как мысль, несущая тебя по жизненным перекатам и струям.
Не менее важно – что заварить. Чай с цветами черники, думаю, будет уместен. Неподалёку от деревни (дедовой, прадедовой, с начала летописей – нашей, родовой) есть монастырская пасека. Монахи, собирая мёд, воск, иногда попутно лечат желающих и нуждающихся в том укусами пчел (думаю, монастырские пчелы – особенно полезны). Получив свою порцию ударов в поясницу (жало так и остаётся там, и какое-то время после гибели пчелы ещё пульсирует, сжимается, выкачивая яд), пока кто-то другой, кто лечится, орёт по-детски, а то и по-медвежьи, подходя за уколами – можно набрать этого черничного цвета, похожего на ландышевые, который потом – осенью, зимой, даже весной – оживляет вкус чая медовым, тонким ароматом.
Можно заварить другой сорт – с земляничными чашелистиками, которые тянут за собой уже другую вселенскую, бесконечную нить, протянутую из вечности в вечность, через краткий миг твоей земной жизни. Зелёной райской ветвью был оживлён в лютые морозы Прокопий Устюжский. О такой же ветви говорили Андрей Юродивый, апостол Павел. Рай не выразим. Но его аромат, возможно, кое-чему близок, конечно, с известной долей приближения – например, и по вкусу земляничного варенья, и по обстоятельствам сбора, более всего напоминающим адамово и евино житьё-бытьё. Дело прошлое, за земляникой мы ходили в основном вдвоём с женой. Много земляники помято, пропущено, не собрано – от того, что зайти в лес, пройти по заветным полянам, обнаружить среди заросшей высокой травой, вперемешку с потемневшими сучьями, вырубки – самую ароматную, притаившуюся, огромную как садовая клубника, ягоду, изредка уже обклёванную лесной птицей, не жадной, не дачной, или полевой мышкой и позвать твою женщину – показать, как нам сегодня повезло – отвлечь её от малюсенького зайчонка, ещё не умеющего толком прыгать, пытающегося спрятаться за редкими былинками на солнечной опушке – всё это похоже ли на редкое счастье? Как тут просто не поваляться в траве, как не порезвиться, не поиграть самим?
Однажды мне приснилось, что я лежу на таком лугу, и чувствую какой-то густой аромат – древний, древнейший, похожий на наши, даже на земляничный, но только более глубокий, ладанно-смолистый – из самой сердцевины рая. И слышу голос прабабушки (она тихонько преставилась в 102 года, как вовремя увядший тихий цветок, белый ландыш) – у меня за спиной. Она говорит со мной, и я ощущаю всё – и запах и ветерок её дыхания в затылок. Я встаю, иду за ней, она идёт по лугу, не оборачиваясь на мои вопросы – это что, рай? Только идёт, и отвечает – да, это рай. Ты в раю, бабуля? Да. Она проходит луг и входит в какой-то деревянный просторный дом. Я встаю у двери, и слышу их с бабушкой голоса – кругом светло, и их голоса такие же. Знаю, что там внутри и кто, но не вхожу. Видимо, ещё рано. Запах этот я запомнил, но не встречал его ни разу полностью. Так, отдельные фрагменты, можно было бы собрать из своей жизни. А чай с земляничными чашелистиками или черничным цветом, на правильной воде – рекомендую настоятельно. Вдобавок, конечно к хорошей компании и сухому красному вину, также несущему космическую связь событий, связывающих времена.
Когда я записывал эту главу пришла весть о гибели моего друга. Трапеза получилась поминальной, хотя первоначально таковой не была. Вкус жизни, вечной жизни, можно приблизительно ощутить вкусив временной, на пороге смерти, которая возможно, многие вещи прочищает, придаёт им настоящую меру.
Он был и остаётся лучшим. Он как раз венчался в той самой церкви, которую я здесь упоминал. Было страшно видеть по тому телевизору, который он с трудом загнал мне сюда в заключение – репортаж о его гибели, как он остался один вечером в своём офисе (а где были остальные?), как зашла случайно соседка-секретарша, как убийца, подобрав ключ от замка, одев маску, пробрался внутрь, как он стрелял в друга, прямо в грудь, в живот, потом – в эту секретаршу, потом – контрольный в голову, и как не хватило патронов на контрольный ей. Я видел друга, лежащего на животе, протянувшего руки. Я сам протягивал руки, чтоб его поднять, но они проходили сквозь эту картинку. Я вставал на пути этих пуль, чтоб они попали в меня, но они прошивали меня насквозь, раня и не причиняя никакого вреда и всё равно, минуя мои нелепые попытки заслонить его, и опять попадали в него.
На пороге смерти, и преодолев его, мы иногда знаем настоящий, подлинный вкус вещей, подлинную цену жизни, только передать их другим – большая проблема, вряд ли разрешимая.
О том, на сколько гнусна, мерзка, извращённа, склонна к садизму и пыткам, насколько бесчувственна и богопротивна, и человекоубийственна Пидерсия – могли бы рассказать нам её жертвы, сотни миллионов русских, павших в последней, всё ещё продолжающейся гражданской войне. Об искалеченных, ослеплённых, исковерканных, осквернённых ересью жидовствующих, основной болезнью Пидерсии – могли бы рассказать души умерших и ещё едва живых, если бы могли говорить они, лишённые языка, слуха, зрения, сознательно пущенные в мясорубку этого красного месива основной прислужницей Пидерсии, скрывающей под рясами "красные" погоны, доносики, запротоколированные исповеди, вырванные у старух дарственные на их квартиры, и деньги, деньги, деньги. Мерзость Пидерсии (и её красной церкви) должна быть уничтожена огнём – тогда только мы почувствуем настоящий вкус России, её жизни, за которую отдано уже много, очень много.







