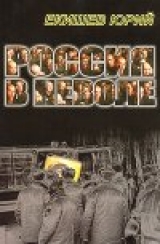
Текст книги "Россия в неволе"
Автор книги: Юрий Екишев
Жанр:
Политика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 29 страниц)
Хорошее время. Жаль его тратить на что иное, кроме того, что ты можешь. Но иного пока не дано – больше года государственная машина, которой по фиг осень и любовь, работала против тебя, рыскала по следам, подслушивала, подглядывала, обыскивала, давила слабых, пыталась поймать на слове, словить за руку, обличить, заманить в ловушку, очернить, купить, раздавить, избавиться, и вот впереди у тебя есть несколько десятков минут, чтобы на это ответить…
Прокуратура с присными свою часть похлебки оправдали (жалуясь в кулуарах и оправдываясь – кушать-то хочется, ведь работа такая… Так меняй работу!). Пришло мое время, мои несколько минут, к которым как ни готовься – не подготовишься. Ночью дорожники забыли задернуть одеяло на решке, использовавшееся вместо портьеры – и с решки на шконари всю ночь тянуло осенней ночной прохладой, самой простудной, опасной, пронизывающей, понемногу, миг за мигом, – глаза, тело, днем еще ощущающие обманное последнее тепло – не готовые к резкому ночному нападению, добирающихся до костей, до сердца, со всех сторон сквознячков (даже матрас с испода мокрый). Состояние неважное, сумбур вместо музыки в голове, усиливается тем, что судья, прокурор – появляются в задании суда из дома, из теплых постелей, плотно позавтракав, или же по рекомендации какой-нибудь певички, наоборот, заточив в одно горло йогурта или дыни, чтоб в обеденный перерыв продолжить – кефир для похудения, смесь авокадо с бананами для омоложения, для вечной земной жизни на зарплату, которая выше чужих судеб.
А мы, весь воронок, кто в суд, кто в психушку, на пятиминутку, кто на экспертизу или ознакомку – кто бы ни был – сначала проходим несколько часов холодного сырого прокуренного и пахнущего чем-то неживым, нежилым, подвала, – воронок, боксик в суде, шмон, другой боксик, практически без вентиляции, пара рандоликов – это весь обед, какой уж тут освежающий, по рекомендации "кремлевской диеты", кусок нежирной телятины… У нас своя диета: война, борьба с обвинениями, практически всегда и везде сегодня сляпанными наскоро, – и скорый суд. Борьба настолько неравна, что одно это придает сразу второе, третье, десятое дыхание – ах так!
– Да, Ваша честь, преступление человека – это его говорящая совесть. Моя совесть чиста. И никакого снисхождения я просить не намерен. Но я согласен – преступник здесь, среди нас, в зале. Только это не я. А кто? Мы сейчас установим. Согласно нынешнего законодательства, а именно 73-ей статьи УПК РФ, гласящей о том, что же подлежит доказыванию и что такое преступление. Что такое преступление? И что необходимо при установлении события, именуемого так? Необходимо установить – время, место, форму вины, мотив, а также иные обстоятельства, всесторонне изысканные и расследованные. Давайте начнем по порядку с тех эпизодов, которые мне вменяются. Первое. Разговоры в сельской "Пирожковой" (увы, читатель, именно так, вот за что сегодня судят и раздают срока… Даже во время пресловутой 70-ой статьи "антисоветская пропаганда" – за такое не судили). Якобы я приехал и разжег костер инквизиционной резни в этой маленькой сельской забегаловке. Мы выслушали свидетелей обвинения, молодых парней, которые единственно, что указывают, совпадающее друг с другом, это то, что пригласили их просто познакомиться. Остальное настолько приблизительно, насколько вообще может быть с разговором на несколько минут, несколько месяцев назад. (Сделаю отступление: все наши пути – это мелочи, из которых составлено то, что мы никогда не замечаем. Шишки, ветки, песок – если мы будем пристально всматриваться в них, то никогда не дойдем к цели. Но есть иные мелочи, предательские, маскирующиеся под обыденные. Иногда маленькое предательство изменяет жизнь огромной цепи людей, целого рода – предательство может прервать и отдельную жизнь, маленький огонек с сухой ветки может опалить все дерево, может выгореть страна – как наше дворянство, отошедшее от Царя, с горечью воскликнувшего: "Кругом трусость, предательство, и обман!". Здесь, надеюсь, этого не будет – по протоколам видно, как искренне, с неохотой сельские молодые парни, ленивые и вольные, беседовали с прокурором. В каждом слове чувствовалось, как они с опаской относились к жути, которую на них нагоняли, и как искренне не понимали – к чему все это? В чем тут особо страшное преступление, в их обыденной неспешной деревенской движухе, между своими путями – от девчонок к деревенским недорогим радостям… Моя бабушка, мамина мама – из этого села, была здесь учителем истории, директором школы. Все детство я шастал по здешним местам – речкам, лесам, собирал полные карманы чертовых пальцев по тенистым ручьям, таскал посреди села, около свай старого моста, рыбешек из реки, несерьезного характера – пескариков, гольянов, красноглазок; бегал на дни рождения к двоюродным братьям и сестрам, коих чуть не полсела, объедаясь там жирной деревенской пищей и играя потом в прятки по малинникам с девчонками; хмурился по чужим сельским похоронам, не понимая, кто кому какой родней приходится, и при чем тут я; лазал по пыльным сумеречным заброшенным домам, где все было окутано таинственной дымкой. Это был и мой мир, спокойный, неагрессивный, не суливший никаких опасностей. И вот, спасибо, вмешались, разъяснили, – что я на своей земле должен ходить по-другому, и разговаривать не о том, о чем я там разговаривал, а лучше – молчать...)
Вот мы приехали в "Пирожковую", сели за два сдвинутых стола, я представился, начал что-то показывать на ноутбуке, потом пару слов сказал… Но что из этого установлено с достоверностью, и в какой момент совершилось преступление-то? По разным сведениям был то конец августа, то начало сентября, а официантка говорит, вроде был октябрь… Мы приехали – одни говорят, вчетвером, другие – впятером. На машине, цвет которой варьируется от темно-серого до зеленого, через вишневый и темно-синий. Одни говорят, что сели, выпили чаю, был с собой ноутбук, и я показывал просто фотки "людей в простых одеждах", другой – что телепередачи про молодежные шествия, составленные из новостных программ, третий – какие-то митинги молодежи (принимая при этом государственный российский черно-желто-белый флаг – за фашистский, кто-то брякнул, что это был флаг ФРГ…). Еще один увидел, как расстреливают русских солдат страшные бородачи. Еще одному, что переворачивали лотки с помидорами на рынках. По версии официантки, говорили о машинах – то ли красть их, то ли красить… Выходили, входили, курили, разговаривали по телефону, было кому-то интересно, кому-то не очень… Узнав, что на сходке есть кто-то из "блаткомитета" этого села, в панике примчалась милиция, боялась, что из-под их "крыши" уводят "Пирожковую" и всех дальнобойщиков. Всех переписали и умчались, примчались обратно с предложением поговорить с районным начальником, снова упылили… Кто-то говорит, что разговор был о молодежных субкультурах в России, в частности, скинхедах – что это такое… Кто-то ляпнул, где надо строиться в патрули и бегать шеренгами по району, наводить порядок… И все это уместилось в промежуток от семи до десяти минут. Так говорит половина из тех, кого напрягла прокуратура. До двух-трех часов – вот во что растянулось все у продавщицы (Она пришла в суд красивая-красивая… Полностью ничего не сведущая, но восхитительно ладно скроенная молодая татарочка, которой такой звездный час – как шанс в телелотерее… После ее допроса еще долго витал запах какой-то косметики с пачулями и ванилью…). Вот только потом в суде выяснилось, что в районе вообще-то нет ни иммигрантов, ни кавказцев, ни даже рынка… Есть в селе за двадцать километров несколько корейцев, а в самом селе – один ассимилировавшийся грузин, Отари, сосед моего брата по общаге, гоняющий на стареньком белом "мерине", который подходил ко мне – Юра, давай замутим что-нибудь, ну давай воду чистую по бутылкам будем разливать, а? Я что, этого Отари предлагал обхаживать патрулями или что? Тем не менее, прокуратура талдычит, совершено преступление, совершено преступление – по нескольку раз всех переспрашивает… Видимо, задавая все вопросы в черных красках… Не надо долго думать – зачем это нужно было? – чтоб свидетелей зомбировать, ввести в определенное настроение – посадить на измену, а еще, чтоб не забыли, что говорить (и чтоб пропустили своей волей этот моментик внутрь своей души – осудить человека, если так нуждается в этом государство...). И вот в суде началось самое интересное – начали в суде осознавать, что все, что они говорили – записано не с их слов, а со слов пацанов, которые говорят, что так было по утверждению следователей. Или что им прокуратура разъяснила, что и как там происходило (не будучи в "Пирожковой" ни ухом, ни рыльцем). Мама одного из парней (тоже пришла в суд, яркая, красная, красивая, спелая, уверенная) возмутилась, что это не ее сын давал показания – он и выговорить-то такого никогда не мог – ассимиляция, оккупация – а так красиво, складно, хитро выражается только прокурор, и рынка у нас нет в селе! и кавказцев! и врете вы все! (и села довольная, что хоть слово удалось завернуть за правду – за что поклон… Русская красивая женщина в борьбе за правду, неистовая, неудержимая – тебе памятник надо ставить, как на Мамаевом кургане. Весь зал – обдало твоим жаром, ох!). Что из этого правда? Да, я показал на ноутбуке только то, что мы видим в новостях, или все же в том, что предлагал маршировать вокруг Отари, мы не видим абсурда? Хоть обвинение абсурдно только на первый взгляд. Далее мы выясним, в чем тут преступление, а в чем мотив.
Перейдем ко второму эпизоду. Раз или два в месяц я проводил митинги от своего имени, санкционированные с долгим препирательством с администрацией города – то место не то, то тема… И на этот раз – после долгой нудной бумажной войны – вышел, провел, и в конце митинга узнал, что задержали каких-то двоих парней. Мы, уже по традиции не оставлять никого на поле боя, сразу половиной митинга заявились в УВД – выяснить в чем дело. Оказалось, что трое ребят распространили штук пять-шесть листовок – оп! – и оказались в лапах бдительной милиции. (В тот день, через пару месяцев после Кондопоги, на наш митинг в несколько десятков человек, по подворотням, по затонированным автобусикам – проклиная все за испорченное воскресенье, парилось все УВД с иными службами – около тысячи человек… Бдительные стражи дули не только на воду, обжегшись в Кондопоге – они от малейшего признака парового облачка – угрозы ливня, впадали в кроличью истерику, и начинали месить все кругом. Не знаю, как у вас было тем сентябрем…Вообще, кто вы, читающие эти строки? Курящий в подъезде парень? Красивая девушка с утра за чашкой кофе передается такому эксклюзивному наслаждению, отложив "Vogue" и "Cosmo", а также страсти по Боне и Степе? Хотелось бы, но едва ли. Но хотелось бы. Особенно, учитывая мое нынешнее положение – год на централе и прочие прелести. Кто-то в очереди, в метро, на пятничном дачном диване? Скорее, уже ближе к теме. Кто бы вы ни были – спешу вас огорчить: Вы не тот, за кого себя принимаете… Вы пока не военный – потому что родина в руинах, а беспризорных больше, чем на войне… Вы не патриот, потому что сейчас патриот должен драться, вы не казак – потому что у власти ваши враги… Гораздо больше плод собственных иллюзий и собственных проблем, порожденных своим сознанием. Как разговаривать с вами, если вы сами не определились по отношению к настоящему и будущему – да с точки зрения успешного человека, то, о чем я говорю – безумие, как и для меня – этот самый успех под крылом Пидерсии… Или я ошибаюсь? Ладно, не буду напрягать – я записываю свою историю, кому не нравится – кто не испытывал жизни на краю смерти – кто больше мертв, чем жив – пусть попытается найти покой в Матрице. А кому интересно, вернее, близко – прошу прощения за косноязычие, прошу учесть условия, в которых это написано, сильно не судите, вообще не судите… Вернее, "духовный все судит, его же никто не судит" – то есть судите все судом святости, и – до встречи! – этот путь, как бы он ни был для вас лично оформлен в повседневности: от митингов до уединенных молитв и разговоров в ваших "закусочных" – этот путь уже, чем Фермопильский проход. Мы еще встретимся, это точно, кем бы вы ни были… Словимся, известно где – там, где горячо… Возвращаемся к УВД…)
Я поговорил с начальником милиции – все уладилось в пару минут. Ребят вернули. Листовки кому-то отдали, их кто-то раскидал…
И тут, по мнению прокуратуры, совершилось страшное! Листовки оказались не того, слишком резкие!... Взяли этих ребят, запугали. Они сначала лепетали, что кто-то взял из Интернета, распечатал, они и раздали штук пять-шесть. С третьего раза до них дошло, что если они не скажут, что все это сотворили не они, а я – то им светит, то им светит…Что-то им светит, короче… Пуганули и сломали. Получилось. Сразу после этого – обыски, допросы, запугивание всех, кого зацепило очередной облавой на ведьм: от моей мамы– монахини до всех банков в городе, финансирующих террористов… – опять работа РУБОПу, ОМОНу, конторе, всему отделу прокуратуры по особо важным делам – и все это не дало ни пылинки, ни одной буковки, отпечатанной хоть в одной из типографий… Что же произошло? Ну, давайте, схватим, наконец, преступника, он вот здесь, перед нами… Я готов…
Уф. Отдохнем. Не по себе. Вас не судили? Это хорошо. Многие поддержат – когда дело касается обвинений против них – человека буквально воротит физически, подташнивает, мутит, когда читаешь документы о себе, с отвращением вынуждая себя перелистывать и просматривать через строку всю эту чушь, кафкианскую прокурорско-судейскую дурь. И я не исключение. Очень тяжело, буквально рука виснет, мысль начинает противно кипеть, в груди тяжелеет, когда пишешь об этом, касающемся тебя в третьем лице, причем лицо это – твое – преступного характера… Что, орать, что невиновен? Или лучше помечтать о мести?
Давайте, лучше отвлечемся, приколемся на чем-то менее мрачном, чем вести с фронта… В тот же день, напомню, мы ехали с Денисом. У него наконец-то, с третьей попытки, явился в суд свидетель, оказавшийся более-менее адекватным, о чем речь ниже.
Прокурор (все это происходит на допросе у Дениса, по 105-й (убийство), и вот один из основных свидетелей приведен прокурором перед очи правосудия): – Вы способны, свидетель, давать показания?
Свидетель, икнув. – Да.
Прокурор. – Как было дело?
Свидетель, обращаясь к Денису. – Ну… Их было двое… Или трое? Вас ведь трое было? Ну, подошли они вдвоем-втроем, поговорили. И все. Ничего не помню.
Прокурор – Так двое было, или трое?
Свидетель. – Да я же уже говорил. Раньше. Мне следователь сказал – все будет "индиго"! И вот – я здесь?! Какое же это "индиго"?!..
До Дениса и его адвоката доходит, что "индиго" – это инкогнито! – они начинают тихонько ржать. Судья, сурово, так и не вкурив, что это за "индиго" такое обещал ему следователь. – Но-но… Вы что, не подтверждаете тех показаний, что давали первоначально?
Свидетель – Ну, я же их бухой давал!
Прокурор, хватаясь за голову. – "Ну" – это значит "да"! Согласитесь, что сейчас вы адекватны!
Свидетель. – Я? Ну… То есть да!
Адвокат. – Извините, не могли бы вы пояснить, как себя чувствуете?
Свидетель. – Уже нормально. Ну?
Адвокат. – Что значит "уже"? Вы давно пьете-то?
Свидетель, опять икнув. – Дней пять. И еще несколько месяцев (тихо, шатаясь, закатывая глаза и уходя в себя, куда-то ввысь, в память, в Алебастру, где живут воспоминания алкоголиков…)
Адвокат. – А сегодня? Голова не болит?
Свидетель. – Уже нет. Я с утра две полторашки портвейна взял, каждая по 75 рублей, каждая, подчеркиваю! Ну и освежился. Нормально так чустую ся…
Судья, в гневе, прокурору. – Две полторашки, 75 рублей, каждая! Да вы что?! Свидетель, чтоб явились через неделю, трезвый!
Прокурор. – Да он нормальный!
Судья – Да!.
Свидетель. – Это моя норма. Я и тогда бухой был, когда показания сначала давал. И тогда, когда мы встретились, тоже был бухой. Я всегда бухой – формально вы правы, это моя норма. Моя, личная норма! Две по 75 – и все, я же норму знаю…
Адвокат. – Ходатайствую о вызове следователя, бравшего показания, которое прошу считать недопустимыми…
Его реплика тонет в онтологическом споре судьи и прокурора: адекватен – не адекватен, а я говорю – да!, а я говорю – нет!
Судья. – Всем стоять! (Свидетель уже развернулся и куда-то полетел…). Заседание отложено. Ввиду, ввиду… В-общем, на неделю.
Свидетель виновато останавливается перед Денисом. Карман рубашки оторван, рубашка торчит наполовину. Вздыхает.
– Это, братан… Я хотел, это, индиго… Ну что ж… – Бьет себя в грудь. – Ну, прости…
Денис только махнул, сквозь смех, рукой – иди, некондиция, полечись…
Ну, вернемся из параллельного зала в наш. Я говорю, что обвинение абсурдно только на первый взгляд, на самом деле – это продукт злой воли, в которой преступник виден, как отпечаток грязной лапы на всех приложенных доказательствах, приобретенных путем тотального обыска, как крысиные укусы с характерным прикусом на душах спрашиваемых, как лица американских президентов на их "средствах", на которые приобретены и Mazd’ы и Hond’ы (не только за мой счет, за счет тех многих, кто сейчас рядом со мной). Преступник – это прокуратура. У нее есть мотив – власть надавила (а мы всего лишь служим…), у нее есть время – сейчас (пока идут выборы…), место действия – вот этот зал, форма действия – ложь и наглое преследование, и главное – заказчик.
Давайте, говорю, проследим путь листовок, которые мурыжили музейщики-ботаники (листовок, от слова лист, наколи ее как бабочку булавкой, и исследуй, строчи потом, как Жак Паганель, свои выдумки…) Они изготовлены неизвестно где. Может, на домашнем компе, между игрой в "Контру" и "Sim’s"-ов. Ребята принесли их под своими бомберами, пока собрались вместе, втроем, остановку нашли, где люди есть, пока раздали четыре листовки – их приметили некоторые из выгнанных на улицы милиционеров. Отвезли их в дежурку, не изъяли ничего, вернее взяли, прочитали и отдали. Получается, если это орудие преступления, скажем, "Калашников" или нож – возьми, изыми, сделай опись. Нет. Забрали несколько сотен и вернули. Если это средство преступления, а преступник должен осознавать, что он совершает преступление – почему вернули? И где тогда рядом со мной доблестные менты, которые, получается, совершили в сотни раз более тяжкое преступление, если исходить из количества листовок: с одной стороны – четыре, с другой – сотни.… Или закон написан ради того, чтоб загнать в ловушку единицы, в данном случае – одного меня? Или прокуратуру вовсе не интересовало преступление и преступники? – ей нужно было удержать, засадить одного конкретного человека, любым способом – меня? Вкратце так.
По "Пирожковой" – все еще смешней и абсурдней. Два сдвинутых вместе стола – это уже признак публичности? (статья-то – за публичное разжигание…). Опять явилась милиция, посмотрела, как мы пьем чай, смотрим по ноуту новости, то есть, совершаем преступление…
Что она сделала? Переписала всех и уехала. То есть у нее на глазах, по уверению прокуратуры, происходило нечто, предусматривающее, как минимум, "двушку лишения", а она, эта наша голуборубашечная самооборона, как-то пропустила это дело… Или ничего не было? Конечно, они приехали не чай пить. "Пирожковая" – это их вотчина (как у лос-анджелесских копов их закусочные, где они едят бесплатные пончики. Насмотрелись, а чем мы хуже? – переняли…) Ткнулись проверить, не течет ли их крыша, не посягает ли кто на их "законную" собственность? Те же вопросы, по избирательности закона – что, времена изменились-таки (и первыми это почувствовали не в Кремле, а у нас – впору гордиться…), и теперь ждать надо процессов – кто, что ляпнул про батюшку-тупина на свадьбе, на похоронах, на застольях, где собрались больше трех?... Ждать, что ли опять их репрессий и террора? Или они не прекращались с семнадцатого? Тот же самый почерк (тот же самый крысиный прикус и змеиный яд между строк): свидетели в один голос утверждают в суде, что ничего не было, а один на один с прокурором, что да, дымком пахло… Каким-то не таким, не нашим… Итак, тот же действующий на нашей сцене типок, старающийся "тихими стопами-с", легкой тенью остаться незамеченным: прокурор и его команда… Зачем он это делает? Ведь главное в преступлении – мотив.
Уф, отвлечемся еще раз. Спустимся вниз, в судейский боксик, у судьи – обед. Денис сидит у стенки: – Сейчас бы бутик с аскобалом… (с колбасой).
– Есть семечки.
– Давай.
Достаем, аккуратно расстилаем одноразовые носовые платки. Он как раз рассказывает о своем свидетеле – мне же обещали "индиго", и вот я здесь?...
Смеемся. Я вспоминаю еще что-то. Мелькает, как искра, разрывная пуля памяти, и взрывается, разворачивается другой мир, не просто параллельный, а основной, настоящий, единственный…
Я уже писал о стерляжьей ухе. Гораздо меньше о том, как ловится эта рыба. Чаще всего помнится не самая крупная, а та, что упустил (она и кажется-то всегда внушительней, и запоминается ярче). Но в этом случае у меня – не так. Самая здоровая, которая мне попалась – около четырех килограммов (для стерляди – редкость, у нее стандарт – килограмм, полтора). Хорошо помню то утро, когда она попалась.
У меня есть свой дом в деревне. Река от дома недалеко, по единственной улице метров двести-триста, и через сто метров – и тайга, и река, северная, быстрая, шириной метров сто пятьдесят (что я все о метрах? Расстояние в памяти ведь все равно условно…). На реке – излучина, мое место на реке, где закинуты продольники на крупную рыбу. Я ловлю обычно на миног, которые добывю из прибрежных кочек, из сине-серой глинистой грязи, скрепленной старым корнями упавшей в воду, подмытой по весне луговой пластины. Место, где я их добывал – выше по течению, возле заросших, когда-то колхозных, а еще ранее – монастырских, лугов... Подниматься туда на веслах – отдельная история, приключение, обыденно-тяжелое, совершаемое раз в три-четыре дня в зависимости от клева. Если углубляться дальше по ассоциациям, от тех лугов – можно уйти далеко, в детство, к отцовской молодости, к собиравшимся на покос в автомашину бодрым, полнотелым, громко хохочущим сдобным деревенским молодухам – пышкам… Короче, можем увязнуть… И так уже увязли…
Читатель(ница), не хотите следовать за мной – пейте утренний кофе, не опаздывайте в фитнес или на шопинг, или корову подоить… Или все же, лучше не бывает – к друзьям, к любимым…
Я – о миногах. Я плавал за ними вверх по течению, пару километров, иногда, когда было тепло – залезал в воду, выкидывал кочки на берег, возился в грязи, собирая миног, а по холоду – приходилось тащить с собой загнутые вилы, чтоб таскать кочки… Плыть вниз по течению – отдых. Курить я бросил уже лет шестнадцать назад, просто отдаешь лодку течению, а сам – сидишь, смотришь: кулики-сороки проскочили по руслу туда вниз, потом полетели обратно, что-то у них, наоборот там, внизу… Ястреб кружит… Мир Божий и покоится, и стоит, и движется, и идет к неведомому, оставляя от твоей жизни только то, что не перемелется, не сотрется, не исчезнет – немую любовь, к чему, к кому?.
Свой запас миног, пока меня несло течением, я освобождал от мутной воды, грязи – дня два-три им мыкаться в старом бидоне, пробитом для их сохранности дырками от гвоздей. На миног – мелочь не клюет, только хищник – щука, язь, налим, стерлядь, судак, окунь – или все, или ничего, тем и хорошо.
То утро было молочно-белым, пасмурным. Я встал, как всегда, очень рано, с падающей росой и поднимающимися ночными туманами. В доме все еще спали – не то, чтоб я это помню, просто так было почти всегда: утро, излучина реки, сотни раз пройденные, прожитые, присвоенные до некоторого предела, до вечности, в которой есть место тому, с чем ты сроднился в жизни – нехитрая деревенская жизнь, еженедельная и праздничная служба в церкви, друзья.
До реки добрался тоже по привычке – на машине, не успевшей прогреться, с запотевшими стеклами, обляпанными серыми отпечатками давленых, присохших комаров (будто отпечатки с египетских эрмитажных покрывал) – тоже привычка, городская, в городе доходящая до абсурда – несколько сот метров до магазина и обратно: обязательно на машине…
Солнце было за легким слоем ровных, не дождевых, покойных облаков. Закаты тоже бывают, как вечные костры – обжигающе, обваривающе красны. А то утро и день, и многие такие же другие – белы и прозрачны, обнимающе-молочны, будто укрытые легким уютным одеялом, в отличие от вездесущего красно-огненного вечернего разлива, иногда вызывающего противоположное – не отеческую объемлющую ласку мира, а прожигающую изнутри тревогу, неустойчивость, потребность, что-то сделать, чтоб притушить этот нечеловеческий пожар.
То утро, предчувствие, что что-то попалось на снасти – в меру волновали, будили, конечно, кровь, одновременно сливаясь с постоянством: так было и будет до Страшного суда, когда уже конец всему, что имеет начало, и что преобразится в последнем огне. Река будет по утрам спокойна почти всегда в такие утра, всегда одинаковая и новая, давая каждый день – свое, сужденное этому дню, щедро разговаривая на своем языке.
В то утро, я только подошел к берегу, – и еще издали, сверху, с крутого обрыва, на котором наладилось древнее городище, помнящее еще скандинавские легенды, войну викингов за Железные ворота, которые они приплыли сюда штурмовать аж в 11 веке – увидел, что что-то не так: попалась рыба, серьезная.
Городище было по квадратикам раскопано до древних очагов-каменок 12 века, пару лет назад. И на расчищенной округлой полянке, окруженной еще угадывающимися ровом и валом – росла теперь земляника, которую я обычно пробовал каждое утро, или приносил домой. Но сегодня было не до того – надо было быстро спускаться, цепляясь за мягкие по-детски лапы пихты, вниз, к лодке, отвязывать ее, сталкивать в воду – ведь что-то крупное попалось возле одной из донок (ее мне в том месте, почти посреди реки, посоветовал поставить еще несколько лет назад отец, когда он вышел на пенсию и мы вместе осваивали здешнюю ловлю) – выпрыгнула раз, другой, третий вверх, дала свечку и снова ушла в воду какая-то крупная рыбина… Лишь бы не сорвалась, пока я успею подплыть, встать удобно, настроить подсак и взять в руки леску – лишь бы не ушла!.. – и я рывками, не обращая внимания на брызги, погреб на плоскодонке туда, делая гребки все осторожнее по мере приближения… Рыба, видно, тоже уловила мое приближение – свечка! – огромная стерлядь, я такой не видел за всю свою рыбацкую, от Севера до Астрахани, сорокалетнюю жизнь…
Но на самом деле я хотел бы рассказать не об этой, а другой, менее великолепной по размерам, но более важной и памятной для меня, рыбине. Эту я вываживал очень долго – то осторожно подтаскивая, то отдавая лесу по опыту, сколько нужно, перебирая леску между пальцев так, чтоб рыба не могла засадить рывком никуда, ни в руку, ни в рукав, ни в лодку, мои острейшие, подточенные оселком, крючки. Эта была необычайно сильной (обычно они ходят парами, я потом ловил вторую, но в конце концов в районной газете поместили заметку об уникально большой рыбине, пойманной в то же время, что и моя, на несколько километров ниже, в другом поселке. Там ее фотографировали, взвешивали с хвастовством, охали – а моя-то была больше! Правда, мы тоже разок сфоткались – в тот день заглянули в гости двое монахов, и мы с батюшками растянули эту стерлядину на весь стол, а сами сели позади… – но это мы для себя, в архив, мы-то и так знаем, что все наше – лучшее). С этой, здоровущей, я намучился, конечно, долго. Но, в конце концов, поддел большим подсачком, который, еще папка сотворил из картофельной сетки, черенка от грабель и толстой, с мизинец, сталистой проволоки – больше метра в диаметре: серьезного характера снасти на серьезную рыбу.
И все-таки я хотел рассказать о другой, о которой никто другой не знал. Под осень рыба клюет уже редко, выборочно. Бывает то пусто, то густо. В основном, из-за того, что ту, которая зашла и стояла по своим местам – я уже выловил, и теперь ловилась проходная: спускавшаяся сверху, или наоборот, стремившаяся вверх с других мест. Короче, надо было уже сматывать донки – пустые дни были все чаще, и молочно-белая осень сменилась сначала дождливо-унылой, а потом уже и вовсе пошли заморозки. И вот в эту пору я однажды загадал почему-то – если попадется рыба, то у нашей движухи будет все хорошо, если нет – то… Конечно, это некорректно, суеверия и прочее, так нельзя. Но иногда слабым, колеблющимся нужны подтверждения тому, как ты живешь – не всем же ходить по воде, некоторым нужно что-то твердое, чтоб следующий шаг ступить. Что тут еще объяснять – монархия для нас естественна, и написано, что она будет – и все же по-детски иногда хочется, чтоб внимание к тому, чем ты живешь – было каким-то осязаемым, воплощенным что ли…
Короче, плывем за ответом – когда уж, Господи, избавимся от богоборческого ига, когда уж порядок, сила, мир, покой…
Обычно на "моем" участке реки я ставлю двенадцать продольников, и рыбы хватает, и время остается на другие занятия. Проверять плаваю, начиная снизу, с самого низкого – верх. В то утро все было тихо, прошел заморозок. За это лето от реки к дереву, к которому пристегивал замком лодку – я уже протоптал в траве целую тропу: вся трава стерлась, глина от моих вечерних и утренних выходов на реку превратилась в кашицу, а по желобку, оставленному лодкой, сочился ржаво-радужный ручеек. В это утро – все замерзло, и глупо вдвойне было что-то загадывать. Пока весло было сухим, было еще не так холодно. Я вышел на реку, поднял со дна реки бидон с миногами, которые шуршали тихо о бока – дней пять я уже не пополнял свой запас, а они все не кончались – это значит не клюет, и как с этим бороться.
Поплавки – из связки трех-четырех пластиковых бутылок – лежали на воде ровно, не култыхаясь. Миноги были на месте, резво извиваясь на крючках, изображая живой отрезок пойманной на что-то волны осциллографа – все буднично и уныло.
Я проверил уже десять продольников. Осталось два. Пока ноль, ничего, кроме дурацкой затеи с проверкой своих загаданных желаний. Обычно, если внизу не клюет, то возьмет где-то посередине. А если уж в середине не тронуто – то везде мертво не клюет, и не может – глубокая осень кругом, какая рыба… Надо готовиться к зиме, дожигать картофельную ботву, дособирать последние грибы, и в город, на движуху.
Предпоследний продольник. На самом глубоком месте. Обычно, если не клюет, то здесь – и подавно. Что там, на несколько метров внизу, может быть, кроме оставшихся поздних листьев, черных, вирусоподобных мелких личинок ручейника, облегающих лески, да злых вредителей – раков – аккуратно, зряче, обкусывающих миног вокруг крючков, издевательски оставляющих от них маленький окурок… При моем приближении бутылки не шелохнулись. Я взял их на борт, взялся за леску, которая оказалась натянута, но это еще ничего не означало, могло набиться мусору, бобер, проплывая реку, мог отпустить свою ветку, и она могла сесть на донку. Сколько раз уже это бывало… И туристы, сплавляющиеся на своих дурацких плотах, тоже могли нашерудить…







