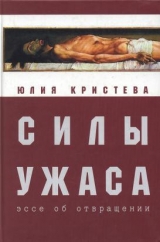
Текст книги "Силы ужаса: эссе об отвращении"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 17 страниц)
Запомним этот факт, чтобы вернуться к нему в нашей дальнейшей интерпретации позора и его обрядов, и обратимся теперь к частностям: запрещенным объектам, и символическим механизмам, которыми окружены эти запреты.
Экскременты и менструальная кровь
Объекты осквернения, всегда относящиеся к отверстиям тела как к разделяющим-устанавливающим территорию тела меткам, бывают, схематически, двух типов: экскрементальные и менструальные. Ни слезы, ни сперма, к примеру, хотя и относятся к границе тела, не имеют значения осквернения.
Экскремент и его эквиваленты (гниение, инфекция, болезнь, труп и т. д.) представляют опасность, идущую извне идентичности: я испытывает угрозу со стороны не-я, обществу угрожает нечто внешнее, жизни угрожает смерть. Менструальная кровь, наоборот, представляет собой опасность, идущую изнутри идентичности (социальной или сексуальной); она угрожает отношению между полами в социальном сообществе и, через интериоризацию, идентичности каждого пола при решении вопроса о различии полов.
Материнский авторитет – хранитель «чистого» тела
Что может быть общего между этими двумя типами позорного? Не прибегая к анальному эротизму или страху кастрации – можно лишь услышать сдержанность антропологов по поводу этого объяснения – можно предположить, заходя с другого конца психоанализа, что эти два позора указывают на материнское и/или женское, для которого материнское является реальной поддержкой. Это без слов понятно из менструальной крови, означающей половое различие. А экскремент? Вспомним, что анальный пенис является также фаллосом, который детское воображаемое наделяет женским полом и на котором, с другой стороны, прежде всего, после первых, в основном оральных фрустраций, как, например, контроль за сфинктером. Как если бы человеческое существо, будучи всегда погруженным в символическое языка, подчинялось еще и авторитету, хронологически и логически непосредственной изнанке законов языка. Фрустрациями и запрещениями этот авторитет делает из тела территорию с зонами, отверстиями, точками и линиями, поверхностями и пустотами, где отмечается и проявляется архаическая сила господства и покинутости, различения чистого и нечистого, возможного и невозможного. «Бинарная логика», первичная картография тела, которое я называю семиотическим, чтобы сказать, что он, будучи предусловием языка, – подданный смысла, но не так, как лингвистические знаки или символический порядок, который они устанавливают. Материнский авторитет – хранитель этой топографии чистого тела в обоих смыслах слова; он отличается от отцовских законов, по которым, начиная с фаллической фазы и обретения языка, протекает судьба человека.
Если язык, как культура, устанавливает разделение и, начиная с единичных элементов, выстраивает порядок, вытесняя материнский авторитет и телесную топографию, которые находятся по соседству. Тогда встает вопрос, что происходит с этим вытесненным, когда легальное, фаллическое, языковое символическое не применяет радикального отделения – или, глубже, когда говорящее существо пытается осмыслить происходящее, чтобы почувствовать результат.
Обряд позорного – социальная установка «пограничной линии»?
Известна гипотеза структурализма: фундаментальные символические институты, такие как жертва или миф, разворачивают логические операции, присущие организации самого языка; это позволяет им реализовать для сообщества то, что глубоко, исторически и логически конституирует говорящее существо как таковое. Так, миф проецирует открытые в самом фонематическом строе языка бинарные оппозиции – на жизненно важные для данного сообщества содержания. Жертва, она известна как вертикальное измерением знака: от покинутой вещи, или убитой, до смысла слова и трансценденции.
Следуя за этой нитью, можно было бы предположить, что обряды, связанные с позором, в особенности связанные с его экскрементными и менструальными вариантами, перемещают границу (в смысле психоаналитической пограничной линии), которая отделяет территорию тела от означающей цепочки: они иллюстрируют границу между семиотическим авторитетом и символическим законом. Посредством языка и в сильно иерархизированных институтах, какими являются религии, у человека появляются галлюцинации отдельными «объектами» – свидетельство архаической дифференциации тела на пути к собственной идентичности, в том числе и сексуальной идентичности. Позор, обряд которого нас защищает, не является ни знаком, ни веществом. Изнутри обряда, который и вычленяет его из вытеснения и перверсивного желания, позор – это транслингвистический след наиболее архаических границ собственного тела. В этом смысле, если он – падший объект, то это от матери. Он поглощает в себя весь опыт не-объектного, который сопровождает дифференциацию мать – говорящее существо, то есть все объекты (отвратительные) (от тех, кого боятся фобы, до тех, к кому стремятся раздвоенные субъекты). Как если бы обряд очищения посредством уже наличного языка возвращался к некоторому архаическому опыту и натыкался бы на отдельный объект не как таковой, а как на след некоторого предобъекта, архаического разделения. Символическим институтом обряда, то есть системой исключений, называемых ритуальными, отдельный объект становится таким образом письмом: обозначение границ, настойчивость, обращенная через сам означающий порядок, но не к Закону (отцовскому), а к Авторитету (материнскому).
Из этого следует нечто совершенно особенное в отношении механизма самих обрядов.
Письмо без знаков
Прежде всего, обряды, касающиеся позора (а может быть, и все обряды, обряд позора среди них может быть прототипным), выплескивают предзнаковое воздействие, семиотическое воздействие, язык. По крайней мере так можно подкрепить определения антропологов, согласно которым, обряды скорее акты, чем символы. Другими словами, обряды не удерживаются в своем означающем измерении, они обладают вещественным, активным, транслингвистическим, магическим воздействием.
С другой стороны, сильная ритуализация позора, которая наблюдается, например, в кастах в Индии, кажется, сопровождается полным бессознательным исключением из поля сознания самой нечистоты, являющейся, однако, объектом этих обрядов. Как будто осталась, если можно так выразиться, лишь сакральная, запретная составляющая позора, а анальный объект, на который было направлено это сакрализующее запрещение, потерялось в ослеплении неосознанным, если не бессознательным. В. С. Наипол[95]95
An Area of Darkness, Londres, 1964, chap. Ill, cite par Mary Douglas. Op. cit. P. 140.
[Закрыть] указывает, что индусы испражняются повсюду, но никто никогда не упоминает, ни на словах, ни в книгах, эти силуэты на корточках, так как их просто… не видно. Это не цензура, основанная на стыдливости, которая руководит пробелом в дискурсе о ритуализированной функции. Эта брутальное отвержение, которая удаляет эти акты и эти предметы из осознанной репрезентации. Расщепление, кажется, устанавливается между, с одной стороны, территорией тела, где правит авторитет без чувства вины, своего рода соединение матери и природы и, с другой стороны, совершенно другим миром социальных знаковых представлений, где в игру входят стеснительность, стыд, чувство вины, желание и т. д. – порядок фаллоса. Подобное расщепление, которое в других культурных мирах стало бы источником психоза, здесь же находит совершенную социализацию. Может быть, потому, что институт обряда позора берет на себя функцию дефиса, диагонали, допускающей двум мирам нечистого и запретного соприкасаться, без того, чтобы идентифицировать себя как таковых, как объект и как закон. Из-за этой гибкости, которая действует в обрядах позора, предполагаемая субъективная организация говорящего существа доходит до двух пределов невыразимого (не-объекта, вне-границ) и абсолютного (неизбежная связь с Запретом, единственным дарителем Смысла).
Наконец, частота повторения обрядов позора в обществах без письма, заставляет думать, что эти катарсические обряды функционируют как «письмо реальности». Они вырезают, разграничивают, намечают порядок, план, социальность, не имея никакого другого значения, кроме имманентного самому разрезанию и связанному с ним порядком. Можно наоборот спросить, не является ли все письмо обрядом второго уровня, само собой разумеется, уровня языка, припоминающим с помощью самих лингвистических знаков те разделения, которые их обусловили и превзошли. Действительно, письмо противостоит субъекту, который путается с архаическим авторитетом, по эту сторону собственного Имени. Коннотации этого авторитета с матерью никогда не ускользали от великих писателей, так же как и противоборство с тем, что мы называли отвращением. От «Мадам Бовари – это я» до монолога Молли и волнения Селина, которое ранит синтаксис, чтобы прорваться к музыке, танцовщице или никуда…
Оскверняющая пища – микстура
Когда пища рассматривается как оскверняющий объект, она оказывается оральным объектом только в той степени, в какой оральное обозначает границы собственного тела. Пища не становится отвратительной только потому, что является границей двух сущностей или различных территорий. Граница между природой и культурой, между человеческим и нечеловеческим. Это может быть отмечено, например, в Индии и Полинезии[96]96
См.: Dumont L., Homo hierarchicus, Paris: Gallimard, 1966. P. 179.
[Закрыть] для вареной пищи, уязвимость к осквернению которой является ее характеристикой. В отличие от спелого плода, который съедается без опасений, пища, прошедшая огонь, является оскверняющей и должна быть окружена серией табу. Как будто пламя не только не очищало, вопреки тому, что утверждают концепции гигиенистов, но обозначало контакт, факт того, что органическая пища вмешивается в семейное и социальное. Виртуальная нечистота такой пищи приближается к отвращению к экскрементам, которое является самым поразительным примером вмешательства органического в социальное.
Остается хотя бы то, что вся пища может быть опозорена. Так, брахман, который окружает свой прием пищи и свою пищу очень строгими правилами, является менее чистым после еды, чем до нее.
Пища обозначает здесь другое (природное), которое противостоит социальному состоянию человека и которое проникает в чистое тело. Впрочем, пища – это оральный объект (это объект), который основывает архаическое отношение человека к другому, своей матери, хранительницы силы, настолько же жизненной, насколько опасной.
Остаток: позор и возрождение
Очень значимо в этом отношении судьба отторжения, которое провоцируют пищевые остатки в брахманизме. Еще более позорная, чем любая другая пища, они, кажется, не являются причиной этой двойственности, двоякости или перманентного или потенциального смешения одного и другого, которое обозначает, как мы только что заметили, всякая пища. Остатки – это недостача чего-то, и особенно кого-то. Они оскверняют самим фактом этой неполноты. При определенных условиях, конечно, брахман может съесть остатки, которые, вместо того чтобы осквернить, придадут ему силы для путешествия или даже для его специальной функции, жреческого акта.
Эта двойственность недостачи (осквернение и сила обновления, остаток и возобновление) обнаруживается не только в сфере питания, но и в других областях. Некоторые космогонии представляют остаток после потопа в виде змеи, которая становится поддержкой Вишну и обеспечивает таким образом возрождение мира. Точно так же, если то, что остается от жертвоприношения может считаться отвратительным, однако собирание остатков жертвоприношения может быть причиной целой серии хороших перерождений и даже может привести на небеса. Таким образом, остаток – это понятие действительно двойственное в брахманизме: позор, точно так же, как и возрождение, отвращение – то же, что и высокая чистота, препятствие и в то же время влечение к святости. Но вот, наверное, существенный момент: остаток, кажется, тождественен всей архитектуре этой не обобщающей мысли. Для нее нет чего-то, что было бы всем, нет ничего исчерпаемого, есть недостача во всей системе: в космогонии, в пищевом обряде, и даже, в жертве, которая оставляет, например, в пепле, двойственный след. Вызов нашим монотеистическим и монологическим мирам, эта мысль, вероятно, нуждается в двоиственном остатке, чтобы не замкнуться в одномерном символическом Едином и, таким образом, всегда устанавливать не-объект, настолько оскверняющего, насколько оживляющего: позор и рождение. Вот почему поэт из Атхарваведы XI, 7 превозносит позорный и возрождающий остаток (uchista) как предсостояние всех форм: «На остатке основаны имя и форма, на остатке основан мир… Сущее и несущее, оба в остатке, смерть, сила…»[97]97
См.: Malamoud Charles «Observations sur la notion de „reste“ dans le brahmanisme», in Wiener Zeitschrift fur die Kunde Sudasiens, XVI, 1972. P. 5–26.
[Закрыть]
Страх перед женщинами – страх воспроизводства
Архаический страх перед матерью оказывается страхом перед ее воспроизводительной силой. Именно эту опасную власть стремится покорить система родства по отцовской линии. Не удивительно поэтому видеть распространение обрядов осквернения в обществах, где власть по отцовской линии слабая и как бы ищет в очищении поддержку в своей борьбе против противозаконной материнской линии.
Таким образом, в обществе, где религиозные запреты совпадают с сексуальными запретами и имеют целью отделить мужчин от женщин и укрепить власть первых над вторыми, можно констатировать – как у племени Джиджингали в Австралии – значительное влияние материнского авторитета на сына. Наоборот, у их соседей племени Аранда, где отцовский контроль намного более важен, чем у Джинжингали, соответствия между сексуальными запретами и религиозными запретами нет.[98]98
См.: Maddock K. Dangerous Proximities and their analogues, in Mankind, 1974. T.V. Vol. 3. P. 206–217.
[Закрыть]
Пример с племенем Ноер, проанализированный Эвансом Притчардом и подхваченный Мэри Дуглас, с этой точки зрения очень показателен. Речь идет об обществе, где доминирует, по крайней мере у аристократов, принцип отцовского колена[99]99
Агнатический принцип
[Закрыть] и где женщины – это элемент раздела: необходимые для репродукции, они представляют опасность для идеальных законов агнатической группы, хотя проживание с родственниками матери кажется распространенным явлением. Менструальное осквернение, так же как и запрет на инцест с матерью, наиболее опасный из всех, можно интерпретировать как символический эквивалент этого конфликта.[100]100
См.: К. Gouph, «Nuer Kinship: a Reexamination», in Т. О. Beidelman (éd.), The Translation of Culture, Londres, 1971. P. 91.
[Закрыть]
Брезгливость по отношению к позору, как защита против не поддающейся контролю власти матери, кажется еще более очевидной у племени Бемба. Ритуально нечистое и загрязненное, менструальный позор обладают у них еще и разрушительной мощью, что приходится говорить в данном случае не только об обрядовой нечистоте, но и о силе осквернения. Так, если менструирующая женщина коснется огня (символ мужественности и отцовской линии), то приготовленная на этом огне пища, принесет ей болезнь и будет угрожать смертью. Итак, у племени Бемба власть в руках мужчины, но родство считается по материнской линии и проживание после свадьбы у родных по женской линии. Мужское доминирование и проживание у родственников жены – серьезное противоречие: молодой супруг подчинен авторитету семьи супруги и должен преодолеть его собственными заслугами во время своей зрелости. Он остается, однако, в соответствии с родством по материнской линии в оппозиции с дядей матери, который является законным смотрителем детей, особенно, когда они подрастают.[101]101
См.: Rosen L. N. Conagion and Cataclysm: A theoretical approach to the study of ritual pollution beliefs, in African Studies, 1973. T. XXXII. № 4. P. 229–246.
[Закрыть] Власть осквернения (опасность болезни или смерти в результате соединения кровь-пламя) переносит на символический уровень этот непрерывный конфликт, который является результатом сомнительного разделения мужской власти и женской власти на уровне социальных институтов. Это неразделение будет угрожать распадом всего общества.
Показательный факт: обряды осквернения, будучи защитными против воспроизводительной силы женщин, распространяются в обществах, напуганных перенаселением (например, в области неплодородных земель). У племени Энга в Новой Гвинеи они составляют часть целой системы торможения воспроизводства, включая и запрет на инцест и т. д. А у их соседей Форе, по противоположной экологической причине стремление к воспроизводству, которое поддерживается, приводит, можно сказать, симметрично, к исчезновению табу на инцест и обрядов осквернения. Это ослабление запретов у Форе во имя одной цели – воспроизводство любой ценой – сопровождается исчезновением «чистого» и, соответственно, «отвратительного», так что каннибализм мертвых кажется становится расхожей практики. В противоположность им Энга, чувствительные к осквернению и подчиненные страху воспроизводства, не знают каннибализма.[102]102
См.: Lindenbaum S. Sorcers, Ghosts and Polluting Woten An analysis of Religions Belief and population Control, in J.Georg. (USA), 1972. T. XL № 3. P. 241–253.
[Закрыть]
Достаточно ли этих параллелей, чтобы предположить, позор характеризует наряду с попыткой усмирить материнскую линию, попытку отделить говорящее существо от его тела, для того, чтобы он перешел в разряд чистых тел, то есть невоспринимаемых, несъедобных, отвратительных? Только такой ценой тело может быть защищено, сохранено – и, следовательно, сублимировано. Безотчетный страх перед матерью-воспроизводительницей отталкивает меня от моего тела: я отрекаюсь от каннибализма потому, что отвращение (к матери) приводит меня к уважению тела другого, похожего на меня, моего брата.
Позор и эндогамия в Индии
Иерархическая система каст в Индии, конечно же, представляет собой самый полный и самый поразительный пример социальной, моральной и религиозной системы, основанной на осквернении и очищении, на чистом и нечистом. Интересно сравнить, как это сделал Луис Дюмон[103]103
Dumont L. Homo hierarchicus. Op. cit.
[Закрыть], эту иерархическую систему с регламентацией брака. Автор делает заключение, что эндогамия каст является лишь следствием первого иерархического принципа, основанного на противопоставлении чистое/нечистое. Чтобы не входить в детали этого доказательства, ни во множество нарушений эндогамии – которые, впрочем, естественным образом вписываются в иерархический порядок, усложняя и усиливая его, – отметим для нашей темы следующее.
Принцип эндогамии, присущий кастовой системе, состоит, как всюду, в том, что индивид женится внутри своей группы или, скорее, что ему запрещено жениться вовне. Эндогамия в индийских кастах предполагает, кроме того, специфическое родство: передача качества члена группы одновременно обоими родителями. Результатом такой регламентации фактически является символическое и реальное равновесие ролей обоих полов внутри этого социально-символического единства, которое представляет собой каста. Высокая иерархичность индийского общества, следовательно, не стоит между полами, по крайней мере, в вопросах родства – главного критерия власти в этом обществе. Можно сказать, что каста – иерархический механизм, который, помимо профессиональной специализации, обеспечивает роемое участие отца и матери в передаче качества члена группы.
С этого момента вопрос о том, детерминирует ли иерархический порядок оппозиция чистое/нечистое или же первопричиной является эндогамия каст, предстает в ином свете. Оставим в стороне дебаты о причине и следствии, курице и яйце. Констатируем только, что в организации – как этой – без классической экзогамии, социальный порядок строится не на основе выделенных оппозиций, какими предстают мужчина и женщина как обозначение «собственного» и «чужого», «такого же» и «различного» (пол, группа, клан и т. д.). Тем временем, как бы для того, чтобы заполнить это отсутствие различий, вводятся детальные правила разделения, отбрасывания, отторжения. Субъекты и объекты с этого момента имеют лишь статус объектов одни по отношению к другим. В итоге, когда мы избегаем бинаризма экзогамной системы, то есть инородности отец/мать, мужчина/женщина на уровне матримониального института, тогда увеличивается отвращение между полами, между субъектами и объектами (неизбежно поверхностное, мы к этому еще вернемся), между кастами иг ритуальном уровне.
Вокруг этого основного правила находятся специфические ситуации, которые подтверждают наше впечатление, что развитая иерархия каст – это компенсация равновесия мужчина/женщина, введенного индийской эндогамией. Отметим, среди прочего, различные формы брака, нередко дискутируемые и противоречивые, так что некоторые были объяснены как двойным родством, по отцовской и материнской линии. Так, с точки зрения М. Б. Эмено[104]104
Language and Social forms. A study of Toda Kinship Terms and Dual Descent, in Language, Culture and Personality, Essais in Memory of Ed. Sapir, Menasha, Wis., 1941. P. 158–179.
[Закрыть], в Южной Индии родство считается двойственно однолинейным, в то время как с точки зрения П. Л. Дюмона, два принципа однолинейности работают по отдельности, даже если отцовские и материнские черты проявляются в одной группе различными способами[105]105
Hierarchy and Marriage Alliance in South India Kinship, in Occ papers of the Royal Anthrop. Institute, 1957. № 12. P. 22.
[Закрыть]. Впрочем, некоторые случаи гипергамии (эндогамией не исключается возможность для девочки выйти замуж в семье выше своей, не понижая статуса потомков), если они повышают статус женщины, – только для них, поскольку на мужчину брак никак не влияет. Этот очень своеобразный поиск отца более высокого статуса интерпретируется как «сохранение родства по материнской линии в среде родственников по отцовской линии»[106]106
Dumont L. Homo hierarchicus. Op. cit. P. 157.
[Закрыть].
Этнологи могли бы привести еще больше примеров, более точных. Вывод, который мы делаем, следующий: если всякая социальная организация с необходимостью состоит из различий, разделений и противопоставлений, то кастовая система с помощью присущей ей эндогамии и устанавливаемого ею равновесия полов, кажется, перемещает различие в иное, умножая его, – но для экзогамного общества оно всегда одно и играет фундаментальную роль в отношениях между двумя отделениями как представителями и двумя территориальными, экономическими, политическими, этническими и т. д. сущностями.
Как если бы, чем больше эндогамия поддерживала равновесие между силами двух полов, тем сильнее ощущалась потребность в иных различиях. Эта неотделимость, можно сказать, имманентность иерархического принципа эндогамии, похожая на изнанку и лицо одного и того же, объясняет, может быть, почему брак (обряд соединения, сохранения идентичности и равновесия двух) является единственным обрядом перехода, который «не сопровождается никакой нечистотой»[107]107
Ibid. Р. 76.
[Закрыть]. Он дает индусу ощущение быть «символически и временно вырванным из его состояния [которое является иерархическим и управляется чистым/нечистым] и перенесенного в самое высокое состояние, для небрахмана – в состояние государя или брахмана, для брахмана – в состояние бога»[108]108
Ibid. P. 77.
[Закрыть]
Брак или отвращение[109]109
В этом фрагменте: degout.
[Закрыть]?
Сомнения Дюмона по отношению к этому термину и к той логике, которая с ним связана[110]110
Ibid. P. 156.
[Закрыть], то, что он отдает приоритет принципу иерархии, вовсе не обесценивают наше рассуждение. Мы лишь сделаем вывод, что принцип иерархии основывается одновременно на двух логических принципах: разделения, образец которого дает дихотомия чистого и нечистого, и сохранение равновесия между двумя полами эндогамией.
Это, как я говорила, Бутле рядом с социально-логическим принципом, устанавливающим кастовую систему («иерархия, наследуемая специализация»[111]111
См.: Essai sur le regime des castes, PUF, 1969. P. 3.
[Закрыть]), поставил внешне более психологический, а на самом деле связанный с логикой сакрального, то, что он назвал «отторжением»[112]112
Ibid. P. 3, 25, etc.
[Закрыть] или «отвращение»[113]113
Ibid. P. 18.
[Закрыть]. Он специально останавливается на «отвращении к пище»: являются ли касты «делом брака» или «делом приема пищи»? Этот неизвестный антрополог пытается в обзоре психологической археологии и психоанализа основание семейной организации, с одной стороны, и системы жертвоприношения, с другой. Что касается семейной организации, он ограничился намеками на «давние воспоминания о первом семейном опыте» или на «пережитки семейной религии» (противостоящей требованиям промышленности): они отвечают за те черты, которые уподобляют гильдию касте[114]114
Ibid. P. 36–37
[Закрыть]. Понятие отторжения не изучается ни Дюмоном, ни Бутле, даже если Бугле его употребляет в связи с брахманами, выводя его из табу, которое в любом обществе сопровождает жертвоприношение и которое в Индии «лишь усилено до его высшего предела». Жрец окружен табу, как он считает, потому, что он переносит «из оскверненного мира в сакральный неуловимые двойственные силы, одновременно самые опасные и самые благодатные из всех»[115]115
Ibid. P. 64.
[Закрыть].
Иерархия и не-насилие
Если же мы рассмотрим представление Бугле как развитие уточнений Дюмона, то увидим основополагающую для иерархического индийского строя оппозицию чистое/нечистое не только в ее всеобщем значении: но и как коррелят правил брака и религиозных традиций (жертвоприношения и их развитие). Тогда следует рассматривать оппозицию чистое/нечистое не как архетип, а как один код дифференциации говорящего субъекта как такового, код отторжения им другого для того, чтобы стать самодостаточным. Противопоставление чистое/нечистое представляет собой (когда оно не выражено метафорически) стремление к идентичности, к различию. Оно занимает место полового различия (и в этом смысле может показаться, как и в кастовой системе, параллельным установлению эндогамным браком бисексуальности). Отсюда, она выполняет функцию ценности разделения, присущей самой символической функции (жрец/жертва/Бог; субъект/вещь/смысл). Иерархия, основанная на чистом и нечистом, перемещает (или отрицает?) половое различие; она замещает насилие жертвоприношения ритуалом очищения. В итоге противопоставление чистое/нечистое не является вещью в себе, она следует из необходимости говорящего субъекта противостоять половым различиям и символическому. Индийская кастовая система позволяет провести это противоборство мягко. Она организует его без резкости – например, монотеистической – и с максимумом детальных предначертаний, защищающих субъекта, который от отвращения к отвращению постоянно с этим сталкивается. Наградой – социальная неподвижность и идентификация, того, что будет, в другом месте, субъективной автономией, с правилами отвращения, которыми расчерчена эта социально-символическая территория. Иерархия конституирует индийского человека (и может быть, любое говорящее существо, если оно не отказывается от своей принадлежности к символическому), но основывается на двух первичных несоответствиях: знаке (который прославляется жертвоприношением), половом различии (которое регулируется браком). Если это верно то, что чистое/нечистое занимает ту область, что у нас восходит к противопоставлению добро/зло, то граница, о которой идет речь, получает в кастовой иерархии и соответствующей ей, укрепляющей ее матримониальной регламентации глубокую логику говорящего существа, отделенного полом и языком. В Индии есть незаменимое преимущество раскрыть объектную логику этого отделения и разложить свойственным ей ненасильственным способом асимптоты[116]116
Матем.
[Закрыть]между сексуальностью и символизмом, уравновешивая различия в том, что касается сексуальности, умножая и до крайности детализируя отделения в том, что касается символического.
Царь Эдип или невидимое отвращение
Трагическая и прекрасная судьба Эдипа подытоживает и перемещает мифический позор, который полагает нечистоту по «ту другую» неприкасаемую сторону другого пола, в границы тела – этот покров желания – и, более фундаментально, в женщину мать – миф естественного изобилия. Чтобы в этом убедиться, надо последовать за Царем Эдипом и особенно за Эдипом в Колоне Софокла.
Государь, знающий, как отгадать логические загадки, царь Эдип тем не менее не ведал о своем желании: он не знал, что он является также тем, кто убил Лая, своего отца, и женился на Иокасте, своей матери. Оставаясь завуалированным, это убийство, как и это желание, было лишь оборотной, но, со всей очевидностью, солидарной стороной его логической и, следовательно, политической силы. Отвращение проявляется только тогда, когда подталкиваемый своим желанием знать к собственным границам, Эдип обнаруживает в своей сущности государя желание и смерть. Которые он приписывает полной, знающей и ответственной верховной власти. Решение тем не менее остается в Царе Эдипе полностью мифическим: это исключение, которое мы уже видели в логике других мифических и ритуальных систем.
Прежде всего пространственное исключение: Эдип должен отправиться в изгнание, покинуть собственное место, где он государь, отодвинуть позор так, чтобы Фивы не перешли границ общественного договора.
В то же самое время исключение зрения: самоослепление Эдипа, чтобы не переживать вида объектов его желания и его убийства (лица его жены, его матери, его детей). Если это верно то, что эта слепота – эквивалент кастрации, то она не является ни устранением, ни смертью. По отношению к ним, она – символический заместитель, предназначенный выстроить стену, укрепить границы, отодвигающие срам, который уже тем самым не признается, а описывается как чуждый. Эта слепота – пример расщепления: она отмечает, в том числе на теле, изменение от чистоты к позору – рубец, взявшийся из раскрытого и тем не менее невидимого отвращения. Из отвращения как из невидимого. Благодаря которому город и познание могут продолжаться.
Этот двусмысленный pharmakos
Остановимся еще на трагическом действии Царя Эдипа: не является ли оно итогом мифического варианта отвращения? Входя в нечистый город – в miasma – Эдип навлек на себя agos, позор, чтобы очистить город и стать katharmos. Очистивший, он тем самым и есть agos. Его отвращение держится за эту постоянную двусмысленность ролей, которые он взял на себя, сам того не зная, тогда когда он думал, что знает.[117]117
Ж.-П. Верная проанализировал эту логику в работе «Ambiguïté et renversement. Sur la structure enigmatique d'Oedipe roi», in J.-P.Vernant et P.Vidal-Naquet, Mythe et Tragédie, Paris: Maspero, 1973. P. 101.
[Закрыть] И именно эта динамика переворачиваний превращает его и в предмет отвращения, и в pharmakos, козла отпущения, который, изгнанный, дает возможность освободить город от позора. Сила трагедии в этой двусмысленности[118]118
См.: ibid., но и работы L. Gernet.
[Закрыть]: запрет и идеал сочетаются в одном персонаже, чтобы обозначить, что у говорящего существа нет собственного пространства, что он удерживается на шатком пороге силой какого-то невозможного ограничения. Если это логика pharmakos katharmos, которым представляется Эдип, приходится признать, что сила пьесы Софокла не только в этом расчете двусмысленности, но совершенно семантическим значениям, которые она дает противоположным терминам. Что за «значения»?
Фивы – это miasma из-за бесплодности, болезни, смерти. Эдип – это agos тем, что он убийством отца и инцестом с матерью нарушил и прервал цепь воспроизводства. Позор – это остановка жизни: (как) сексуальность без воспроизводства (сыновья Эдипа от инцеста погибнут, а дочери выживут лишь в другой логике – логике договора или символического существования, как мы это увидим в Эдипе в Колоне). Некоторая сексуальность, которая не имела в греческой трагедии того значения, что она имеет для современности, которая хвастается не удовольствием, а верховной властью и знанием, равнозначна болезни и смерти. Позор смешивается с ней: он состоит практически в том, чтобы дотронуться до матери. Позор – это инцест как нарушение пределов чистого.
Итак, где же проходит граница, первый фантазматический предел, который конституирует собственное говорящего и/или социального существа? Между мужчиной и женщиной? Или между матерью и ребенком? Может быть между женщиной и матерью? Женский ответ pharmakos-Эдипу – это Иокаста, сама как Янус, двусмысленность и перевертыш в одном лице, одной роли, одной функции. Янус, как, может быть, всякая женщина в той степени, в которой всякая женщина одновременно – вожделеющее, то есть говорящее, существо, и воспроизводящее существо, то есть отделяющая от себя своего ребенка. Эдип, может быть, совершил лишь то, что он женился на расщепленности Иокасты: тайна, загадка женственности. В конце концов, если кто и персонифицирует отвращение без всякой надежды на очищение, так это женщина, «всякая женщина», «женщина вся в этом»; мужчина, он обретает отвращение, когда познает ее и тем самым очищает. Иокаста, безусловно, – это miasma, agos. Но только Эдип является pharmakos. Он знает и верит в мифический мир, конституированный вопросом о различии (половом) и занятый разделением двух сил: воспроизводство/производство, женское/мужское. Эдип завершает этот мир, вводя его в отдельное существование каждого индивидуума, который неизбежно становится тогда pharmakos, универсально трагичным.








