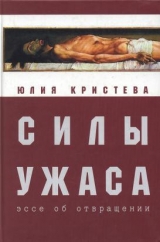
Текст книги "Силы ужаса: эссе об отвращении"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 17 страниц)
Боль/ужас
Девственник страха подобен девственнику сладострастия.
Селин. Путешествие на край ночи
Рассказ – прячет нежность
«В начале было чувство…», – часто повторяет Селин в своих произведениях и интервью. При чтении создается впечатление, что в начале была болезнь.
Боль как место субъекта. То место, где он появляется, где он отличает себя от хаоса. Невыносимое накаленное пограничное состояние между внутри и снаружи, я и другим. Схваченная первым ощущением, мимолетно: «боль», «страх», решающие слова, обозначающие ту грань, где смысл опрокидывается в чувства, «интимное» в «нервы». Бытие как жалкое существование.
Селиновский рассказ – это рассказ о боли и ужасе не только потому, что эти «темы» как таковые там присутствуют, но потому, что вся нарративная позиция, кажется, определяется необходимостью пройти через отвращение, интимной стороной которого является боль, а публичным лицом – ужас.
Понимание этого приходит с «русским формализмом», а также с рассказанными на кушетке биографиями: в целом, рассказ – это наиболее отработанная, при овладении синтаксисом, попытка поместить говорящее существо между его желаниями и запретами на них, короче, внутри эдиповского треугольника.
Но надо было дождаться «отвратительной» литературы XX века (той, которая восходит к апокалипсису и карнавалу) для того, чтобы понять, насколько тонка нить повествования, что постоянно угрожает разорваться. Так как, когда высказанная идентичность неустойчива, когда грань субъекта/объекта нарушена и когда даже граница между внутренним и внешним становится неясной, то первое обращение – к рассказу. Если он тем не менее продолжается, он меняет фактуру: его прямолинейность ломается, он состоит из междометий, загадок, сокращений, недомолвок, перекличек, обрывов… На следующей стадии неустойчивая идентичность рассказчика и среды, призванной его поддерживать, уже не повествует о себе, а кричит о себе или выкрикивает себя в максимальной по своей интенсивности стилистике (язык насилия, непристойности или риторики, приближающей текст к поэтическому). Рассказ отступает перед темой-криком, которая в своей попытке совпадения с накаленным пограничным состоянием субъективности, названного нами отвращением, является темой-криком боли-ужаса. Другими словами, тема боли-ужаса – решающее свидетельство этих состояний отвращения в рамках нарративной репрезентации. Если пойти ещё дальше к самим подступам отвращения, то не будет ни рассказа, ни темы, а переработка синтаксиса и лексики – поэтическое насилие, и тишина.
«Об отложенном гниении…»
Всё уже есть в «Путешествии»: боль, ужас, смерть, сообщник-сарказм, отвращение, боязнь… И эта бездна, где говорит странный разрыв между мной и другим – между ничем и всем. Две крайности, меняющиеся, впрочем, местами, Бардамю и Артур, и предоставляющие страдающее тело этому нескончаемому синтезу, этому путешествию без конца: рассказу между апокалипсисом и карнавалом.
«Это так началось. Я, я никогда ничего не сказал. Ничего. Артур Ганат, вот кто заставил меня говорить»[159]159
Эта цитата и далее: Voyage au bout de la nuit.
[Закрыть].«У меня было всё, только для меня, в этот вечер. Я был собственником, в конце концов, собственником луны, деревни, сильной боязни».
«Людей, и только их, следует бояться, всегда».
«Ни в одном из них [писем генерала полковнику] не было приказания окончательно прекратить это унижение? Итак, сверху не поступало знака презрения? Низкая ошибка?»
Разумеется, именно жестокости войны представлены как реальная причина этой боязни. Но ее неистовое квазимистическое постоянство поднимает ее из политической и даже социальной ситуации (в которой она оказывается вынужденно) – на другой уровень: боязнь становится знаком человечности, то есть, жажды любви.
«Не надо думать, что можно легко заснуть, хотя бы раз усомнившись во всём, в основном из-за стольких страхов, которые в тебя заронили».
«…ты, конечно, в конце концов, найдёшь эту штуку, которая заставляет их всех, всех этих мерзавцев, таких, какие они есть, так бояться, и она должна быть на краю ночи».
«Необычайное чувство доверия, которое у запуганных заменяет любовь…»
И ещё:
«Страх не лечится, Лола»,
как
«Лучшее из того, что можно сделать в этом мире, когда в нём находишься, – это из него выйти, не так ли? Безумно это или нет, страшно или нет».
Или эта мать, у которой только печаль, исполненная страха:
«…эта печаль внушала ей будто страх; она была переполнена сомнениями, которые не понимала».
И это определение обветшалого искусства, в конце концов, вполне ожидаемое, от которого Селин, к слову, отстраняется, чтобы высказать наконец истину искусства как неосознанный страх:
«Земным счастьем было умереть с удовольствием и в удовольствии… Остальное – это совсем ничего, это страх, в котором не решаются сознаться, это искусство».
Вначале была война, которая ввела меня в это состояние страха. В этом первоначальном состоянии «я» всегда слабое, напуганное перед лицом страшных угроз. Защищаться? Только вытравляя память, с помощью редукции, но не трансцендентальной, а мистической. Мистической: слово, которое употребляет Селин (путешествие в тело Лолы – «приключение мистически анатомическое»); «действия их [людей, которых боятся] больше не воздействуют на вас силой того мистического грязного притяжения, что ослабляет вас и заставляет вас терять время». Это состоит в том, чтобы не возвышать ни одно из двух, а ставить их друг против друга, чтобы они осудили друг друга по очереди и уничтожили себя оба одновременно в одном отвращении. С одной стороны, падение; с другой – рассуждение, которое я поддерживаю и которое удерживает меня. Природа, тело, внутреннее. Против сознания, других, явлений. Истина на стороне падшего: оголенная, без прикрас, без фальши, гниение и смерть, боль и болезнь, ужас.
«Истина этого мира – это смерть».
«…она [его мать], поскольку она верила словам, которые ей говорили, чтобы меня похитить, была хуже той суки. Сука, по крайней мере, доверяет лишь тому, что она чувствует».
«Раздетая догола, перед вами окажется потрепанная кошелка, кичливая и с претензиями, которая умудряется еще что-то попусту болтать то по одному, то по другому поводу».
«Можно было быть естественным, она находила меня таким же отвратительным, как все естественное, и это её оскорбляло».
А вот это по поводу одного писателя:
«Человек, близкий он или нет, представляет собой в конечном счете не что иное как отложенное гниение».
Что тем не менее заставляет её существовать, эту истину ужаса и болезни, слабости и упадка, так это конфронтация с другим понятием – могучим, богатым, которого боятся: «Нас двое».
«Но когда слаб, что даёт силу, так это даже малейшее принижение достоинств, которые мы еще склонны приписывать тем людям, которых боимся больше всего. Надо научиться их видеть такими, какие они есть, хуже, чем они есть, то есть, со всех точек зрения. Это освобождает, это высвобождает нас и защищает нас лучше, чем мы можем себе представить. Это нам даёт другого себя. Нас двое».
Однако в этом завораживающем противостоянии войны без пощады двое оказываются с одной и той же стороны, объединённые в унижении; тогда речь оборачивается ядом, разговор – испражнением, это край ночи.
«Когда останавливаются, например, на способе формирования и проговаривания слов, то это не удерживает от убийственного произнесения фраз с пеной у рта. Это сложнее и тягостнее, чем наше механическое усилие испражнения разговора».
Неужели по логике этого знака равенства между высоким и низким, между тем же и другим никакого решения, никакого спасения? Несмотря ни на что, мир Селина периодически и как бы снисходительно насмехаясь, дает себе выход. Иногда это женщины, которые не испытывают отторжения, но, может быть, только воображают его. Иногда возникает другое решение – невозможное, осуждаемое, и не менее ветхое – которое состояло бы в верности Идее, единственной идее, гаранту и противовесу всеохватывающему отвращению. И наконец, тот путь, который Селин избирает для себя самого: придерживаться ужаса, но на самой короткой дистанции, бесконечно малой и огромной, которая, из самых глубин столь существенного для Селина унижения, выделяет и вписывает возвышенную любовь к ребенку, или стоящее над сексуальностью и аналогичное ей письмо-сублимацию.
На краю: женщины.
«Женщины по своей природе слуги. Но они, возможно, в большей степени воображают отторжение, чем его ощущают; это своего рода утешение, которое мне остается. Возможно, я предполагаю это в той степени, в какой я низок. Возможно, именно в этом мой талант».
Спасительное Единство: есть одна Идея, смехотворная и невозможная.
«Эти мои собственные идеи, они скорее кочевали в моей голове со всем этим пустым пространством между ними, это были как будто маленькие свечки, совсем не гордые и мерцающие, поскольку вынуждены дрожать всю жизнь посреди омерзительного и ужасающего мира. […] но, в конце концов, нельзя было предположить, что когда-нибудь мне, это мне-то, как Робинзону, удастся заполнить свою голову одной единственной идеей, но зато совершенно замечательной мыслью, гораздо более сильной, чем смерть…»
Возвышенное, наконец, с его двумя целомудренными лицами. С одной стороны:
«Альсид эволюционировал к возвышенному в своё удовольствие и даже, можно добавить, фамильярно, он тыкал ангелам, этот малый, и все для него было пустяк. Даже не догадываясь об этом, он заставил одну маленькую девочку, дальнюю родственницу, страдать долгие годы, погубил в этой монотонности ее бедную жизнь…».
С другой стороны: сублимация в музыке, которую многие пропускают и которую Селин будет рассматривать на протяжении всего своего письма:
«Он не мог ничего сублимировать, он хотел только уйти, унести своё тело отсюда. Он не был дешевым музыкантом. У него был баритон и ему надо было, словно медведю, всё разнести на своём пути, чтобы закончить».
«Печалиться – ещё не всё, надо бы суметь возобновить музыку, отправиться дальше на поиски печали».
Истории головокружений
Но наиболее нормальным решением, одновременно простым и общедоступным, передаваемым, разделяемым – это есть, будет рассказ. Рассказ как повествование боли: кричащие страх, неприятие, отвращение успокаиваются, сцепленные в историю.
Историю, правдоподобие, миф Селин ищет на колющем острие своей боли. Это знаменитая история его ранения в голову во время Первой Мировой, ранения, на серьёзности которого он настаивал как перед журналистами, так и в своих сочинениях, что, по мнению большинства биографов, сильно преувеличено Селином. Боли в голове, в ухе, в руке. Головокружения, шумы, гудения, рвоты. Кризисы, взрывы которых заставляют думать о наркотиках, об эпилепсии… Уже в «Смерти в кредит»:
«Первые звонки начались с войны. Безумие, оно преследовало меня…так, чем дальше, тем больше, в течение двадцати двух лет. Это коварно. Оно испробовало пятнадцать сотен шумов, огромный гам, но я пришел в исступление быстрее, чем оно, я опустил его, я сделал его на „финишной прямой“ […] Моя великая соперница – музыка, она застревает, она портится в глубине моего уха… Она не прекращает агонизировать… […] Орган Вселенной – это я… Я все предоставил, мясо, разум и дыхание… Частенько у меня истощённый вид. Идеи спотыкаются и волочатся по грязи. Мне неудобно с ними. Из беспорядка я делаю оперу. […] Я – начальник дьявольского вокзала. […] Дверь в ад в ухе – маленький атом пустоты».
Боль говорит здесь своё слово – «безумие» – но не задерживается на нём, так как магия письма, этого добавления к сказанному, уносит тело, тем более больное тело, по ту сторону смысла и меры. По ту сторону рассказа головокружение обретает свой язык: это музыка как дыхание слов, как ритм фраз, а не только как метафора воображаемой соперницы, где сливаются голос матери и смерти:
«Это красивый саван, расшитый историями, и его следует показать Богоматери».
Рассказ, напротив, всё время связан пуповиной с Богоматерью – соблазнительный и отвратительный объект повествования.
Впрочем, одна из самых отвратительных и унизительных в литературе сцен, разворачивающаяся на волнующемся море Ла Манша, запущена в ход именно матерью. Мы здесь далеки от жужжащей боли, воспетой музыкой. Вывернутое наизнанку тело, возвращённое из глубины внутренностей, кишки, вернувшиеся в рот, пища и рвота смешаны, обмороки, ужасы и злые воспоминания.
«Мама, сейчас она обрушится на поручни… Ее снова полностью вывернет… Ее вырвало морковью… куском сала… и целым хвостиком барабульки…».
«Мы захлебнулись в канализации! Мы удавились в сортире… Но они не перестают храпеть… Я даже сам не знаю, может, я умер».
Человечество, захваченное врасплох в его животности, барахтающееся в том, чем его вырвало, как бы для того, чтобы приблизиться к тому, что для Селина важно, важнее всяких «фантазий»: насилие, кровь, смерть. Никогда, возможно, даже у Босха или у самого мрачного Гойи, человеческая «природа», обратная сторона «осмысленного», «цивилизованного человеческого», «божественного», не была показана с такой беспощадностью, с такой малой долей снисходительности, иллюзии или надежды. Ужас перед адом без Бога: так как никакая инстанция спасения, никакой оптимизм, даже гуманистический, не проявится на горизонте, вердикт вынесен, и без возможного прощения – игривый вердикт письма.
«Лондонский мост» – не меньший разоблачитель этой войны с внутренностями, возведенными в этот раз на детородный уровень (генерал Дез Антрэй появляется уже в «Путешествии»), каким оказывается внутренняя боль:
«Это головокружение!.. Это недомогание!.. Я жертва лихорадки!.. Мне плевать!.. Я крепко зажмуриваю глаза… Я вижу, всё-таки… красное и белое… полковник Дез Антрэй!.. Стоит в стременах!.. Вот это спектакль воспоминания!.. Я снова на войне!., чёрт возьми!.. Я снова герой!.. И он тоже!.. Замечательное воспоминание!.. Я вдруг вытягиваюсь на софе… Я вызываю у себя приступ!.. Я снова вижу Дез Антрэй, моего любимого полковника!.. Он не был ненормальным, этот тип!.. Он стоял в стременах!.. ноги в руки… вверх тормашками!.. целился в солнце!».[160]160
Эта цитата и далее: Le Pont de Londres (Guignil's Band, II), Gallimard, 1964.
[Закрыть]
Боль, в конечном итоге шреберовская, которую только юмор и стиль вытаскивают из памяти фрейдовского невротика на самые жестокие страницы современной литературы.
Боль и желание: дебильность
Ничего победоносного в этой боли; это не ода: она ведет лишь к идиотии. Дебильность – та постоянно присутствующая у Селина область, где боль «интимного», одновременно физическая и психическая, связана с сексуальной распущенностью. Ничего порнографического, ничего притягивающего или возбуждающего в этом обнажении инстинктов. Секс, показанный на этом чёрном фоне, где желание тонет во влечении или аффекте, где репрезентации заволакиваются дымкой, значения исчезают, это опьянение, другое слово для обозначения дебильной боли.
«Я достиг предела… […] Крошка!.. я не хотел больше галлюцинаций… Я знал, как это меня забирало… у меня теперь был опыт… совсем немного алкоголя… достаточно было одной рюмки… и потом небольшая дискуссия… кто-то, кто мне противоречил… я заводился… всё было кончено!.. Всегда из-за моей головы, это было записано в моем волчьем билете!..».
«Все боли охватывают меня… рвут меня на куски!., лоб, руки, уши… я слышу поезда, которые меня переезжают!.. свистят, гудят мне в голову!.. Я ничего не хочу больше знать, чертовская передряга!.. Я сдаюсь!.. Я цепляюсь за поручни… Небольшой обморок… Я обнаруживаю себя совершенно дрожащим перед нею… Ах, какой испуг!., какое впечатление!.. Любит ли она меня немного?.. Я задаю себе этот вопрос… Я его мусолю с разных сторон… Я так взволнован!.. Я не соображаю, куда иду!.. я на всем спотыкаюсь… я не вижу ничего перед собой… ни витрины, ни людей… ни даже тротуары, я спотыкаюсь, толкаюсь… я собираюсь, я в экстазе… феерия от её присутствия… […] Я не вижу ни солдата, который меня обвиняет, что я ему стучу по ногам… ни кондуктора, который меня встряхивает… который меня донимает в моём видении…».
Опошленная непристойность
No man's land головокружения, которая соединяет боль и секс, предшествует неприятие гниения и испражнений, Селин говорит об этом так же безразлично, так же естественно, как он описывает боль или дебильность. Пусть здесь сыграла свою роль его медицинская практика, пускай. Но холодное ликование, несколько отстраненное приручение отвращения заставляют думать не столько о перверсии (садо-мазохистской), сколько о некотором периоде мучительной жизни в замке-крепости, а также о наиболее «пограничных» ритуалах мировых религий.
Как если бы письмо Селина позволяло себе лишь выступать против этого «совсем другого» в значении: как если бы оно не могло заставить это «совсем другое» существовать как таковое, а потом отстраниться от него и исчерпать его силы; как если бы оно могло родиться только от этого противостояния, напоминающее религии позора, унижения и греха. Согласно этой установке беспорядочный рассказ в его простой биографической последовательности оказывается одновременно расколот и размечен этими островками соблазна: бессвязность находит своё сцепление в постоянстве отвращения.
Это навязчивость отсылает к гниению, будь это припоминание об экскрементах, обнаруженных несчастным отцом в качестве оборотной стороны школьного успеха его ребёнка[161]161
Эта цитата и далее: Mort a credit.
[Закрыть], будь это анальная грязь, на которой фиксируется интерес к внутреннему бурлению тела, о котором Фердинанду не нужно будет спрашивать, мужское оно или женское.
«Я всегда так плохо подтирался и всегда вдогонку получал пощёчину… Которой я торопился избежать… Я оставлял дверь сортира открытой, чтобы слышать, когда кто-то зайдет… Я какал, как птичка между двумя бурями…».
Гниение: привилегированное место смешения, заражения жизни смертью, место зачатия и конца. Возможно, апогей этого – в апокалиптическом описании земли, подвергнутой гниению из-за личинок мясной мухи учёного Курциала де Перейреса. В научных опытах изобретателя Генитрона, далеких от увековечения жизни, пища, картошка, начинает лишь смердеть («труп или картошка») и протухает насквозь:
«Это больше, чем пустыня гнилья. Хорошо! Хорошо! Дух брожения!.. […] Ты хочешь, чтобы я тебе сказал, подлюга? А? Я тебе это сейчас скажу… это всё, что надо пережить…».
Однако именно человеческий труп является местом максимальной концентрации отвращения и соблазна. Все рассказы Селина сходятся на месте убийства или смерти – «Путешествие», начинающееся Первой Мировой, на него указало, «Ригодон» и «Север», проходящие через опустошённую Второй мировой Европу, ставят там фермату. Современная эпоха, мастерица в убийствах, без сомнения, соответствует этому описанию, и Селин остается самым значительным гиперреалистом жестокостей нашего времени. Но здесь мы довольно далеки от военного репортажа, каким бы ужасным он не был. То, за чем гоняется, что открывает, выставляет напоказ Селин, так это любовь всеми фибрами к смерти, опьянение перед трупом, тот другой, каким я являюсь и которого никогда не настигну, это ужас, с которым я общаюсь исключительно с другим полом с тем сладострастием, которое живет во мне, доводит меня до исступления и выносит меня к той точке, где моя идентичность опрокидывается в невменяемое состояние. В одной из финальных сцен «Смерти в кредит» мы находим головокружительное, апокалиптическое и гротескное проявление сладострастия перед лицом смерти. Обезумевший кюре Флёри расчленяет труп Курциала:
«Он погружает пальцы в рану… Он вводит обе руки в мясо… Он проникает во все дыры… Он разрывает края!.. лёгкие! Он роется!.. Он запутывается… Его запястье защемлено костями! Всё хрустит… трясётся… Он бьется, как в западне… Что-то вроде кармана лопается!.. Сок вытекает! струится повсюду! Все в мозгах и крови!.. Это брызжет вокруг».
Резня в жилах
Письмо Селина черпает свою ночь и свое решающее основание в смерти как высшем местопребывании боли, в агрессивности, её провоцирующей, в войне, которая к ней приводит. Отвращение заканчивается, убийство тормозится отвращением.
«Людям нет необходимости быть пьяными, чтобы опустошить небо и землю! У них резня в жилах! Это чудо, что они сохранились с тех самых времен, как они пытаются изничтожить друг друга. Нехорошие граждане, преступное семя, они думают только о ничто! Повсюду им видится красное! Не нужно настаивать, здесь конец поэмам…»[162]162
Le Pont de Londres. P. 406.
[Закрыть]
Конечно, но только не текстам Селина, наоборот.
На ум приходят все покушения на убийство, множество преступлений: старой Генруй, Фердинанда (в «Путешествии»…).. Постоянные столкновения со смертью в «Лондонском мосту», где «научный» эксперимент смешивается, будто бы в скорбном карнавале, со смертельным риском и с убийственным насилием в бистро, на оргиях, в метро… Можно припомнить хрипы Титуса в «Guignol's Band»; душераздирающие крики вокруг его умирающего тела, которое барахтается между двумя телами женщин, клиенткой и служанкой, знаками невероятной оргии, перешедшей в убийство:
«Он погребен здесь в своих шелках! Переполненный своей рвотой… блевотина… он еще булькает!., его глаза вращаются… застывают… закатываются… Ах! Как ужасно смотреть!., и потом – плуф!.. Он багровеет! Он, такой бледный, до последнего!.. У него подступает доверху большими комками… полный рот… он делает усилие…».[163]163
Эта цитата и далее: Guignol's Band, I, Gallimard, 1952.
[Закрыть]
Как апогей его болезни, астмы.
«…когда его это забирало, эта паника!., надо было видеть его глазищи!.. ужас, который его охватывал!..».
Апокалиптическая сцена достигает кульминации, когда в оргию вмешиваются наркотики, как и в эпизоде пожара, с Ужасающим («Guignol's Band»).
«Я вижу широкую картину битвы!.. Это видение!., кино!.. Ах! это будет так необычно!., мрачнее, чем трагедия!.. Здесь есть дракон, который их всех сгрызёт! Он им всем отрывает задницы… внутренности… печень… Я вижу тебя, Боль! […] Я ему вырву ноздри, этому хаму!.. Я не терплю педиков!.. А если я ему вырву органы!.. Ах, это было бы неслыханно!.. Я себе представляю!.. Я себе представляю!..».
А потом видение убийства преобразуется в возвышенное, апокалипсис убийства показывает своё лирическое лицо, прежде чем всё гибнет в рвоте, в проглоченных в качестве последней пищи деньгах, в переработанных испражнениях, и прежде, чем огонь, действительно апокалиптический, не опустошит все, после убийства Клабена, совершенным Боро и Селином-Болью:
«…всё крутится вокруг шарика!., как карусель… водяная лампа… я вижу вещи внутри!.. Я вижу гирлянды… я вижу цветы!.. Я вижу нарциссы… Я говорю это Боро! Он мне рыгает!.. Он между Дельфиной и стариком!.. Они не прекращают своих сальностей!., здесь!.. Они у меня вызывают омерзение!.. Другой, который выпятил все свои денежные сбережения!., и как он сам себе не противен!., вся мелочь в сумке!., он доволен…».
Фердинанд Болезный: убийца
Фердинанд Болезный, тот, который говорит от первого лица, здесь выступает как один из основных протагонистов убийства. Всегда это он, «Я», тот, кто в «Guignol's Band» сбрасывает под поезд метро своего преследователя Мэтью. Эта сцена, запускающая круговорот преследователь-преследуемый, преобразует убийство из предвидения в предыдущей сцене в более динамичную рентгенограмму смертоносного движения. Истинное потаенное царство влечения к смерти находит свое естественное место во внутренностях метро, селиновском эквиваленте дантовского ада. Убийство как подземный двойник осознанного существования в подлом мире.
«Моя кровь совершила только один круг!., я больше не дышу!.. я больше не двигаюсь!., я загипнотизирован!.. Он смотрит на меня!.. Я смотрю на него! Ах! я все-таки думаю!.. Честно говоря, я так думаю!.. Это карлик!., тут против меня!.. Это он […] Это всё готовится в одиночку!., мои размышления… я концентрируюсь… концентрируюсь… я не обманываю совсем… хладнокровнее… […] Слышно этот грохочущий состав… он идет!., тот, в темноте… в дыре… справа от меня… Хорошо!.. Хорошо!.. Хорошо!., состав подходит. Он жутко гремит, дробит, раздувается… „Бррр Бррррум!..“ Хорошо! Хорошо! Хорошо! Уже близко… Я смотрю в лицо Мэтью… […] Плуф! Пинок под зад, который я ему посылаю! карлик! в воздух!.. Гром обрушивается, проходит над ним!».
Вторая мировая
В то же время у Селина именно на войне апокалиптическая лавина агрессивности и смерти достигает и превосходит ту, что мы находим у Гойи или Босха. Война мерзкая, но быстро пройденная в «Путешествии», война зловещая и карнавальная – в «Лондонском мосту» и в «Guignol's Band».
«Я убийца! Господин Майор! Я убил их десяток!., я их убил сотню!.. я убил тысячу!., я их всех убью в следующий раз!.. Господин Майор, пошлите меня снова!., моё место – на фронте!., на войну!..»
Без войны трудно представить себе селиновское письмо; кажется, что она – его спусковое устройство, даже условие; у неё та же роль, что и у смерти Беатрисы, которая влечёт за собой Vita Nuova, или роль избежания смерти Данте, которой начинается первая песнь «Божественной Комедии». Трилогия, где развёртывается ужас Второй мировой войны, «Из замка в замок», «Север» и «Ригодон», лучше всего схватывает эту рану, которую Селин не прекращает ощупывать, индивида в обществе. Социальная и политическая фреска, переполненная неприятием и сарказмом по поводу политики, которую, впрочем, Селин, по-видимому, одобряет (мы к этому вернёмся), переполненная предательствами, эскападами, убийствами, бомбардировками и разрушениями: самая разрушительная агрессивность здесь внезапно показывает в дьявольском наслаждении свою унизительную дебильную составляющую – отвратительная цель Истории. Область селиновского письма – всегда эта соблазнительная грань декомпозиции-композиции, боли-музыки, унижения-экстаза.
«…пусть они гниют, воняют, сочатся, стекают в сточную канаву, но они спрашивают, что они смогут делать в Женевильет? Чёрт побери! В слив! В сточную канаву!.. […] настоящий смысл Истории… а на чем мы остановились! прыгая сюда!.. и хоп! Туда!.. ригодон!.. вот черт повсюду! очистки вивисекции… дымящаяся содранная кожа… чёртовы гнилые соглядатаи, пусть все начнется снова! Вырывание внутренностей руками! пусть все услышат крики, все хрипы, пусть всякая нация получит свое…»[164]164
Эта цитата и далее: Rigodon.
[Закрыть]
По поводу этой апокалиптической музыки, какой является трилогия, напомним бомбардировку Гамбурга, где в грохоте, вони и хаосе неистовство отвращения переходит в ужасающую красоту:
«…зелёные розовые языки пламени плясали кругом… и ещё кругом!.. к небу!.. нужно сказать, что эти улицы в зелёных… розовых… красных… пламенеющих развалинах выглядели на самом деле, как на настоящем празднике, гораздо веселее, чем в их обычном состоянии, шершавые угрюмые кирпичи… они никогда не бывают веселы, только в момент Хаоса, возмущения, землетрясения, мирового пожара, из которого выходит Апокалипсис…»
«…я вам передавал это ощущение, три или четыре раза Собор Парижской Богоматери… […] день спускался сверху, совсем сверху… из дыры в кратере… ощущение, я вам повторяю, как от гигантского нефа корабля из глины… […] Гамбург был разрушен до жидкого фосфора… это было как бы гибель Помпеи… всё было охвачено огнём, дома, улицы, покрытия дорог и люди, бегущие повсюду… даже чайки на крышах…»
Святое и история, Собор Парижской Богоматери и Помпеи, смысл и право производят на свет здесь, в этом гигантском разоблачении боли и убийства, во Второй Мировой войне, свою мрачную изнанку. И эта другая, всемогущая сторона хрупкой культуры является, с точки зрения Селина, истиной человеческого рода; для писателя это точка отсчёта письма, смысловой узел. Пусть видение Селина – апокалиптическое видение, пусть он ставит мистические акценты в своей фиксации на Зле как истине невозможного Смысла (Добра, Права) – пусть. Однако если апокалипсис обозначает, этимологически, видение, то его надо воспринимать по противопоставлению с реконструкцией философской истины, алетейи. Нет такого апокалиптического существа, изборождённого, изнемогающего, никогда не полного и не способного себя обосновать как таковое, которое взрывалось бы в пламени или гремело бы в криках всемирного крушения. Таким образом, Селин не предъявляет нам философское «зло». Никакая идеологическая интерпретация не может, впрочем, опираться на селиновскую конструкцию: какой принцип, какая партия, какой лагерь, какие классы выходят не пострадавшими, то есть идентичными сами себе, из этого тотального критического пожара? Боль, ужас и их соединение в отвращении нам кажутся наиболее адекватными указаниями такого апокалиптического видения, каким является письмо Селина.
Рассказ? Нет, видение
Видение, да, в том смысле, что задействованный здесь целиком взгляд разбит ритмическими голосовыми шумами. Но такое видение, что противостоит всякой репрезентации, если она является желанием совпасть с принятой идентичностью представляемого. Видение отвращения, по определению, это знак невозможного объекта, граница и предел. Фантазм, если хотите, но он вводит в знаменитые первофантазии Фрейда, в Urfantasien, сверхгрузка влечения к ненависти или смерти, препятствующая кристаллизации образов в виде образов желания и/или кошмара, заставляющая их взорваться в чувстве (боль) и в отчуждении (ужас), в поражении зрения и слуха (огонь, крик). Апокалиптическое видение будет, таким образом, взрывом, или невозможностью не только рассказа, но также и Urfantasien под давлением влечения, освобожденного несомненно «первичной» нарциссической раной.
Когда он описывает апогей отвращения – и в этом уникальная высшая цель литературы – в сцене родов, Селин разворачивает заключенный в ней фантазм: ужас видеть, что представляет собой за закрытыми дверями невидимого тело матери. Сценой сцен здесь является не первосцена, а сцена родов, инцест наизнанку, разорванная идентичность. Роды: суммирование резни и жизни, горячая точка сомнения (внутри/снаружи, я/другой, жизнь/смерть), ужас и красота, сексуальность и грубое отрицание сексуального.
«…и я был акушером, я был, можно сказать, захвачен трудностями прохождений, осмотрами узких мест, эти столь редкие моменты, когда природа позволяет наблюдать себя в действии, столь тонком, и как она задерживается и решается… момент жизни, осмелюсь сказать… весь наш театр и изящная словесность в этом и вокруг этого… набившее оскомину пережевывание!., оргазм мало интересен, весь треп гигантов пера и кино, тонны рекламы никогда не могли по достоинству оценить два три маленьких толчка крестцом., сперма работает слишком незаметно, слишком интимно, все ускользает от нас… роды, вот на что стоит посмотреть!., проследить!., по миллиметру!»
Мы тоже здесь, с Селином, у дверей женского, у дверей отвращения в том смысле, о котором мы говорили выше, в самой откровенной радиоскопии «базовых влечений» фашизма. Так как именно эта экономия ужаса и боли в их сверхлибидинальном выражении схватывается, рационализируется и приводится в действие нацизмом и фашизмом. Так, эту-то экономию не смогли одолеть приведенные в действие эпифеноменами желания и удовольствия ни теоретический разум, ни легкое искусство. Это вожделеющее искусство смогло предложить лишь перверсивное отрицание отвращения, которое, будучи лишено среди прочего возможности религиозной сублимации (особенно в ситуации упадка религиозности между двумя войнами и своеобразной тактики нацистов и фашистов), само увлеклось феноменом фашизма. Примером такой литературы может быть Дрие ла Рошель. На изнанке его солидарности – искусство вытеснения, александристское и патриотическое, искусство морального сопротивления, одновременно решительное и ограниченное. Но какая реалистическая (или социалистически-реалистическая) литература может соответствовать ужасу Второй мировой? Селин-то говорит прямо из самого этого ужаса, он компрометирует себя этим, он внутри. Посредством своего письма он заставляет его существовать, он далек от того, чтобы его разъяснять, он кидает ему эту тряпку, свой текст: тонкая, но хорошо сплетенная сеть, которая не может нас защитить от всего на свете, врезается и увлекает нас целиком.








