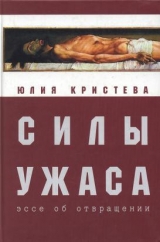
Текст книги "Силы ужаса: эссе об отвращении"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 17 страниц)
В ходе этой формирующей войны человеческое существо благодаря миметизму становится гомологичным другому для того, чтобы стать самим собой. Однако миметизм, в конечном счете, и логически, и хронологически вторичен. «Я» не существует вообще до того, как «я» существует похожее на, а лишь разделяет, отторгает, отвращает. Отвращение в этом широком понимании субъективной диахронии – предварительное условие нарциссизма. Отвращение сосуществует с последним и непрерывно ставит под сомнение его состоятельность. Более или менее складная картина, где я отражается или признает самого себя, строится на отвращении. Отвращение раскалывает ее, когда сдается всегда стоящее на страже вытеснение.
«Хора», вместилище нарциссизма
Обратимся к этой апории Фрейда – так называемому первовытеснению. Любопытное первоначало, в котором то, что вытесняется, на деле не фиксируется, а то, что вытесняет, всегда берет силу и свой авторитет от того, что кажется вторичным: языка. Мы говорим здесь не об изначальной природе функции символического, а о ее неустойчивости там, где она наиболее значима, – в запрете на материнское тело (защита против аутоэротизма и табу на инцест). Здесь, конституируя странное пространство, которое мы вслед за Платоном (Тимей, 48–53) назовем вместилищем, или «агорой», властвует влечение.
Во благо или против меня, во имя жизни или смерти – влечения существуют для того, чтобы, конституируя «то, что еще не я» и «объект», соотнести их между собой. Это движение, предполагающее дихотомию (внутри – снаружи, не-я – я) и повторение, тем не менее оказывается центростремительным: оно стремится поставить Я в центр некой солнечной системы объектов. Возвращаясь, движение влечений становится в конце концов центробежным, цепляясь при этом за Другого и представляясь ему как знак, чтобы произвести впечатление. Это то, что, собственно говоря, выходит за пределы.
Но начиная с этого момента – когда я признаю свое изображение как знак и я теряю все свои краски, чтобы означать себя, – возникает иной порядок. Знак вытесняет хору и ее вечное возвращение. Единственным свидетелем этого «первородного» сражения останется лишь желание. Но желание экспатриирует Я к другому субъекту и уже не воспринимает требования Я как нарциссические. Нарциссизм возникает как регрессия отступления от другого, возвращение в убежище самосозерцания, консервативности, самодостаточности. На деле, такой нарциссизм никогда не бывает похож на незамутненное отражение греческого бога в спокойной воде. Конфликты влечений будоражат ее на глубине, смущают ее поверхность и вызывают все, что в данной системе знаков относится к отвращению, не смешиваясь с ним.
Отвращение, таким образом, – что-то наподобие нарциссического криза: оно свидетельствует об эфемерности того состояния, которое из бог знает почему возникшей осуждающей зависти назвали «нарциссизмом»; более того, отвращение распространяет на нарциссизм (на его предмет и на понятие) свой характер «видимости».
Однако достаточно, чтобы запрет, это может быть сверх-Я, перечеркнул желание, направленное на другого, – или этот другой, как этого требует его положение, остался неудовлетворен – для того чтобы желание и его означающие вновь возвратились к «исходному», смущая тем самым воды Нарцисса. В этот самый момент нарциссического смущения (состояние вообще-то постоянное для говорящего человека при условии, что он слышит свою речь) вторичное вытеснение, вооруженное символическими средствами, стремится использовать первовытеснение к собственной выгоде, тем самым открывая его существование. Архаичный порядок вновь является на свет, означает, вербализуется. Его стратегии (отбрасывающие, разделяющие, повторяюще-отвращающие) находят наконец свое символическое существование, перед которым смолкают все логики символического, суждения, умозаключения, демонстрации, доказательств и т. д. Именно здесь объект перестает быть обусловленным, осмысленным, отчужденным: он предстает… отвратительным [объектом].
Нарциссический криз, открывающий истинное лицо отвратительного, вызван двумя причинами, которые кажутся на первый взгляд противоречащими друг другу. Это чрезмерная строгость Другого, который отождествляется с Богом и Законом. И несостоятельность Другого, которая становится очевидной в крахе объектов желания. В обоих случаях отвратительное появляется для того, чтобы поддержать «я» в Другом. Отвратительное – насилие скорби по безвозвратно потерянному «объекту». Отвратительное ломает стену, выстроенную вытеснением и его суждениями. Оно отсылает мое Я к тем мерзким границам, от которых Я, чтобы обрести существование, отделилось, – оно отсылает к не-Я, к влечению, к смерти. Отвращение – воскрешение после смерти (моего Я). Это алхимия, превращающая влечение к смерти во взрыв жизни, в новое значение.
Перверсивное или художественное
Отвратительное и перверсия имеют много точек соприкосновения. Чувство отвращения, которое я испытываю, цепляется за сверх-Я. Отвратительное – это перверсивное, так как оно не отказывается, но и не берет на себя выполнение запрета, правила или закона; оно их обходит, сбивает с толку; для того, чтобы, попользовавшись ими и истрепав их, так и не признать их. Оно убивает во имя жизни: это прогрессивный деспот; оно живет в услужении у смерти: это прирожденный торговец; оно пользуется страданиями другого ради собственного блага: это циник (и психоаналитик); оно устанавливает свою нарциссическую власть, словно бездельник, выставляющий напоказ свои беды: это художник, занимающийся искусством как «бизнесом»… Коррупция – общеизвестная и наиболее очевидная его черта. Лицо социализации отвратительного.
Чтобы этот промежуток перверсии отвращения был зафиксирован и устранен, необходимо нерушимое единение с Запретом, с Законом. Религия, Мораль, Право. Разумеется, всегда более или менее произвольные; неизбежно угнетающие, скорее более, чем менее, и господствующие все с большим трудом.
Современная литература не может их заменить. Она, скорее, списывается с уязвимости перверсивных положений или положений сверх-Я. Она констатирует невозможность Религии, Морали, Права – их заговора, их абсурдной и необходимой видимости. Она использует их, обходит их и забавляется ими так же, как и перверсия. Однако она дистанцируется от отвратительного. Писатель, очарованный отвратительным, воображает себе его логику, проектирует себя, интроектирует и соответственно извращает язык – и стиль, и содержание. Но с другой стороны, так как чувство отвращения одновременно судья и подручный отвратительного, такое же место занимает и литература, которая противостоит ему. Можно также сказать, что с э-той литературой осуществляется переход дихотомических категорий Чистого и Нечистого, Запрета и Греха, Морали и Аморальности.
Для субъекта, прочно обосновавшегося в сверх-Я, такое письмо – обязательный участник характерного для перверсии промежутка; и из-за этого она в свою очередь провоцирует отвращение. Тем не менее именно смягчение сверх-Я вызывает к жизни эти тексты. Их написание предполагает возможность вообразить отвратительное, то есть представить себя на его месте и отстраниться лишь игрой слов. Лишь после смерти писателю отвращения, может быть, удастся избежать участи выродка, подонка или отвратительного. И тогда его или забудут, или отнесут к разряду недостижимого идеала. Смерть становится, таким образом, главным хранителем в нашем воображаемом музее; она защитит нас в той последней инстанции этого отвращения, которое современная литература берется растратить, проговаривая его. Защита сводит счеты с отвращением, но также, вероятно, и с постыдным, возбуждающим смыслом самого факта существования литературы, повышенной до святости, которая оказывается неполноценной в этой своей специализации. Смерть, таким образом, наводит порядок в нашем современном мире. Очищая литературу (и нас от нее), она становится составляющим нашей мирской религиозности.
Каково отвращение – такова и святость
Отвращение сопровождает все религиозные построения и возникает каждый раз во время их крушения, чтобы проявиться по-новому. Можно говорить о множестве конфигураций отвращения, которые соответствуют типам святости.
Отвращение появляется как обряд позора и осквернения в язычестве, характерный для матриархата или его пережитков. Оно принимает вид исключения субстанции (питающей или сексуальной) и сосуществует со священным, поскольку оно его и устанавливает.
Отвращение продолжает свое существование как исключение или табу (пищевое или другое) в монотеистических религиях, в частности в иудаизме, но скатывается к скорее «вторичным» формам, таким как трансгрессия (по отношению в Закону) в той же монотеистической экономике. Наконец, в христианском грехе оно находит диалектическую переработку, интегрируясь в христианское Слово в качестве угрожающей, но всегда названной, всегда схватываемой переменной.
Различные модификации очищения от отвратительного – различные формы катарсиса – и составляют историю религий и находят свое завершение в искусстве, которое является катарсисом в высшей степени – по эту и по ту стороны религии. С этой точки зрения художественная практика, укоренённая в отвратительном, о котором она говорит и тем самым очищает, проявляется как важнейшая составляющая религиозности. Именно поэтому ей суждено пережить крушение исторических форм религий.
Отвратительное пишет себя вне священного
Отвращение для того, чтобы соответствовать своему библейскому определению, а если углубиться в историю примитивных обществ, то определению позора, находит свои самые архаичные резонансы, с точки зрения культуры внешние по отношению к греху, в западной современности и в связи с кризисом христианства.
В мире, где Другой потерпел крах, эстетическое усилие – спуск к основаниям символического построения – направлено на обозначение неустойчивых границ говорящего субъекта, как можно ближе к его восходу, к этому «первоначалу» без основания, – так называемому первовытесению. В ходе этой практики, по крайней мере поддерживаемой Другим, «субъект» и «объект» отталкивают друг друга, борются друг с другом, терпят крах и расстаются, неразлучные, запачканные, приговоренные, на пределе воспринимаемого, мыслимого: отвратительные. Именно на этой почве разворачивается великая современная литература: Достоевский, Лотреамон, Пруст, Арто, Кафка, Селин…
Достоевский
Отвратительное – основной «предмет» «Бесов» для Достоевского: это цель и движущая причина того существования, смысл которого теряется в абсолютной деградации из-за абсолютного отказа от предела (морального, социального, религиозного, семейного, индивидуального) как абсолютного, Бога. Отвращение колеблется, таким образом, между исчезновением всякого смысла и всякой человечности, сгорающих будто в пламени пожара, и экстазом Я, потерявшим своего Другого и свои предметы, которое в тот самый момент самоубийства наконец схватывает суть единения с землей обетованной. Отвратителен как Верховенский, так и Кириллов, отвратительно как убийство, так и самоубийство.
«Большой огонь по ночам всегда производит впечатление раздражающее и веселящее; на этом основаны фейерверки; но там огни располагаются по изящным, правильным очертаниям и, при полной своей безопасности, производят впечатление игривое и легкое, как после бокала шампанского. Другое дело настоящий пожар: тут ужас и все же как бы некоторое чувство личной опасности, при известном веселящем впечатлении ночного огня, производят в зрителе (разумеется, не в самом погоревшем обывателе) некоторое сотрясение мозга и как бы вызов к его собственным разрушительным инстинктам, которые, увы! таятся во всякой душе, даже в душе самого смиренного и семейного титулярного советника… Это мрачное ощущение почти всегда упоительно. „Я, право, не знаю, можно ли смотреть на пожар без некоторого удовольствия?“»[45]45
Достоевский Ф. Бесы. Собр. соч. Т. 7. С. 537. В цитируемом переводе изменена пунктуация. Здесь и далее в сносках на втором месте указываются ссылки Ю. Кристевой: Dostoïevski, Les Demons, Gallimard, 1955. P. 540 (trad. Boris de Schloezer).
[Закрыть]
«Есть секунды, их всего зараз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то, что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: „Да, это правда, это хорошо“. Это… это не умиление, а только так, радость. Вы не прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о – тут выше любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд – то душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь, потому что стоит. Чтобы выдержать десять секунд, надо перемениться физически. Я думаю, человек должен перестать родить. К чему дети, к чему развитие, коль цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божий. Намек. Ваша жена родит?»[46]46
Там же. С. 614. – Ibid. Р. 619.
[Закрыть]
Верховенский отвратителен в том потном и тайном употреблении идеалов, которые с того мгновения, когда Запрет (назовите это Богом) не срабатывает, перестают быть таковыми. Ставрогин, может быть, менее отвратителен, так как его имморализм более художественен, в нем есть смех и отказ, он разменивает себя дешево и цинично, укрепляя тем самым свой собственный нарциссизм, а не силу произвола и истребления. Можно быть циником, не будучи необратимо отвратительным; отвращение само по себе провоцируется всегда тем, что пытается ладить с попранной властью.
«У него хорошо в тетради, – продолжал Верховенский, – у него шпионство. У него каждый член общества смотрит один за другим и обязан доносом. Каждый принадлежит всем, а все каждому. Все рабы и в рабстве равны. В крайних случаях клевета и убийство, а главное – равенство. Первым делом понижается уровень образования, наук и талантов. Высокий уровень наук и талантов доступен только высшим способностям, не надо высших способностей! Высшие способности всегда захватывали власть и были деспотами. Высшие способности не могут не быть деспотами и всегда развращали более, чем приносили пользы; их изгоняют или казнят. Цицерону отрезывается язык, Копернику выкалывают глаза, Шекспир побивается каменьями – вот шигалевщина! Рабы должны быть равны: без деспотизма еще не бывало ни свободы, ни равенства, но в стаде должно быть равенство, и вот шигалевщина! Ха-ха-ха, вам странно? Я за шигалевщину!»[47]47
Там же. С. 437. – Ibid. Р. 441.
[Закрыть]
Достоевский радиографировал сексуальное, моральное, религиозное отвращение как крах законов отцов. Не является ли мир «Бесов» миром отрекшихся, формальных или умерших отцов, в котором как злобные, но вовсе не призрачные идолы, правят повитухи, опьяненные властью? Достоевский избавлялся от этого безжалостного материнского давления, обозначая отвратительное, при этом искусно извлекая наслаждение.
Но только у Пруста мы найдем выход более непосредственно эротический, сексуальный, связанный с желанием и отвращением; а у Джойса мы обнаружим женское тело, материнское тело в том неопределенном, непонятном для отдельного человека фантазме потери, которым он захвачен, упиваясь своей способностью называть объект желания.
Пруст
Отвращение, понятое как то, что присуще тихой и невозможной альтерации Я, то есть понятой как то, что предшествует нарциссизму, у Пруста становится чем-то прирученным и домашним: оно, не будучи «собственным» или «само собой разумеющимся», – это скандал, который следует понять как неизбежность, или по крайней мере тайну полишинеля-сноба. У Пруста отвращение носит светский, даже социальный характер: это внемирское дублирование общества. Может быть, поэтому мы находим именно у него единственный современный пример использования слова «отвратительное» в его ослабленном варианте значения, который был в ходу в конце XVIII века:
«Он предпочел бы окончательно осесть именно в этих, почти что простонародных кварталах, где образ жизни беден, убог [abjecte], но тих и наполнен спокойствием и счастьем».[48]48
Proust. Du cote de chez Swann, Paris: Gallimard, 1913. P. 219.
[Закрыть]
Пруст пишет, что если объект желания реален, он может основываться лишь на отвратительном, которое невозможно заполнить. Объект любви становится тогда непристойным двойником субъекта, похожим на него, но нечистым в силу неотделимости от недостижимой идентичности. Любовное желание проявляется, таким образом, как внутренняя по отношению к этой недостижимой идентичности складка, как случай нарциссизма, объект, болезненная альтерация, драматически и сладко приговоренная к тому, чтобы найти другого лишь того же пола. Как если доступ к отвратительной истине сексуальности лежит только через гомосексуальность: «Содом и Гоморра».
«Мне даже не пришлось жалеть о том, что я добрался до этой мастерской лишь через несколько минут. Из того, что донеслось до меня из мастерской Жюпьена – а это были лишь нечленораздельные звуки – я предположил, что было сказано немного. Правда, звуки были столь яростны, что если бы они не повторяли постоянно друг друга с разницей в тональность, я бы мог вообразить, что кто-то рядом со мной душит другого, а затем убийца и его жертва отправляются в ванную, чтобы скрыть следы преступления. Лишь позже я понял, что удовольствие выражает себя столь же шумно, что и страдание, особенно тогда, когда к нему добавляются – из-за боязни иметь детей, хотя это вовсе не относится к данному случаю, что бы ни говорили об этом Жития Святых – немедленные заботы о чистоте».[49]49
Proust. Sodome et Gomorrhe, Paris: Gallimard. P. 16.
[Закрыть]
По сравнению с этим оргия у де Сада, совпадающая со всем гигантским объемом философии, в том числе даже будуарного характера, не имела ничего от отвратительного. Упорядоченная, риторическая и, с этой точки зрения, правильная, она расширяет Смысл, Тело и Мир, но не несет ничего отталкивающего: все для нее называемо, всякое названо. Сценарий де Сада объединяет: для него нет ничего внешнего, немыслимого, негетерогенного. Он, будучи рациональным и оптимистичным, не исключает. Другими словами, он не признает ничего святого и в этом смысле оказывается антропологическим и риторическим основанием атеизма. Письмо Пруста, совсем наоборот, всегда отталкивается от осуждающей инстанции, может быть даже библейской, которая раскалывает, высылает, отсылает или осуждает; и это по отношению к ней, вместе с ней и против нее выстраивается смысл прустовских фразы, памяти, сексуальности и морали – смысл, собирающий бесконечное различий (полов, классов, рас) в гомогенное единство знаков, – всего лишь тонкой сети, наброшенной на бездну несоответствий, отказов, отвращений. Желание и знаки создают у Пруста бесконечное полотно, которое не скрывает, а проявляет оборотную сторону мира. Как обморок, смущение, стыд, оплошность. В целом, как постоянная угроза унифицирующей риторике, которую выстраивает писатель вопреки и благодаря отвратительному.
Джойс
Риторика языка Джойса – ослепительная, бесконечная, вечная – и в то же время слабая, неозначающая, дебильная. Джойс не собирается погрузить нас в отвратительное, но заставляет его взорваться в прототипе литературной речи – для него – в монологе Молли. Этот монолог если и демонстрирует отвратительное, то не потому, что говорит женщина. А потому, что писатель издалека показывает истерическое тело, заставляя его говорить, чтобы самому, отталкиваясь от этого тела, сказать о том, что ускользает от проговаривания и что оказывается схваткой врукопашную[50]50
По-французски дословно – «тело к телу»: le corps a corps. – Прим. перев.
[Закрыть] этой женщины с другой – разумеется, ее матерью – как абсолютной, поскольку исходной, инстанцией невозможного: сказать об отвергнутом, бессмысленном, отвратительном. Атопия.[51]51
Невозможность топического исследования душевных процессов (по Фрейду). – Прим. перев.
[Закрыть]
«…только конечно женщина это прячет чтобы не причинять столько хлопот как они да с кем-то он переспал сразу по аппетиту видно но только это не любовь иначе в мыслях о ней ему было б не до еды стало быть либо из ночных шлюх если он был на самом деле в тех краях а про гостиницу просто наврал с три короба чтоб скрыть чего он задумал мол это Хайнс меня задержал а кого же я встретил ах да я встретил помнишь такого Ментона и кого же еще погоди кого же лицо этакого большого младенца я его видела он недавно женился и флиртовал с молоденькой девушкой в Волшебной Панораме Пула и повернулась к нему спиной когда он выскользнул оттуда с таким видом будто он провинился хотя что плохого но он имел наглость ухаживать за мной одно время браво покоритель нашелся и эти выпученные глаза видала я болванов но не такого еще называется адвокат только потому что я не терплю долго пререкаться в постели ну а если не это так тогда какая-нибудь сучка с которой он где-то там сошелся или подцепил тайком если б они только знали его как я да потому что позавчера он строчил какое-то письмо когда я вошла в ту комнату за спичками показать ему про смерть Дигнама…»[52]52
Джойс Дж. Улисс. Перевод В. А. Хинкиса и С. С. Хоружего. М.: Симпозиум, 2000. С. 640. – Joyce. Ulisse. Paris; Gallimard, 1948. P. 662 (trad. Auguste Morel, Stuart Gilbert, Valéry Larbaud et l'auteur).
[Закрыть]
Отвратительное здесь не в мужской сексуальности, как ее понимает Молли. И даже не в том гипнотическом ужасе, который внушают говорящей другие женщины, стоящие за мужчинами. Отвратительное – по ту сторону содержания – оно, что характерно для всего Джойса, – в самом способе говорить: само вербальное общение, Слово – вот что обнаруживает отвратительное. Но в то же время, лишь Слово очищает от отвратительного – вот что хочет сказать Джойс, возвращая – то, что он называет work in progress – магистральной риторике все права против отвращения. Единственно возможный катарсис: риторика чистого означающего, музыка письма, «Поминки по Финнегану».
Селин, путешествующий на край собственной ночи, тоже найдет ритм и музыку как единственный выход, как решающую сублимацию неозначающего. Но в отличие от Джойса, Селин не увидит в этом избавления. Отвергая все вновь, без надежды на спасение, падший Селин, его судьба и его язык, станут апогеем тех моральных, политических и стилистических потрясений, которыми отмечена наша эпоха. Эпоха, которая вот уже столетие находится в бесконечном состоянии родов. Феерия навсегда и еще для другого раза.
Борхес
С точки зрения Борхеса, «объектом» литературы в любом случае должно быть нечто головокружительное, галлюцинационное. Это Алеф, обнаруженный как истина бесконечного после падения, достойного Игитур, в подвалы родного дома, предназначенного к сносу. Литература, которая осмеливается описать всю бездну этого спуска, оказывается неудачной насмешкой архаической памяти, которую хранит и от которой пытается при этом отделаться язык. Этот Алеф представляет собой нечто настолько из ряда вон выходящее, что в повествовании лишь наррация низости может ухватить его силу. То есть неизмеримое, беспредельное, немыслимое, невыносимое, невыразимое. Но что это? Что это, если не непрекращающееся повторение импульса, который, появившись в ходе первоначальной потери, не перестает будоражить – ненасытный, обманутый, подделанный, – пока не найдет свой единственный устойчивый объект – смерть. Манипулировать этим повторением, режиссировать его, использовать его, пока оно не обнаружит за пределом своего вечного возвращения собственное высокое предназначение – быть борьбой со смертью – не это ли определяет суть письма? Но с другой стороны, не низость ли затрагивать смерть, заигрывать с ней таким образом? Литературное повествование, собственно говоря, механизмы повторения, за исключением фантастики, детектива или черной серии, с необходимостью должно стать повествованием отвратительного («История вечности»). И писатель, ничтожный и поверженный, узнает себя в этом отвратительном субъекте, Лазарусе Мореле, ужасном искупителе, который воскрешает своих рабов лишь для того, чтобы они лучше умирали, оборачиваясь – и принося прибыль – как деньги. Стоит ли говорить, что объекты литературы, наши объекты науки, как и рабы Лазаруса Мореля, являются лишь одним из мимолетных воскресений этого непостижимого Алефа? Является ли этот Алеф тем невозможным «объектом», невозможным воображаемым, на котором строится работа письма – тот, что оказывается на самом деле лишь предполагаемой остановкой в борхесовской погоне за смертью, скрывающейся в бездне материнского лона?
«Лошади, украденные в одном штате и проданные в другом, были простым отступлением в преступной карьере Мореля, но уже это характеризовало манеру, благодаря которой он теперь занял почетное место в Истории всеобщей Низости; эта манера, уникальная в своем роде не только потому, что уникальны обстоятельства sui generis, которые ее предопределили, но степенью отвращения, которую она вызывает, трагедией надежды, которую она эксплуатирует, последовательностью, с которой она разворачивается, словно кошмар. […]
Они, снабженные для важности призрачным богатством различных печаток, объезжали обширные плантации Юга. Они примечали несчастного негра и предлагали ему свободу; они предлагали ему бежать и продать себя их посредством в каком-нибудь месте далеко от здешних. Затем они бы дали ему часть от заработанного на его продаже и помогли снова бежать и потом переправиться в свободный штат. Деньги и свобода, наличные доллары, свобода, могли ли они предложить лучшую наживку? Раб шел на первый побег. Естественным путем была река. Лодка, трюм парового судна, большая барка, широкий как небо плот с высокими полотняными палатками или маленьким шалашом – место не имело значения. Главное – было знать, что ты в безопасности плывешь к свободе по неутомимой реке […]; его продавали на другую плантацию; он опять бежал в тростники и овраги. Тогда ужасные благодетели (в которых он уже начинал сомневаться) рассказывали о больших расходах и объявляли о необходимости продать его еще раз; по возвращении они обещали ему часть от двух сделок и свободу. Человек давал себя продать, работал некоторое время и в последний раз решался на испытание собаками-ищейками и кнутом. Он возвращался весь в крови и поте, полный безнадежности и грез […].
Беглец ждал свободу. Тогда коварные мулаты Лазаруса Мореля передавали друг другу приказ – иногда просто знак – и освобождали его от способности видеть, слышать, ощущать, от жизни, низости, времени, благодетелей, сострадания, воздуха, собак, мира, надежды, пота и самого себя. Пуля, удар кинжала в спину, толчок, и единственными, кто узнавал о случившемся были, черепахи и щуки Миссисипи».[53]53
Borges. Histoire de l'infamie. UGE, coll. «10/18», 1975 (trad. R. Caillois et L.Guille).P.21–24.
[Закрыть]
Представьте себе, что эта воображаемая машина превращается в социальный институт, и вы получите низость… фашизма.
Арто
«Я», захваченное трупом: таким часто предстает отвратительное в тексте Арто. Так как именно смерть представляет самым яростным образом это странное состояние, когда не-субъект, потерянный, потерявший свои не-объекты, воображает, переживая испытание отвращением, ничто. Ужас перед смертью, охватывающий «я» до удушья, которое не разделяет внутреннее от внешнего, а, наоборот, бесконечно вдыхает одно в другое: Арто оказывается неизбежным свидетелем этой пытки – этой истины.
«Маленькая мертвая девочка говорит: я та, что задыхается от ужаса в легких живой. Пусть меня сейчас же заберут отсюда».[54]54
Suppôts et supplications, ОС, Paris: Gallimard. T. XIV. P.14.
[Закрыть]
«Но по смерти мой труп был выброшен в навозную кучу и я помню себя мокнущим не знаю сколько дней или сколько часов в ожидании пробуждения. Ведь я не знал поначалу, что я умер: мне пришлось решиться понять это для того, чтобы мне удалось подняться. Несколько друзей, которые сначала совершенно оставили меня, решились придти забальзамировать мой труп и без радости удивились, найдя меня живым».[55]55
Ibid. P. 72.
[Закрыть]
«Я не должна спать с тобой и все такое, я ведь более чистая, чем ты, господи, и спать значит не пачкать себя, а просветлиться, в отличие от тебя».[56]56
Ibid. Р.203.
[Закрыть]
В этот момент падения субъекта и объекта, отвратительное становится тождественным смерти. И письмо, позволяющее подняться, становится равным воскрешению. Писатель оказывается тогда перед необходимостью идентифицировать себя с Христом – не для того ли, чтобы быть, как и он, отброшенным, отвращенным:
«Как бы отвратительно это не казалось, я и есть этот Арто, распятый на Голгофе, не как Христос, а как Арто, то есть как полный атеист. Я и есть это преследуемое эротическим позывом тело, непристойным эротическим сексуальным позывом человеческого рода, для которого страдание – это удобрение, нектар плодородной слизи, сыворотка, которая хороша для того, кому повезло лишь в том, что он человек, знающий, что он им становится».[57]57
Lettre a A. Breton, ibid. P. 155.
[Закрыть]
* * *
Эти различные литературные тексты называют те типы отвратительного, которые, само собой, зависят от различных психических структур. Различаются также типы высказывания (нарративные, синтаксические структуры, просодические процедуры и так далее – различных текстов). Таким образом, отвратительное у разных авторов оказывается названным различно, если только оно не обозначено всего лишь языковыми изменениями, всегда несколько эллиптическими. В последней части нашего эссе мы подробно рассмотрим один из типов высказываний об отвратительном: принадлежащий Селину. Здесь в качестве введения скажем лишь, что в своих многочисленных вариациях современная литература тогда, когда она пишется как наконец-то возможный язык для обозначения невозможных асубъективности и нон-объективизма, предлагает на самом деле сублимацию отвращения. Таким образом она берет на себя те функции, которые некогда на стыке субъективной и социальной идентичности выполняло сакральное. Но речь идет о сублимации без сакрального. Падшая.
Катарсис и психоанализ
С точки зрения позиции психоанализа, отвращение, которое современное общество научилось вытеснять, избегать или приукрашивать, представляется фундаментальным. Об этом пишет Лакан, когда он ассоциирует это слово с святостью психоаналитика, – сочетание, которое, как бы в издевку, оставляет только черное.[58]58
Lacan J. Television. Paris: Ed. du Seuil. 1973. P. 28.
[Закрыть]Эту рану, которая при профессиональной занятости, со временем и под влиянием обстоятельств, при всем цинизме, быстро бы затянулась, следовало бы держать открытой для того или той, кто пускается в аналитическое приключение. В этом переходе нет ничего от инициации, если мы понимаем под «инициацией»– доступ к такой чистоте, которая гарантировала бы готовность к смерти (как в «Федоне» Платона), или сокровище «чистого означающего» без примесей (как золото истины в «Республике» или чистого золота сепаратизм гражданина в «Политике»). Скорее это неоднородное, телесное и вербальное, испытание фундаментальной неполноты: «зияние», «меньшее Единого»… Для того неустойчивого субъекта, который появляется в результате этого испытания – таков Иисус Христос, открывающий стигматы на своем вожделеющем теле по слову, сказанному лишь по отречении – всякое явление, при условии, что оно есть, означающее или человеческое, проявляется в своей сущности от отвращения. Для какого невозможного катарсиса? Фрейд вначале использовал то же самое слово, чтобы обозначить терапию, строгость которой должна открыться, – позже.








