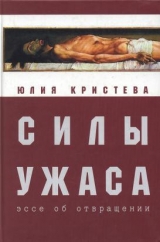
Текст книги "Силы ужаса: эссе об отвращении"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
Предисловие переводчика
Перед Вами – книга, оказавшая сильное влияние на целое поколение западного читателя. И прежде всего читательниц 70-х годов прошлого столетия. И тогда она считалась «очень умной» и «очень страшной», однако объясняла многие неразрешимые проблемы отношений с детьми, с родителями, с партнером и, наконец, с самим собой. Бытовые капризы и религиозные заповеди, криминальные сюжеты и литературные скандалы – все выстраивалось в понятную теперь цепочку значений. И восприятие мира требовало соответствующей внутренней работы – прежде всего философской. Своеобразная апологетика философии. С точки зрения истории философии, главное – то, что она дает ясное представление об одной из влиятельных сегодня тенденций новейшей философии. Это тесная взаимосвязь традиционной философской проблематики, психоанализа и литературы. Прежде всего, это возможность вернуться к «человеческим» вопросам философии о смысле жизни, о внутреннем мире и возможности рассказать о нем другому или другим. Ю. Кристева и сегодня считает, что это самый перспективный способ существования в философии. Беседы с ней на философском факультете МГУ заставили меня взглянуть более широко на контекст представленного эссе. Эту уверенность, этот энтузиазм, характерный для этой блестящей во всех отношениях женщины, тонкого мыслителя, мне очень хотелось сохранить в стилистике ее текста, не внося собственного толкования или комментариев. Подчас это было достаточно трудно. Поэтому мне хотелось поблагодарить редакцию, моих родителей, мужа и детей за терпеливое ожидание окончания этой мучительной, доводящей до ужаса, а иногда и до отвращения, работы, а читателям пожелать только составляющего их удовольствиях
Анна Костикова
Силы ужаса: эссе об отвращении
На подступах к отвращению
Нет среди живых существ такого, на котором не оставила свой след Бесконечность;
Нет среди самых ничтожных и отвратительных существ такого, на который бы не падал луч Света,
Посланного свыше, то нежного, то сурового.
Виктор Гюго, Легенда веков
Ни субъекта, ни объекта
В отвращении есть что-то от неудержимого и мрачного бунта человека против того, что пугает его, против того, что угрожает ему извне или изнутри, по ту сторону возможного, приемлемого, мыслимого вообще. Оно так близко и совершенно непостижимо. Оно настойчиво будит, беспокоит, будоражит желание. Но желание не соблазняется. В испуге отворачивается. С отвращением отказывается. От стыда – спасается в абсолютном, и гордится им, и дорожит им. Но в то же самое время это движение, резкое, спасительное – притягивается к этому иному, столь же сладкому, сколь и запретному. Без передышек, это движение, словно движение забывшего все законы бумеранга, – притягивается и отталкивается одновременно и буквально выводит из себя.
Когда охвачен отвращением, в котором, как мне кажется, переплетены аффекты и мысли, уже не приходится говорить о каком бы то ни было определенном объекте. Отвратительное [abject] – не объект [objet], который я называю или воображаю, когда он противопоставлен мне. Оно также и не объект игры [objeu], в котором «а малое» означало бы бесконечно ускользающее от непрерывного преследования желания. Отвратительное не то, что дало бы мне возможность опереться на кого-то или на что-то иное и быть свободным и независимым. От объекта в отвратительном – лишь одно свойство – противостоять Я. Но объект, в своем противостоянии мне, уравновешивает меня на тонкой нити, направляющей к смыслу, отождествляет меня с самим собой, примиряя с бесконечностью и неопределенностью. Отвратительное, или абьект, наоборот, в своей радикальной отброшенности, в исключенности своей из числа объектов, своей исключительностью, тянет меня к обрыву смысла. Оно решительно изгнано некоторым «я», которое постепенно исчезло в своем хозяине, сверх-Я. Отвратительное вовне, оно вне единства, правила игры которого оно, кажется, и не признает. Тем не менее даже изолированное, отвратительное не оставляет в покое своего хозяина. Не показываясь ему, отвратительное доводит его до крика, до конвульсий. И если у каждого Я – свой объект, то у каждого сверх-Я – свое отвратительное. Не со скуки и не напоказ выставлено это отторжение, и не противоречивостью желания терзаются тела, раздираются ночи и путаются рассуждения. Скорее это внезапная боль, к которой «я» приспосабливается. Она возвышенна и разрушительна, так как «я» переадресует эту боль отцу [pere], переложив ее по-иному (перверсия): я терплю эту боль, так как я воображаю, что таково желание другого. Грубое и резкое вторжение чужеродного, которое могло бы быть мне близким в какой-то забытой и непроницаемой для меня теперь жизни, теперь мучает и неотступно преследует меня как совершенно чуждое, отдельное и мерзкое. Это не я. Это не оно. Но это не значит, что ничего нет. Есть «нечто», которое я никак не могу признать в качестве чего-то определенного. Эта тяжесть бессмыслицы, в которой все весомо и значимо, вот-вот раздавит меня. Это на границе несуществования и галлюцинации, но и реальности, которая, если я ее признаю, уничтожит меня. Отвратительное и отвращение – то ограждение, что удерживает меня на краю. Опоры моей культуры.
Непотребное
Отвращение к еде, к грязи, к отбросам, к мусору. Меня защищают спазмы и рвота. Отторжение и приступ тошноты отстраняют и отгораживают меня от грязи, клоаки, нечистот. И позорно пойти на компромисс, на какое-то соглашение, на предательство. К нему меня подталкивает, а затем отделяет непреодолимый рвотный позыв.
Пищевое отвращение, наверное, самая простая и архаичная форма отвращения. Когда пенка – эта кожица на поверхности молока, беззащитная, тонкая, как папиросная бумага, жалкая, как обрезки ногтей, – появляется перед глазами или прикасается к губам, спазм в глотке и еще ниже, в желудке, животе, во всех внутренностях, корчит в судорогах все тело, выдавливает из него слезы и желчь, заставляет колотиться сердце и холодеть лоб и руки. В глазах темно, кружится голова, и рвота, вызванная этими молочными пенками, сгибает меня пополам и – отделяет от матери, от отца, которые мне их впихнули. Пенки – часть, знак их желания. Именно этого-то «я» и не хочет, и «я» не хочет ничего знать, «я» не ассимилирует их, «я» выталкивает их. Но поскольку эта еда – не «другой» для «я» и существует только внутри их желания, я выталкиваю себя, я выплевываю себя, я испытываю отвращение к себе в том же самом движении, в тот же самый момент когда «Я» предполагает утвердить себя. Эта деталь, может быть незначительная, но которую родители находят, заряжают, поддерживают и навязывают мне, – эта ерунда выворачивает меня наизнанку как перчатку, внутренностями наружу: так, чтобы они увидели, что я становлюсь другим ценой собственной смерти. В этом процессе, когда «я» становится, я рождаю себя в безудержных рыданиях и рвоте. Немой протест симптома и шумное неистовство конвульсии записаны, разумеется, в символической системе. В нее не хочется, да и невозможно войти, чтобы ответить. Это прежде всего реагирование, реагирование отторжением. Оно – отвращение.
Еще более резко нарушает хрупкое, обманчивое, случайное равновесие самотождественности труп (от латинского cadere – падать), то есть то, что отошло безвозвратно, клоака и смерть. Кровоточащая и гноящаяся рана или запах пота, разложения сами по себе не означают смерть. Означенная, например, плоской энцефалограммой, смерть понятна, принята, вызывает соответствующую реакцию. Но нет, таков истинный театр – без ретуши и без маски: отбросы вроде трупа указывают мне на то, что именно я постоянно отодвигаю от себя, чтобы жить. Жизнь с трудом переносит эти непотребности, эту грязь, это дерьмо, – жизнь переносит это только под угрозой смерти. Я на грани своего живого состояния. От этих границ начинается мое живое тело. Эти отбросы откидываются для того, чтобы жить, от одной потери до другой, до того момента, пока от меня не останется ничего и мое тело не упадет по ту сторону границы cadere, трупом. Если мусор означает другую сторону границы, где меня нет, и позволяет мне существовать, то труп, самый отвратительный из отбросов, – та граница, которая все собой заполонила. Уже не я отторгаю и выталкиваю, а «я» вытолкнуто и отторгнуто. Граница сама стала объектом. Как можно существовать без границ? Это другое, находящееся по ту сторону, которое я представляю себе иначе, чем настоящее, или которое я воображаю себе для того, чтобы иметь возможность в настоящем разговаривать с вами, размышлять о вас, – это другое теперь здесь, брошенное, отторгнутое в «мой» мир. Отторгнутый от мира, таким образом, я теряю сознание и исчезаю. В этом настоятельно и грубо звучащем среди бела дня вызове – брошенном в зале морга, битком набитом непонятно откуда взявшимися подростками, – в этой вещи, которая больше ничего не отграничивает и следовательно ничего больше не обозначает, я вижу крушение мира, который стер свои границы: это исчезновение. Труп – увиденный без Бога и вне науки – высшая степень отвращения. Это смерть, попирающая жизнь. Отвратительное. Оно отброшено, но с ним невозможно расстаться и от него невозможно защититься так, как от объекта. Отвратительное, как воображаемая чужеродность и реальная угроза, сначала интригует нас, а затем поглощает целиком.
Таким образом, вовсе не отсутствие чистоты или здоровья порождает отвратительное, но отвратительное – это то, что взрывает самотождественность, систему, порядок. То, что не признает границ, положений дел, правил. Пробел, двусмысленность, разнородность. Предатель, обманщик, добропорядочный преступник, бесстыдный насильник, считающий себя спасителем убийца… Всякое преступление отвратительно, так как оно свидетельствует о беззащитности закона, но умышленное преступление, тайно совершенное убийство, лицемерное мщение – отвратительны вдвойне потому, что они как бы дважды демонстрируют эту беззащитность. Тот, кто не принимает мораль, не обязательно отвратителен – можно быть великим в аморальности, и даже в преступлении, которое демонстрирует свое неуважение к власти, – это бунт, освобождение и самоубийство. Отвращение безнравственно, потому что оно подло и подозрительно, оно всегда колеблется и никогда не дает прямого ответа: скрытый террор, улыбчивая ненависть, страсть к телу, которое она обменивает вместо того, чтобы обнять, должник, который вас продаст, друг, который вас зарежет…
Гора детских ботиночек в темных залах музея на месте Освенцима напоминает что-то уже виденное, например, гору игрушек под рождественской елкой. Знаю, смерть в любом случае доберется до каждого. Но когда она смешивается с детством, наукой и всем тем, что в моем мире стремится спасти, отгораживает меня, живого, от смерти, – отвращение к преступлению нацизма становится невыносимо острым.
Отвращение к себе
Отвратительное одновременно созидает и разрушает субъект. Тогда понятно, что оно набирается сил тогда, когда уставший от безуспешных попыток найти себя в чем-то внешнем, выразить себя, субъект находит невозможное в самом себе. Это момент, когда субъект находит, что невозможное – это само его существо, обнаруживающее, что оно само и есть нечто иное, как отвратительное. Благодаря отвращению к себе, высшей форме этого опыта, – субъекту открывается, что все объекты опыта основываются на первоначальной потере, созидающей его собственное существование. Ничто другое, кроме отвращения к себе, не покажет лучше, что всякое отвращение суть признание нехватки как основополагающей для самого существования, смысла, языка, желания. Слово нехватки обычно проскальзывает слишком быстро, и сегодняшнему психоанализу удается схватить лишь более или менее фетишизированный результат, «объект нехватки». Но если вообразить себе (а речь идет именно о воображении, так как вся работа воображения строится как раз на этом) опыт нехватки сам по себе, как логически предшествующий существованию и объекту – или существованию объекта, – то понятно, что его единственным означаемым будет отвращение, и прежде всего отвращение к себе. А его означающим будет… литература. Отвращением к себе мистическое христианство обосновывает добродетель смирения перед Богом, свидетельством чему является святая Елизавета, которая, «несмотря на свой высокий княжеский сан, любила Господа из отвращения к самой себе».[39]39
Св. Франсуа Сальский. Вступление в праведную жизнь, т. III, 1.
[Закрыть]
Может быть, для того, кому удастся избежать изощренных ловушек отвращения в опыте, так или иначе связанном с кастрацией, отвращение становится иным испытанием, на этот раз светским.
Отвращение преподносит себя как самый ценный не-объект, свое собственное тело, свое собственное я, к сожалению, потерянные как собственные, – падшие, отвратительные. Как мы увидим, к такому результату нас может привести курс психоаналитического лечения. Муки и радости мазохизма.
Отвращение, принципиально отличное от «беспокойной странности», к тому же и более взрывное, так устанавливает свои отношения, что может не признавать своих ближних: ничто ему не родственно, нет даже тени воспоминаний. Я воображаю ребенка, слишком рано потерявшего своих родителей. Он боится быть «совсем одним» и, чтобы спастись, отбрасывает и выплевывает все, что ему дают, все дары, все объекты. У него есть или, точнее, могло бы быть чувство отвратительного. До того как вещи начинают существовать для него – то есть до того, как они начинают что-либо значить – он их выталкивает, одним толчком, ограничивая тем самым свою территорию отвратительным. Черт бы его побрал! Замешанная на страхе, все крепче становится стена, отгораживающая его от этого другого мира – выплюнутого, вытолкнутого, отброшенного. Он неустанно пытается очистить себя от того, что он проглотил: вместо материнской любви – пустоту, точнее, то, что идет от бессловесной материнской ненависти к слову отца. Какое успокоение находит он в этом отвращении? Может быть, отца – существующего, но запутавшегося, любящего, но непостоянного, просто выдуманного, но выдуманного. Без этого в малыше не было бы никакого оттенка святости; пустой субъект, он затерялся бы на свалке всегда отвергнутых не-объектов, с помощью которых он пробует, наоборот, спастись, вооружившись отвращением. Ведь он не сумасшедший – тот, посредством кого существует отвратительное. Из того оцепенения, которое охватило его перед неприкасаемым, невозможным, отсутствующим телом матери и отделило его стремления от соответствующих объектов, то есть от их представлений, – отсюда рождается страх – слово с привкусом отвращения. В фобиях нет никакого другого объекта, кроме отвращения. Но само слово «страх» – неуловимый туман, невидимая испарина – только появившись, сразу растворяется как мираж и пропитывает несуществованием, наполняет галлюцинациями и фантомами все слова языка. Дискурс, взяв страх в кавычки, таким образом, поддерживается только в бесконечном сопротивлении этому иному. Оно тяжело надвигается и отодвигается. Оно в самых недоступных и интимных глубинах памяти: отвратительное.
По ту сторону бессознательного
Это означает, что есть [формы] существования, которые не поддерживают себя желанием, поскольку желание всегда направлено на объект. Такие существования основываются на исключении. Они ясно отличаются от таких, как неврозы или психозы, которые артикулируют отрицание и его разновидности, трансгрессию, отказ и отвержение. Их динамика ставит под вопрос теорию бессознательного, коль скоро последняя основывается на диалектике отрицательности.
Теория бессознательного предполагает, как известно, вытеснение содержания (аффектов и представлений), которые таким образом не проникают в сознание, а становятся предметом модификаций: языковых (ляпсусы и т. п.), телесных (симптомы) или и тех и других вместе (галлюцинации и т. п.). В соответствии с понятием вытеснения Фрейд для изучения невроза вводит понятие отказа, а для обозначения психоза – понятие отбрасывания (отвержения). Асимметрия двух вытеснений подчеркивается тем фактом, что отторжение относится к объекту, тогда как отвержение – к желанию как таковому (то, что Лакан, напрямую наследуя Фрейду, определяет как «отвержение Имени Отца»).
Тем не менее перед лицом объекта (отвратительного), а точнее, фобии и расщепления Я (к этому мы еще вернемся), можно задаться вопросом, имеют ли какую-нибудь силу все эти рассуждения (заимствованные Фрейдом у философии и психологии) об отрицательности, свойственной бессознательному. «Бессознательные» составляющие предстают здесь исключенными, но довольно странным образом: недостаточно радикально, чтобы обосновать неоспоримое различение субъекта/объекта, но тем не менее достаточно четкое, чтобы иметь позицию для защиты, отказа, а также и для сублимационной переработки. Как если бы фундаментальное противоположение было бы здесь между Я и Другим или, еще более архаично – между Внутри и Снаружи! Как если бы это противоположение содержало бы в себе выведенное из неврозов противоположение Сознательного и Бессознательного.
Как следствие двойственного противопоставления Я-Другой, Внутри-Снаружи – противопоставления смелого, но хрупкого, жесткого, но неустойчивого – бессознательные «обычно» содержания у невротиков становятся составляющими или даже сознательными в «пограничных» рассуждениях и поступках (borderlines). Эти содержания нередко открыто проявляются в символических практических действиях, однако без того, чтобы интегрироваться в сознание здравого смысла данных субъектов. Эти субъекты и их рассуждения являются благодатной почвой скорее для сублимационного дискурса («эстетического», «мистического» и т. п.), чем для научного или рационалистского, поскольку благодаря им противопоставление сознательное – бессознательное становится неуместным.
Изгнанник, говорящий: «Где?»
Тот, благодаря которому существует отвратительное, таким образом, представляет собой заброшенного, который располагается), отделяешься), помещает(ся) и, следовательно, блуждает[40]40
Erre – используются оба значения: блуждать и заблуждаться. – Прим. перев.
[Закрыть]вместо того, чтобы узнавать себя, желать, принадлежать или отказываться. Он – заложник ситуации в определенном смысле и не без смеха, так как смех уже определенным образом помещает или перемещает отвратительное. Он – раздвоенный поневоле, немного манихеец – разделяет, исключает и, если непосредственно не говорит о желании знать о своих отвращениях, вовсе не игнорирует их. Он, однако, часто относит к ним самого себя, бросая тем самым внутрь себя скальпель, который осуществляет его расчленение.
Вместо того чтобы задаваться вопросом о своей сущности, он интересуется своим местом: он спрашивает себя скорее «Где я?», чем «Кто я?». Так как пространство, которое занимает[41]41
Игра слов: занимает как интересует и как размещается. – Прим. перев.
[Закрыть] заброшенное/заброшенного, исключенное/исключенного, никогда не является единственным, ни гомогенным, ни обобщаемым, но принципиально делимым, свертываемым и взрывным. Строитель территорий, языков, произведений, заброшенный безостановочно изменяет свою вселенную, подвижные границы которой – подвижные, поскольку они определяются отвратительным, то есть не-объектом – постоянно ставят под угрозу его основательность и заставляют его все начинать сначала. Неутомимый созидатель, заброшенный на самом деле – заблудившийся. Путешественник в бесконечно ускользающей ночи.[42]42
Парафраз названия романа Селина, о котором пойдет еще речь в следующих главах, «Путешествие на край ночи». – Прим. перев.
[Закрыть] Свойственные ему чувства опасности и потери связаны с тем псевдообъектом, который его притягивает и от которого он не может отказаться даже в тот самый момент, когда ему наконец удается отмежеваться от него. И чем больше он блуждает, тем ближе он к спасению.
Время: забвение и гром
Именно из этого блуждания по исключенному пространству он и черпает наслаждение. Для него отвратительное, от которого он без конца пытается отделиться, – в конечном счете некая земля забвения, воспоминания о которой постоянно возвращаются к нему. В стертом времени отвратительное должно было быть полюсом притяжения вожделения. Но тут прах забвения становится завесой и отражает неприязнь и отторжение. Чистое (в смысле включенного и включающего постороннее в свое собственное тело) становится грязным, искомое оборачивается изгнанным, очарование – охаиванием. Тогда время забвения внезапно возникает и концентрирует в ослепительной вспышке разрядку, подобную грому. Будь она мыслью, это было бы соединением двух противоположных понятий. Время отвращения носит двойственный характер: время забвения и грома, завуалированной бесконечности и мгновения, когда вдруг вспыхивает откровение.
Наслаждение и аффект
В целом, наслаждение. Ибо заблудившийся воспринимает себя как равного некоторому Третьему. Он убеждает себя в истинности суждений последнего, присваивает его силу, чтобы судить самому, опирается на его закон, чтобы забыть или разорвать покрывало забвения и чтобы выстроить свой объект недействительным. Выброшенным. Сброшенным Другим. Если угодно, он – трехчастная структура, свод которой поддерживается этим Другим, но «структура», выходящая за собственные границы, – топология катастрофы. Поскольку, став alter ego, Другой уже больше не держит в руках все три вершины треугольника, где сходится субъективная гомогенность, и бросает объект в отвратительную реальность, доступную лишь через наслаждение. В этом смысле только наслаждение дает возможность для существования отвратительного как такового. Не зная его, не желая его, мы наслаждаемся им. Жестоко и с болью. Это страсть. И отвратительное не содержит ничего от объективного или даже от объекта. Как в наслаждении, когда объект – начало желания – рассыпается вместе с расколотым зеркалом, в котором Я уступает свое изображение для того, чтобы отразиться в Другом. Он оказывается лишь границей, отталкивающим даром – Другой, ставший alter ego, устанавливает эту границу, чтобы «я» не растворилось в нем полностью и не исчезло, а нашло бы свое жалкое существование в самом этом возвышенном отчуждении. Это наслаждение, в которое субъект, таким образом, погружается и в котором, однако, не идет ко дну благодаря Другому, который превращает наслаждение в нечто отталкивающее. Тем самым становится понятным, почему столько жертв отвратительного очарованы им или, по крайней мере, покорны и послушны ему.
Отвращение, будучи, безусловно, границей, – в первую очередь двусмысленность. Прежде всего потому, что отвращение, отмечая, тем не менее не отделяет окончательно субъект от того, что ему угрожает. Напротив, оно подчеркивает постоянство этой опасности. Но также и потому, что само по себе отвращение представляет собой смешение суждения и аффекта, осуждения и душеизлияния, знаков и импульсов. От архаизма дообъектных отношений, от незапамятного насилия, с которым одно тело отделяется от другого, чтобы существовать – отвращение сохраняет в себе эту мглу, где теряются контуры означаемого и где проявляется лишь неуловимый аффект. Разумеется, если я аффицирован тем, что не представляется мне как определенная вещь, то это означает, что управляют мною и обусловливают меня законы, отношения и структуры самого сознания. Приказ, взгляд, голос, жест – которые являют собой закон для моего объятого страхом тела – составляют и провоцируют аффект и пока еще не являются знаком. Я тщетно отдаю этот приказ, чтобы исключить его из того, что для меня больше не будет освоенным миром. Очевидно, я есть, но лишь похожий на кого-то другого: логика мимезиса сопровождает появление меня самого, объектов и знаков. Но когда я ищу (себя), теряю(сь) или наслаждаюсь, в этом случае мое «я» гетерогенно. Эта двусмысленность, вызывающая стеснение, недомогание, головную боль, ограничивает неким бунтарским противосилием пространство, и там появляются знаки и объекты. Закрученный таким образом, переплетенный, амбивалентный гетерогенный поток отделяет территорию, которую я могу назвать своей, поскольку Другой, поселившийся во мне как alter ego, с отвращением указывает ее мне.
Это опять-таки подтверждает, что гетерогенный поток, отделяющий отвратительное и воспроизводящий отвращение, уже существует в человеческом высокоразвитом животном. Я испытываю отвращение только в том случае, если Другой находится вместо и на месте того, кто будет «я». Это не тот другой, с которым я себя идентифицирую или который слился с моим телесным, а Другой, который предшествует мне и владеет мною и тем самым осуществляет меня. Владение, предшествующее моему появлению: сущность символического, которое сможет или не сможет воплощать отец. Означивание – неотъемлемое свойство человеческого тела.
На пределе первовытеснения
Если самим фактом существования этого Другого пространство ограничивает себя, отделяя отвратительное от того, что будет субъектом и его объектами, то из этого следует, что так называемое «первоначальное» вытеснение происходит до возникновения Я, его объектов и его представлений. Они, в свою очередь, становятся участниками «вторичного» вытеснения.[43]43
Вытеснения в собственном смысле слова – с точки зрения 3. Фрейда, в этом процессе «первовытесненное» играет роль притяжения того содержания, которое подлежит вытеснению, в то время как вышестоящие инстанции отталкивают его. – Прим. перев.
[Закрыть] Поскольку они появляются только a posteriori, уже на странном основании-предупреждении, то их возвращение в виде фобий, неврозов навязчивых состояний, психозов, а как правило, и более разнообразно – в виде отвращения – обозначает нам пределы человеческого мира.
Об этом пределе, и в предельном случае, можно было бы сказать, что не существует бессознательного, образованного выстроенными в логическую цепочку представлениями и (связанными с ними или нет) аффектами. Напротив, здесь сознание не использует свои права, чтобы превратить в означающие [означить] хрупкие, еще не установившиеся разграничения территорий, где «я», находясь в стадии формирования, без конца заблуждается. Мы не находимся больше в тени бессознательного, мы – на этом пределе первовытеснения, которое, тем не менее, нашло неотъемлемо телесную и уже значимую метку, симптом и знак: отторжение, омерзение, отвращение. Объект и знак – в состоянии брожения. Оно происходит не от желания, а от нетерпимого означивания. Они балансируют между бессмысленностью или невозможностью реального. Но так или иначе, вопреки «я» (которого не существует) представляются через отвращение.
Предпосылки знака, дублирование возвышенного
Остановимся на этом моменте. Если отвратительное уже представляет собой начальную стадию знака для необъекта, на грани первовытеснения, становится понятным, что оно соседствует с одной стороны с соматическим симптомом, с другой – с сублимацией. Симптом: язык, который уже не слышат те, кто прислушивается к голосу бессознательного, поскольку его предмет оказывается заблудившимся за пределами желания, – язык становится отступником, структурирует в теле инородное тело, чудовище, туберкулезную и раковую опухоль. Сублимация, напротив, не что иное, как возможность назвать предназванное, предобъектное, которые оказываются на деле трансназванием, трансобъектом. В симптоме отвратительное заполоняет меня, я становлюсь отвратительным. При помощи сублимации я удерживаю его. Отвратительное выткано возвышенным.[44]44
Термин «сублимация» – «sublimation», введенный З. Фрейдом для обозначения влечений, переориентированных на социально значимую несексуальную цель, с момента своего появления ассоциировался с термином «sublime» (возвышенное) и «sublimation» (химический процесс непосредственного перехода вещества из твердого состояния в газообразное). – Прим. перев.
[Закрыть] Это не одно и то же, но один и тот же субъект и один и тот же дискурс осуществляют и то, и другое.
Ведь возвышенное тоже не имеет объекта. Когда меня очаровывает звездное небо, подобное морской глубине или витражу фиолетовой мозаики, то это такое собрание смыслов, цветов, слов, ласк, то это прикосновения, запахи, вздохи, ритмы, – все это возникает, обволакивает меня, поднимает и уносит меня прочь от вещей, которые я вижу, слышу или о которых думаю. Возвышенный «объект» растворяется в переходах бездонной памяти. Именно память переносит этот объект – от определенности к определенности, от воспоминания к воспоминанию, от увлечения к увлечению – на ослепительно сияющую вершину, где я теряю себя, чтобы начать существовать. Как только я схватываю ее, как только я называю ее, возвышенное вызывает – и всегда уже вызывало – поток переживаний и слов, наполняющих память до бесконечности. Я забываю тогда точку начала и обнаруживаю себя в иной вселенной, оторванной от той, где есть «я»: упоение и утрата. Не от переживаний и слов, но всегда вместе со словами и переживаниями и посредством них – возвышенное есть то, что ко всему прочему наполняет нас достоинством, доводит нас до исступления и заставляет нас быть одновременно здесь, брошенными, и там, другими и яркими. Отчужденность, невозможность слияния, упущенная целостность, радость: очарование.
До начала: разделение
Отвратительное может тогда проявиться как самая хрупкая (с точки зрения синхронии), самая архаичная (с точки зрения диахронии) сублимация еще не отделенного от самих влечений «объекта». Отвратительное – тот псевдообъект, который конституируется до, но появляется лишь в разрывах вторичного вытеснения. Таким образом, отвратительное – «объект» первовытеснения.
Но что такое – первовытеснение? Скажем так: это способность говорящего существа, то есть существа, всегда населенного Другим, разделять, отбрасывать, повторять. Причем не конституируя (еще или уже) это разделение, это различение, этот субъект/объект. Почему? Может быть, из-за материнской тревоги, не способной раскрыться в соответствующем символическом.
Отвратительное противостоит нам, с одной стороны, в те переходные периоды человеческой истории, когда человек блуждает по территории животного. Так, именно отвращением первобытные общества обозначали территорию своей культуры, чтобы отделить ее от угрожающего животного или звероподобного мира, который представляется как убийство или половой акт.
Отвратительное противостоит нам, с другой стороны, и на этот раз в индивидуальной археологии – это наши самые примитивные попытки благодаря автономии языка отделить себя от материнской целостности – даже прежде, чем начать экзистировать вне ее. Отделение резкое и неуклюжее, его всегда подстерегает опасность вновь попасть в зависимость от одновременно успокаивающей и удушающей власти. То, что матери трудно признать символическую инстанцию (или быть признанной последней), – то есть, если сказать иначе, ее проблемы восприятия фаллоса, представленного ее отцом или мужем, – разумеется, по определению не может способствовать будущему субъекту покинуть его естественное убежище. Если ребенок и может быть для матери знаком для ее собственной самоидентификации, то нет никаких оснований для того, чтобы она в свою очередь стала для него проводником его собственной автономизации и самоидентификации. В этой ситуации тела-к-телу лишь символический свет третейского судьи, обычно отца, может служить будущему субъекту, если, конечно, он обладает сильными инстинктами для продолжения оборонительной войны своего тела с тем, что исходит от матери и что станет отвратительным. Отталкивающим, отторгающим; отталкивающим самого себя, отторгающим самого себя. Отвращающим.








