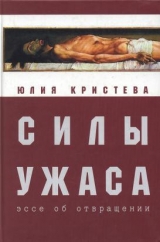
Текст книги "Силы ужаса: эссе об отвращении"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Юлия Кристева
Силы ужаса: эссе об отвращении
Миглена Николчина. Власть и ее ужасы: полилог Юлии Кристевой[1]1
Перевод с английского З. Баблояна.
[Закрыть]
L'étrangère
В самом начале карьеры Юлии Кристевой Ролан Барт представил ее французской публике как l'étrangère, чужестранку. Позиция Кристевой – позиция болгарской изгнанницы – часто обсуждалась в противоречивых терминах. С одной стороны, ее воспринимали как гегемоническую центристку (хотя и с уклоном влево). В сборнике Женское письмо в изгнании Кристеву определяют как соучастницу заговора «гегемонии модернизма, фетишизирующей формальный эксперимент» и как теоретика, избравшую «центр одной из частей левой интеллектуальной сцены Франции» (центр одной из левых частей – несколько сложновато, не правда ли?)[2]2
Ср.: Schenck, Celeste M. Exiled by genre: modernism, canonicity, and the politics of exclusion. O'Sickey, Ingeborg Majer. Mystery Stories: The Speaking Subject in Exile. In Women's Writing in Exile. Eds. M. L. Broe and A. Ingram. Chapel Hill and London: U of North Carolina P, 1989. P. 231, 374.
[Закрыть]. Согласно Гаятри Спивак, «болгарская жизнь [Кристевой] ни малейшей тенью не касается слепящего света парижского голоса»[3]3
Spivak. Gayatri Chakravorty. In Other Worlds: Essays in Cultural Politics. New York and London: Routledge, 1988. P. 140.
[Закрыть]. С другой стороны, ее поведение расценивалось как выставление напоказ своей маргинальности, маргинальности «вульгарной болгарки»[4]4
Gallop, Jane. The Daughter's Seduction: Feminism and psychoanalysis. Ithaca, N.Y.: Cornell UP, 1982. P. 120.
[Закрыть]. В среде болгарских интеллектуалов циркулирует множество анекдотов о том, как она отказывалась – или не отказывалась – говорить по-болгарски – или с болгарами и т. д.
В таких дискуссиях, неважно, насколько противоречивых, обычно забывают о последствиях третьего компонента чужестранности Кристевой. Честолюбивая юная болгарская изгнанница вывела себя на оживленную интеллектуальную сцену Франции второй половины шестидесятых как глашатая и интерпретатора русской теоретической мысли: в первую очередь, мысли бахтинской. Она выставляла напоказ на этом начальном этапе не столько свою маргинальность как болгарки (что долгое время, с некоторыми примечательными исключениями, всплывало по большей части в бессознательном ее текстов[5]5
Ср. мою работу The Lost Territory: Parables of Exile in Julia Kristeva. Semiotica 86.3–4 (1991): 231–246.
[Закрыть]), сколько свое знание «из первых рук» русского формализма, работ Бахтина, марксистской идеологии и ее приложений, коммунистических практик и т. д. В этом отношении она следовала примеру другого известного болгарина, Цветана Тодорова, который уже жил в Париже, когда она прибыла туда в конце 1965 года. В отличие от него, однако, она в саму свою теоретическую установку в свернутом виде вписала свою чужестранность, демонстрирующую ее преимущества – преимущества болгарки, продающей русский интеллектуальный продукт французам (и позднее – французский интеллектуальный продукт американцам). Далекую от всего лишь биографического факта, чужестранность Кристевой следует определять – и, безусловно, именно поэтому Ролан Барт назвал ее l'étrangère – как теоретическую, художническую и этическую позицию и, помимо этого, как фундаментальное свойство ее мышления и ее письма.
Может быть, сама эта позиция берет свое начало в русской теоретической мысли. Чтобы заставить язык работать и столкнуться с его материальностью, необходимо стать в нем чужестранцем (через отстранение?)[6]6
Ср.: Kristeva Julia. Semeiotike: Recherches pour une semanalyse. (Extraits) Paris: Seuil, 1969. P. 9.
[Закрыть]. Нужно остановить свое автоматическое восприятие его и взглянуть на него с позиции радикального непонимания – нужно стать другим языка. Работа с языком эквивалентна трансляции нередуцируемой гетерогенности (материально-телесного низа?).
Без этого отчуждения от языка, отчуждения, что толкает поэта на поиски совершенно нового мира, не оживает воображение и, в конце концов, как показывает Кристева в Чужих самим себе, нет ни оснований для взаимопонимания и сотрудничества, ни надежды на парадоксальную универсальность, необходимую для мира без границ. Нам нужно стать чужестранцами – и мы уже сконструированы как чужестранцы: «сироты, но творцы; творцы, но отверженные». С Малларме, которого она часто цитирует в своих работах, Кристева соглашается в том, что «ничто не займет место места». Муза астрономии, Урания, «Муза точки в пространстве»[7]7
Цитата, а также само превращение Урании в Музу изгнанников принадлежит Иосифу Бродскому.
[Закрыть], Муза пустоты и математической точности, возвышается над историей говорящего существа, ибо эта история есть «лишь вариация пространства». Это история вызова, брошенного новым пространствам – новым путям говорения. Говорящее существо обитает в языке как изгнанник. Изгнанничество есть его извечная судьба. По Кристевой, язык есть бездомность бытия.
Художник и мать
На разных этапах своего развития теоретическое письмо Юлии Кристевой погружалось в это конститутивное изгнанничество человеческого существа и субъективности как таковой. Поэтому, прежде чем вплотную приступать к темам сиротства и бездомности в Силах ужаса, необходимо подчеркнуть присутствие этой проблематики в работах Кристевой [в целом]. Как правило, при этом [ею] разрабатываются два полярных подхода. С одной стороны, возникает фигура поэта, художника, что изобретает новые территории и языки, что производит и переделывает культуру (Селин – вот хороший пример из первых, что приходят на ум). С другой стороны, возникает определенное «противостояние рассудка и пространства», концептуализируемое Кристевой по-разному (в нашем случае – как abject [отвратительное]), но всегда, как мне кажется, приводящее к фигуре материнства и собственно матери. Эта поляризованная структура внедряется в рамки самых разных дисциплин: лингвистики и поэтики, психоанализа и семиотики, эпистемологии и метафизики, антропологии и истории искусства, религии или политических идей. Любые из этих подходов, однако, всегда обращаются к области «означивающих практик» – т. е. к сфере художественного творчества, где демонстрируется процесс становления знака. В двойном модусе конструирования и пресечения знаковой системы[8]8
Кристева использует этот термин (traverse) в значении, предполагающем движение «наперерез», «пересекая», «разрезая по вертикали», движение, т. о., размывающее, дестабилизирующее и демонстрирующее, в терминах происхождения, линейное единство символического. См.: ее работу: Pratique signifiante et mode de production в La Traversée des signes. Paris: Seuil, 1975.
[Закрыть], означивающие практики включают в себя как сборку, так и разборку говорящего субъекта и его идентичности. Следовательно, им необходим незавершенный, расщепленный и фрагментированный, множественный и динамический «субъект», охваченный болью и наслаждением, – такой субъект выводится Кристевой как субъект-в-процессе, и наилучшим образом он иллюстрируется работой художника.
Такое соединение теории и искусства приводит к двум основным следствиям. Теоретический дискурс, п(е)ресеченный означивающими практиками – объектом своего анализа, – приближается к собственным внешним пределам и подвергает сомнению собственные предпосылки. Реализация этого разъедающего вопрошания обозначается Кристевой как «семанализ» – процедура, которая удовлетворяет «требованию описания означивающего феномена – или означивающих феноменов одновременно с анализом, критикой и разложением „феномена“, „значения“ и „означающего“».[9]9
Kristeva Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Trans. T. Gora, A. Jardine, and L.S. Roudiez. New York: Columbia UP, 1980. P. vii.
[Закрыть] В рамках такого установления теории-как-практики материнское пространство раскрывается как граница, как труднодоступное внешнее, одновременно очерчивающее и нарушающее строгость и точность теоретической гомогенности. С другой стороны, означивающие практики, сталкивающиеся с аналитическим предприятием, обладают знанием, которое они не обязательно «сознают», но которое запускает производство значения и прозрачности субъекта. Через эту познаваемую прозрачность фигура матери обретается как динамический фактор порождения и вместе с тем и превосхождения означающего. Для гомогенного пространства, где правят значение, синтаксис и логика, мать есть то внешнее, что поддерживает его и вместе с тем раскрывает его пределы; в гетерогенном пространстве, где знаки производятся и разлагаются, мать является диалектикой, что порождает и разрушает их.
Таким образом, пронизывающий всю кристевскую теорию нарратив, сюжет, или – задействуем неоднозначность французского histoire – история и оболочки повествования есть история и повествование о матери, о ее отсутствии (ибо она всегда вовне синтаксиса и логики) и о ее могуществе (ибо она их конструирующее и производящее внешнее). Более того, это история и повествование, пронизанные великим пафосом, ибо они рассказывают о преждевременной утрате (матери), о боли, о страхах и страстях, вызванных отделением (от матери), и о безутешных странствиях (в поисках матери) говорящего существа, поэта, художника и изгнанника, склонного к унынию и к экзальтации, обреченного пересекать всегда чужую страну других языков и метаязыков, обещающую воссоединение (с матерью), но отклоняться от нее все дальше и дальше в бесконечном «политопическом» поиске.
И это еще не все. Ибо если дизъюнкция между гомогенным и синхронным пространством, где функционируют коды, и гетерогенным и диахронным пространством, где они возникают, дает начало повествованию о могущественной, но утраченной матери, тогда также существует модус, в котором синхрония и диахрония становятся соразмерными и гетерогенность выражается как часть самой символической гомогенности: некая сторонняя, поперечная часть, конечно, та, что возвращает присутствие отсутствующей матери. Это проблематическое присутствие, пересекающее линейность символического (где символическое есть порядок знака, синтаксиса и закона), есть то, что Кристева обозначает как «семиотическую хору»[10]10
Хора часто описывается как семиотическая, но также называется и «семиотизируемой». Значит ли это, что хора не обязательно семиотична?
Хора – это термин, позаимствованный у Платона. Он обозначает тип концептов, что устанавливают внешнее наименованию, постигаемое только через «трудное рассуждение»: назвать неназываемое значит утратить его (как неназываемое), однако о нем невозможно сказать вне этого называния. Таков представляемый хорой парадокс: как только она устанавливается, она утрачивается, но и не существует иначе, чем через это установление.
Мысль Кристевой, однако, заключается в том, что, помимо называния и установления в теоретическом исследовании, хора может быть означена вне значения и референции определенным избытком в литературе и искусстве. Это означивание, упорядочение вне значения, есть архаический материнский язык: эхолалический, вокализующий, ритмический и т. д. Хора, осуществленная в материнском языке, и есть семиотическое. То, что п(е)ресе-кает и распыляет символическое, есть, т. о., семиотизация хоры: вечное возвращение хоры к хоре семиотической.
Возвращение хоры конституирует семиотическое как пространство сборки и разборки субъекта, но также и объекта: семиотическое означивает формирование субъекта и объекта через стадии их проблематичного и неопределенного разделения (отсюда и кристевские концепты abject [отвратительного]), вещи и другие теоретизации проницаемости субъект-объектной дихотомии.
[Закрыть]. Будучи предусловием символического в терминах его истории, histoire, будучи последствием символического в терминах своей организации в доступный наблюдению механизм, семиотическая хора в то же время всегда синхронна, симультанна символическому как встряска и трансгрессия символического: избыток, составляющий языковой знак и взрывающий свет в цвете. Наиболее очевидное в поэтической практике авангарда, семиотическое тем не менее населяет любое функционирование языка и символического' – и населено ими. Тем самым оно представляет постоянный вызов временным разграничениям через парадокс прошлого, которое никогда не проходит и обретает свое повторение в ритме и смехе.
Таким образом, в работах Кристевой переписываются заново определенные наиболее запутанные концепты, «постигаемые через трудное рассуждение» (хора Платоновой антологии, Negativitdt и Kraft диалектики Гегеля). В числе различных ее попыток назвать неназываемое, куда входит и [понятие] семиотического, abject [отвратительное] определенно одна из наиболее захватывающих, настоящий шедевр: введенное в Силах ужаса на пересечении антропологического исследования Мэри Дуглас об отвратительном и фрейдова психоаналитического исследования фобии, abject [отвратительное] уводит нас к раннему, тревожащему и крайне нестабильному разделению, предшествующему субъект-объектной дихотомии. Тот факт, что за этой концепцией, так же, как и за «Вещью» меланхолии, маячит фантазматически уничтоженное и отвергнутое материнское тело, часто воспринимается феминистками с подозрением. На мой взгляд, однако, теория Кристевой как раз реабилитирует материнскую фигуру, сквозь которую повествование/история о ее утрате рассказывается как судьба говорящего существа – охваченного ужасом, гонимого, скорбного и потому творящего. Так мать утрачивается и обретается через творчество. Как abject, Вещь, семиотика, хора, материнское пространство сотрясает и распыляет значения, оно дробит и производит их. Это ритм и чрезмерность звучания в языке, это избыток цвета в живописи, это сам принцип музыки и танца, и во всем этом – неозначиваемая артикуляция наслаждения и смерти.
Эпистемологическое пространство
Двойная фигура артиста и его «матери» возникла в результате сдвига теоретического интереса Кристевой с проблемы операций «я» на проблему процесса, производящего это «я». «Как способно данное конкретное сознание устанавливать само себя? – вот что мы спрашиваем. Нас занимает, следовательно, не действующее и производящее сознание, но более сознание производимое»[11]11
Julia Kristeva, La Révolution du langage poétique: Pavant-garde à la fin du XIXe siècle, Lautréamont et Mallarmé. Paris: Seuil, 1974. P. 35.
[Закрыть]. В своей ранней книге Semeiotike (это слово не удивит русского читателя), обращаясь к классификации наук Пирса, Кристева предлагает определение семиотики как теории, исследующей время (хронотеория) и топографию (топотеория) означивающего акта. Итак, один из ходов, вводящих в действие ее проект, касается топотеоретической операции: [это] признание эпистемологического пространства как расщепленного на два несовместимых типа мышления, в котором «один артикулируется только при его неведении о другом: репрезентация и ее производство, умозаключения об объектах и диалектика их процесса (их становления)»[12]12
Kristeva,Julia. Polylogue. Paris: Seuil, 1977. P. 231.
[Закрыть].
Такое признание эпистемологического пространства как расщепленного, всегда открытого и никогда не насыщаемого происходит, следовательно, от осознания того, что производство знака и субъекта не может происходить в гомогенной сфере концептов и идей, формальной логики как логики речевых высказываний или математики.[13]13
В ранних работах Кристевой эти идеи связаны с гегельянской и марксистской предысторией ее теорий. Отсюда ее обращение к диалектической логике. Позже она воспринимает свой проект как отклонение от рационализма (включая рационализм Фрейда), что не нуждается в формальных обоснованиях.
[Закрыть] В этой гомогенном пространстве мысль не включает в себя ее создание. Исследования Фреге о бесполезности логического отрицания для Кристевой есть неоспоримое осуществление дилеммы, берущей начало от Платонова видения бытия и отрицания им, в Теэтете и Софисте, существования негативных утверждений. Гетерогенность изгоняется из царства мысли, представляемого Платоном и Фреге[14]14
С Платоном [однако же] все не так просто, как то представлено в более поздних работах Кристевой (например, в главе Symposium в Tales of Love).
[Закрыть]: по Кристевой, эта операция неизбежна, поскольку соответствует тетической фазе означивающего процесса – т. е. предпосылкам феноменологического субъекта. Но только приближаясь к гетерогенности через концепты, подобные негативности у Гегеля, понимаемой как транс-субъективное и транс-символическое движение, или Ausstossungn Verwerfungy Фрейда, или разнообразным описаниям материнского пространства у самой Кристевой, мы можем обратиться к проблеме производства знака и субъекта. Подобное исследование требует иного типа «логики» и гетерогенной экономики: эпистемологическое пространство, доступное наблюдению только через некоторое нарушение символической функции.
Различные признаки такого нарушения и даваемое ими знание о производимом сознании являются, т. о., центром теоретических интересов Кристевой. От [этапа] исследования перманентно стабилизируемых и [в то же время] дестабилизируемых взаимодействий между семиотическим и символическим и до [этапа] разработки различных модусов «прыжка» субъекта в царство знаков последовательно реализуемой целью Кристевой есть демонстрация динамического характера взаимоотношений символического и гетерогенной экономики, приводящей его в действие; проблематизация означающего как всегда неустойчивого и потенциально подверженного изменениям. Тетическое, то есть феноменологическая позициональность субъекта, принимаемая Кристевой в качестве границы между символическим и семиотическим и подстраиваемая под ряд «имаго – стадия зеркала – кастрация», есть граница пересекаемая: проведенная ради ее оспаривания, установленная так, что может быть сотрясена. Одной из всегда актуальных целей Кристевой было изучение условий, при которых развеивается сакральность и неизменность означающего.
Возможно, здесь стоит повторить, что для Кристевой вопрос заключается не в том, как сознание-вообще начинает быть, но в том, как начинает быть данное конкретное сознание, т. е. сознание, всегда рассматриваемое как исторически и географически очерченная проблема. Один из ранних (и еще вполне марксистских) проектов Кристевой, как демонстрируется в La Traversée des signes, заключался в том, чтобы выяснить, связаны ли различные модусы производства с различными типами формаций субъекта и означивающих практик. В более поздних работах Кристевой этот проект не получил развития – в более поздних работах, где осуществляется движение от марксистской и незападной проблематики к углублению внимания к микрологии означивающего процесса. Тем не менее этот незавершенный проект показывает, что для Кристевой в любой доступной наблюдению точке означивающей практики и сборки/разборки субъекта значимы культурно и исторически специфические аспекты этого процесса.
Хочется подчеркнуть, что, согласно Кристевой, вариабельность закона связана с вариабельностью конфигурации той «тайны», что он скрывает. Нарушение [символического порядка], которое она предлагает изучать, несет сообщение, обусловленное тем символическим, которое оно и прерывает. Пространство производства, открывающееся «за» пространством тетической функции, не является, т. о., выходом в нечто вроде чистой шопенгауэровской воли или в пространство неограниченной потенциальности, могущее подчиниться любым желаемым преобразованиям. Наоборот, это пространство связано с означивающими практиками, что упорядочивают и артикулируют его. Музыка есть тот самый кристевский случай чистого симеозиса, но музыка же и представляет собой один из наиболее очевидных примеров культурно специфической enchainement [прикованности/обусловленности/упорядоченности][15]15
Кристева много раз возвращается к размышлениям Хайдеггера над Прометеем Прикованным древних греков, над самим названием, что может быть переведено как «Прометей ритмизованный». Хореографическая и музыкальная – ритмическая – enchainement [прикованность] непокорного титана представляет собой драму семиотического упорядочения отрицания и бунта.
[Закрыть] отрицания. Изучение «революции поэтического языка», следует помнить, разворачивается в контексте разысканий в сфере французского стихосложения. Исследование материнства неотделимо от тех форм, какими западное искусство и религия его наградили. Утрата «физического пространства», диагностированная в Рассказах о Любви, есть утрата более недоступной западной христианской «души» с ее греческой и иудейской родословной. И так далее. Поэтому, несмотря на акцент, делаемый Кристевой на обмане, на иллюзорном и игровом, нельзя упускать из виду те очень конкретные и жесткие условия, что вызывают их к жизни. «Каждому эго – его объект, каждому суперэго – его abject»[16]16
Pouvoirs de l'horreur. P. 10
[Закрыть]. Но кроме этого: каждому символическому – его traversée [пресечение].
Время
Провозглашение подрывного пространства производства знака и субъекта с необходимостью влечет за собой «хронотеоретическую» операцию: выработку логических и хронологических приоритетов, то есть линеаризацию синхронического функционирования. Сюда включается некий специфический модус темпоральности, который Кристева обсуждает в своем эссе «Размещать Имена» в терминах возникновения в теории Фрейда «ребенка» как остатка при вычитании вины из власти. Этот остаток от метаморфозы ребенка во взрослого есть некое совмещение ребенка и взрослого, что дарит нам ребенка «всегда уже выросшего», вписанного в «нарративную текстуру», то есть в текстуру языка и фантазма. Продиктованный взрослой памятью и проартикулированный взрослым аналитиком, ребенок, триангуляционная семейная проблематика коего служит объяснением производству говорящего субъекта, неизбежно есть продукт этого говорящего субъекта: с говорящим субъектом нельзя взаимодействовать через ребенка на нулевой степени символизма или на уровне влечения. Значит, любые вопросы приоритета и предшествования следует формулировать очень осторожно: ребенок – или семиотическая хора, о которой часто задаются подобные вопросы, – могут логически и хронологически предшествовать взрослому (т. е. символическому), хотя эпистемологически всегда сами являются следствием.
Интерсексуальность
Итак, кристевский дискурс материнской проблематики всегда опосредован тем ребенком, вечным ребенком, которым является художник. Художники Кристевой, фактически, обладают некими общими характеристиками, которые делают их странно подобными друг другу. Все они одержимы великой материнской страстью и многие из них принимают имя своей матери (или бабушки, в случае Селина) или эзотерически играют с ним. Для них, так или иначе, но означивающая практика есть счастливо свершившийся инцест – практика, открывающаяся превышением значения, как в прозрачности живописи Беллини или звездном смехе Рая Данте, – но которая может также раскрываться в ужасе рушащихся границ (снова Селин) и таким образом приводить к творчеству, свершающемуся как непрерывное бегство. Так художественная практика, изучаемая Кристевой, приравнивается к «апроприации – таинственной или насильственной, фетишистской или психотической – этой обратной стороны, поддержки и источника могущества, то есть материнской мощи и наслаждения»[17]17
La Révolution du langage poétique: l'avant-garde a la fin du XIXe siècle, Lautréamont et Mallarmé. Paris: Seuil, 1974. P.483.
[Закрыть]. Значит, художники Кристевой стремятся узурпировать женскую роль и находят своего двойника в фигуре сестры, воспроизводящей их собственный опыт того, что находится вне символического, и их проблематичный призыв к тому, что находится вне значения.
Таким образом формируется «вертикальная пара», которая, через гендеризацию инаковости, драматизирует пару Означающее-Означаемое как динамическое отношение, в котором позиции могут сдвигаться и художник может становиться на любую из них, мужскую или женскую, материнскую или отцовскую, превращая текст в пространство, где выполняется сексуальное различение. То, к чему обращается теория Кристевой, – это художники-мужчины, отраженные своими молчащими двойниками-женщинами. Художники становятся «братьями», отражающими ее собственные теоретические усилия. С той же степенью точности можно было бы сказать, что за художниками Кристевой, служащими мостом для поиска теоретика, стоит женщина (мать) (т. е. художники – проводники на пути к матери) или что между женщиной-теоретиком и матерью, которую она стремится вновь обрести, стоит мужчина (художник) – посредник, брат-и-любовник, который, предоставляя возможность эротического инвестирования в другого, перенаправляет движение теоретика от зачарованности своим немым и скрытым объектом к письму. В сфере разрушающихся идентичностей, которой посвящены работы Кристевой, мужской пол художника служит гарантией, всегда неопределенной, постоянно оспариваемым условиям инаковости. Художник, т. о., выполняет посредническую функцию: объединять, разделяя, или разделять, объединяя. Сверхпроводник и изолятор разом, он обеспечивает диалектику теоретического поиска Кристевой.
Субъект теории
Вопрос, который возникает здесь перед нами, – это вопрос о самом – самой – субъекте теории. Кристевское понятие «эпистемологического механизма» фиксирует наше внимание на взаимоотношениях между субъектом теории и ее, теории, объектом. Подобные взаимоотношения подразумевают, что взятие в расчет кризиса значения, субъекта и структуры отпечатывается в теории, которая также есть означивающая практика. Каков же эпистемологический механизм теории Кристевой? Не субъект-в-процессе теории ли сама производит теорию субъекта-в-процессе в Революции поэтического языка? Не является ли та, кто теоретизирует отвратительное в Силах ужаса, сама неустойчивым субъектом, мучимым призрачным мерцанием? Не является ли исследование меланхолии и депрессии в Черном солнце болезненным самовыражением меланхолии теоретика? Не является ли этот теоретик – сама – «субъектом бесконечного анализа»? Иногда явно, но всегда через свои операции письмо Кристевой ставит перед нами эти вопросы: не просто в варианте разоблачения теоретических ухищрений, но скорее как требование принимать во внимание субъект теории как часть самой теории.
Ответ на эти вопросы должен определить возможность описания работ Кристевой как полилога. Термин, столь богатый коннотациями (ответвление Платонова Логоса? аристотелевой Логики? лакановского Означающего? или, если подойти несколько иначе – транспонирование бахтинского полифонического романа в область теоретического дискурса?), вводится как название одной из ее книг.[18]18
Polylogue. Paris: Seuil, 1977.
[Закрыть]
В предисловии он определяется как исходная точка самой теории. Он представлен как разветвление рациональности, с очевидной надеждой на интердисциплинарность, и как транспонирование логику в различные регистры, т. е. как процедура, требующая установления каждый раз нового уникального субъекта и апеллирующая к неповторимости и необратимости. В такой перспективе полилог постулируется как стратификация логики в единичных и уникальных приближениях – результат семаналитического заклинания не-называемого. И это можно воспринимать как движение теории к… роману.
Внутри самой книги, однако, в одном из эссе, озаглавленном «Роман как полилог», термин возникает снова в удвоении, типичном для письма Кристевой, в исследовании женщиной-теоретиком означивающей практики мужчины-художника. Роман-как-текст встречается с телесным субъектом теории, и результирующее столкновение разворачивает полилог, который не обладает широтой множественного расщепления логики или дискурса, но в пределе разбивает тело в ритмическом выражении «боли, раздирающей „я“, тело, каждый орган». Агент этой «множественной шизоидной боли» парадоксальным образом определяется как музицирование в языке, как способность удерживать все тембры выражения вместе и, в итоге, как обращение дробления на жанры, так что «все струны того чудесного инструмента, которым является язык, задействуются разом и звучат вместе». Что «нисходит» (с концептуальных небес теории) как разветвление единой логики в движении к уникальности и единичности, «восходит» (от художественной практики) как воссоединение литературных жанров.
Результатом этого столкновения (теории и художественной практики, точности и наслаждения, семиотических и символических операций) становится не новое синтетическое слияние или объединение (жанров или дисциплин), но «не-синтетическое соединение»[19]19
Кристева применяет это определение к «параграмматическому» и «интертекстуальному» прочтению двух одновременных, но раздельных высказываний (в: Semeiotike. Recherches pour une semanalyse (Extraits), Paris: Seuil, 1969. P. 195J, a также к «взаимодополняющей противоположности» (лотманово со-противопоставление?) двух различных авторских масок (персон) у Лотреамона (в: La Révolution du langage poétique: l'avant-garde a la fin du XIXe siècle, Lautréamont et Mallarmé. Paris: Seuil. P. 192J.
[Закрыть]. Синхронный нон-синтез логики и боли. Раздельный в своих частях и одновременный. Разведенный и соразмерный. Вовлеченный в множественно дизъюнктивный диалогизм. Опирающийся на асимметрично расщепленный субъект. Важно не принять полилог, род теории, сознающей свои нарративные и семиотические измерения, за иносказание, исчерпывающее домен субъекта. Как жанр, чуткий к подстерегающим субъект опасностям и его возрождениям, полилог, пространство, которое Кристева позже размещает в рамках образцово разомкнутых структур трансферной любви, открыт и для вхождения в него (через любопытство или боль), и для выхода (через эффективное лечение). Значит, он окружен внешним ему, содержащим возможности как полного уничтожения субъекта, так и его утопического благополучия. Полилог артикулирует среднее между уничтожением и благополучием, указуя на утопию, но всегда возвращаясь к той проблематической зоне, что делает утопию необходимой.
Для того чтобы принять субъект теории как субъект бесконечного анализа, чтобы взять на себя непомерный риск, возможно, необходимо, считает Кристева, быть женщиной, быть «столь же, как она, сознающей пустоту Бытия»[20]20
Polylogue. Paris: Seuil, 1977. P. 172.
[Закрыть]. Чтобы взять на себя риск, наделяющий нас не воскрешением, но множественными возрождениями из потока влечении, научающий нас терпимости к множественности логик, речей и существований. Смысл интеллектуальным опасностям полилогического проекта придает, в пределе, действительное признание друговости как формулировка нового основания для коммуникации и соединенности.
Матереубийство
Обеспечивает ли понятие полилога продуктивный подход к Силам ужаса? Рассматриваемый как транспонировка бахтинской полифонии в проблематическую гетерогенность теоретического письма, полилог позволяет нам в этом шедевре теории следовать траектории тайного нарратива: нарратива необратимо утраченной территории, бессмертной скорби, безутешного странствия. Иносказания изгнания, где движение теории к навсегда утраченному объекту (матери, стране, темному континенту болью напоминающего о себе забвения) возвращается как нарратив бегства от объекта. Иносказание чужестранности, одним словом.
Трактовать теорию в терминах рассказываемых ею историй – подход, который вряд ли нуждается в оправдании в наши дни. Однако важно отметить, что такой подход становится непреложным в свете комментариев самой Кристевой. Ее теоретический дискурс подвергается преднамеренной беллетризации, что становится все более выраженной и очевидной с каждой последующей ее книгой. Так соблазн «литературной или паралитературной прозы», которому оказано сопротивление в предисловии к Желанию в языке[21]21
Kristeva Julia. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art. Trans. T. Gora, A. Jardine, and L. S. Roudiez. New York: Columbia UP, 1980. P. ix.
[Закрыть] превращается в неизбежную «долю беллетристики» в Силах ужаса. Позднее ее проект описывается как напоминающий повествовательную прозу; как, в конечном счете, близкий к литературе и искусству в своем стремлении вернуть иллюзии все ее терапевтическое и эпистемологическое значение и катартический эффект.
Начиная с Самураев, письмо Кристевой наконец пересекает границу, за которой оно бы могло определить себя как «роман». Силы ужаса, исследование границ и пограничных случаев, есть отсрочка этого пересечения, зависание над границей. Теоретическое письмо Кристевой не опрокидывается целиком ни в литературу, ни, с другой стороны, в метафизику, к чему оно тем не менее сворачивает, и это обосновывается в ее собственных замечаниях о способности психоаналитического дискурса производить определенный «эффект знания», равный сохранению «типологии дискурсов», т. е. сохранению прозрачного различения голосов (поэтических, философских, аналитических) в полилоге. Т. о. психоаналитический дискурс играет роль «аналитика» по отношению к кристевской жанровой гетерогенности, интерпретируя эту гетерогенность в том самом «поэтическом» и «миметическом» акте, что ее и производит. Сам жанр оказывается «пациентом», очень похожим на протагониста Сил ужаса: изгнанника, вопрошающего «Где?», безустанного скитальца, одержимого проведением границ и разделением пространств, сменяющего маски в игре с множеством идентичностей, заблудившегося меланхолика, пересекающего вечно чужую страну «до края ночи».
В контексте такого романическо-теоретического исследования [фигуры] изгнанника Силы ужаса дают подход к [интерпретации] той силы, что гонит нас все дальше и дальше прочь от дома. Здесь, как и в других работах, Кристева исследует «загадочные основания» эдипова треугольника: стадию, логически и хронологически предшествующую отцеубийственному эдипову тропу Фрейда. Мужскому соперничеству во фрейдовой первобытной орде предшествует неартикулируемое океаническое единство (в другом месте Кристева называет его «сообществом дельфинов»), в сущности, женский элемент смертельной и ликующей нераздельности. Это место – или не-место, «нон-плейс» – где правит власть архаической матери; власть блаженных и удушающих объятий до возникновения субъективности, означивания и значения. Угроза, которую представляет собой архаическая мать – это угроза не столько кастрации, сколько полной потери себя; и перед пробуждающимся к возникновению говорящим существом встает необходимость матереубийства – как единственного пути к субъективности и языку.
«Страх архаической матери оказывается в своей основе страхом ее производящей мощи. Эта та мощь, мощь ужасная, которую с таким трудом вынуждена смирять патрилинейная филиация». «Фаллическая энергия, в смысле той символической энергии, что разрушает ловушки перформанса пениса, всегда, коротко говоря, начинает с апроприации архаической материнской энергии». И: «Фаллическая идеализация построена на пьедестале доведения до смерти женского тела»[22]22
Kristeva J. Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'abjection. Paris: Seuil, 1980. P. 92; Histoires d'amour, Paris: Denoel, 1983. P. 97, 443.
[Закрыть]. Насильственная природа необходимости матереубийства, «общего для обоих полов»[23]23
Шассге-Смиргель настаивает на том, что «необходимость отделить себя от первичной всемогущей матери, отвергая ее власть, ее органы и ее специфически женские особенности и инвестируя[сь] в отца – эта необходимость кажется общей для обоих полов». Chasseguet-Smirgel Janine. Sexuality and Mind: The Role of the Father and the Mother in the Psyche, London: Karnac, 1989. P. 25.
[Закрыть], подчеркивается невозможностью инкорпорации или интеграции убитой матери (так как, по Фрейду, через поедание тотема братьями-отцеубийцами инкорпорируется отец); матереубийство, наоборот, реализуется как «выблевывание» материнского тела, как его отторжение. Это отторжение – вне которого будет формироваться abject [отвратительное] с его силами ужаса – проводит первую границу между внутренним и внешним, отделяющую все еще хрупкое «Я» от «всего остального», которое с этого момента остается навсегда по ту сторону. «Будто матерью блюешь» (Силы ужаса)-, эта метафора обратного творения, нетворения, рождения матери против потока времени называет архаический акт творения, устанавливающий первую границу, первое ненадежное измерение пространства и первичную необратимую утрату.








