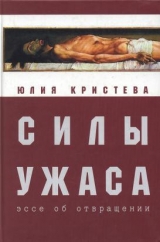
Текст книги "Силы ужаса: эссе об отвращении"
Автор книги: Юлия Кристева
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 17 страниц)
Если бинарное балансирование фраз из первых романов представляется здесь опущенным и замещённым сжатостью синтагм или номинальных фраз восклицательно подвешенных, тем не менее некоторая дуалистичность продолжается. Эта дуалистичность принимает во внимание постоянное напряжение, создающее письмо Селина, самую его суть. Точнее, говорится об этом вписании аффекта с одной и с другой стороны слов, в жест голоса, показанный знаками пунктуации. В движениях рук и всего тела, также как в интенсивности голоса и его модуляциях, детские инкорпорации сохраняют суждение, которое позже будет указывать на позицию высказывающегося по отношению к объекту высказывания. Но в последних текстах Селина, как и в бинарном обороте его начальных текстов, речь больше не идёт о простой регрессии на инкорпорирующий уровень. Вновь появляясь во взрослом дискурсе, инкорпорирующие операции акцентируют стратегию, дополняющую компетенцию и действие синтаксического норматива; они действуют как маркеры «возврата вытесненного» – на уровне самого высказывания (а не на тематическом уровне, рассмотренном нами в предыдущих главах).
Ещё раз, селиновская музыка подтверждается как «записанный аффект» благодаря синтаксико-логической сверхкомпетенции, дополнительному усложнению лингвистических операций. Тогда лучше понимаются заявления Селина по поводу значительной работы, которую представляет, на его взгляд, выработка стиля.
Стиль – это определённый способ напряжения фраз. (…) их осторожного снятия с крюков, если можно так выразиться, их перемещения, и, заставляя читателя самого переместить свой смысл. Но очень осторожно! О! Очень осторожно! Потому что всё это, если делать грубо, это промах, не правда ли, промах. (…) Часто люди ко мне приходят и говорят: – «У вас вид человека, который легко пишет». Ну нет! Я не легко пишу! Только с большим трудом! Более того, писать, это наводит на меня смертную тоску. Надо, чтобы это было очень тонко сделано, очень деликатно. Из 80 000 страниц нужно прийти к 800 страницам рукописи, где работа стёрта. Её не видят.[272]272
Л. Ф. Селин с вами говорит. С. 933–934.
[Закрыть]
В Ригодоне работа писателя сравнивается с умным терпением муравья: «уходить и возвращаться в металлические опилки».[273]273
Там же. С. 731.
[Закрыть]
Поглощение работой, сдержанность усилия, стирание абстрактного для того, чтобы, благодаря им, пусть и не сказанным, и сквозь них, взорвался в звуке и крике аффект самый близкий к пульсации, к падению как от очарования… Ближе всего к неназываемому.
Смех от апокалипсиса
Это транссинтаксическое вписывание эмоции в качестве присущей элементарным структурам высказывания, является, без сомнения, наиболее тонким проявлением того, что мы называли, говоря о содержании и селиновских темах и мифах, отвращением.
Напряжённое, но неопределённое, двойственное положение субъекта. Текучее, оно легко может одновременно занимать два полюса импульсивной гаммы, от присоединения до отклонения. Восторженность и отвращение, радость и гадливость – читатель их быстро прочитывает сквозь линии, изрешеченные белыми пятнами, в которых эмоция не даёт одеть себя фразами. Описания абсурда, глупости, насилия, боли, упадка телесного и морального, помещают их также формально в это междупространствие отвращения и очарования, показанное селиновским восклицанием.
Эта аффективная двойственность, содержащаяся в интонации и отмеченная неопределённостью или восклицанием, даёт нам возможность буквально дотронуться пальцем, даже стиля, одной из главных особенностей Селина. Его ужасающий смех: комическое отвращения. Он не устаёт показывать образы и звук апокалипсиса, даже причины. Никаких рассуждений, комментариев, суждений. Перед апокалипсисом он восклицает в ужасе, близком к экстазу. Селиновский смех – ужасающее и зачаровывающее восклицание. Апокалиптический смех.
Нам известно происхождение и катастрофическая риторика апокалиптического жанра у греческих оракулов, в египетских и персидских источниках, но особенно у древнееврейских пророков. Великое апокалиптическое движение в Палестине (между II веком до Р. X. и II веком после Р. X.) кодирует провидение, которое, в противоположность философскому проявлению истины, предписывает, в поэтическом заклинании, часто эллиптическом, ритмическом и криптограмматическом, несовершенность и низведение всякой идентичности, группы или речи. Это видение даётся для предсказания невозможного будущего и как обещание взрыва.[274]274
См.: Стерлин X. Правда об Апокалипсисе, бушет-Шастел, 1972; Буасмард Р. Б. Апокалипсис или апокалипсисы Святого Иоанна в Revue biblique. Т LYI. октябрь 1949; Левитан Ж. Еврейская концепция апокалипсиса. Дебресс, 1966 и т. д.
[Закрыть]
Чтобы из этого всего придерживаться только Нового Завета и Апокалипсиса святого Иоанна, который Селин цитирует среди своих учителей («Всё есть у святого Иоанна», Феерия в другой раз, с. 54), именно вокруг христианской эпохи создаётся апокалиптический жанр, широко подпитываясь профетической еврейской и литературой Ближнего Востока, погружённой в волну катаклизмов, катастроф, смертей, конца света. Подобный священный ужас пред женским, дьявольским, сексуальным здесь проявляет себя в форме поэтического заклинания, в котором особенная просодия подтверждает название самого жанра: открытие, обнажение истины. Видение сквозь звуки, галлюцинирующие в образы. Ни в кем случае, таким образом, это не философское раскрытие или логическое вскрытие тайного.
Напротив, карнавал не стоит одеревенело на моральной позиции апокалипсиса, но её нарушает, ей противопоставляет своё вытесненное: низкое, сексуальное, богохульственное, к которому он присоединяется, смеясь над законом.
Известен возвышенный, астральный смех дантовской комедии, где тело, радуясь «удавшемуся» инцесту, полностью воспето в радости воплощённого слова. Мы завидуем ренессансной радости Рабле, доверительно показывающей радости глотки, в которой человечество упивается, надеясь найти плоть, мать, тело без виновности. Мы внимательно прослеживаем перипетии человеческой комедии Бальзака, зная, что смертные муки или чудовищные абсурдности – лишь дурачества, доказывающие, a contrario, божественную гармонию и светоносный замысел разума или провидения, в которые верит Бальзак.
С Селином мы в другом месте. Из апокалиптического, даже профетического высказывания у него есть выражение ужаса. Но тогда как это высказывание держится на расстоянии, позволяющем суждение, стенание, осуждение, Селин – он, который внутри этого – он не произносит ни угрозы, не защищает мораль. Во имя чего он бы это делал? Его смех бьёт ключом здесь, лицом к падению, и, всегда имеющий один источник, предвиденный Фрейдом: вторжение бессознательного, вытесненного, подавленного удовольствия, будет ли это секс или смерть. Тем не менее если вторжение и есть, оно не жизнерадостное, ни доверительное, ни возвышенное, ни очарованное предполагаемой гармонией. Оно голо, раздираемо тоской, столь же зачаровано, сколь напугано.
Апокалипсис, который смеётся, это апокалипсис без бога. Чёрная мистика трансцендентального уничтожения. Письмо, которое из этого следует, является, может быть, крайней формой светского положения, без морали, без суждения и надежды. Писатель этого типа, Селин, для такого катастрофического восклицания, каковым является его стиль, не находит внешней поддержки. Единственная поддержка – это красота жеста, который здесь, на странице принуждает язык ближе всего подступиться к человеческой загадке, туда, где это убивает, думает и радуется одновременно. Слово отвращения, в котором писатель и субъект и жертва, свидетель и рычаг… Рычаг чего? Ничего, кроме как этого возбуждения страсти и языка, каковым является стиль, где потоплены всякая идеология, рассуждение, интерпретация, коллективность, угроза или надежда… Красота блистательная и опасная, по отношению к хрупкому радикальному нигилизму, который может рассеяться только «в сверкающих глубинах, где больше ничего не существует»[275]275
Ригодон. С. 926
[Закрыть] …Музыка, ритм, ригодон, без конца, для ничего.
Силы ужаса
Великие ужасы, все это уже есть у святого Иоанна! тюркские книжники лишь водят вас за нос!
Селин. Феерия для другого раза
Отвращение названо: в ночи, наполненной темными звуками, но совершенно лишенной изображений; в толпе опустошенных тел, с одним желанием продолжения наперекор всему и ничто; на странице, на которой мной проложен сложный путь тех, кто из своей пустоты указали мне возможность перехода. После изучения тысячелетнего опыта объективной науки, повторяющей во многом развитие воображаемого различных религий, было решено, что именно в литературе в конечном счете реализуется во всем своем ужасе, во всей своей силе отвращение.
Если приглядеться, вся литература оказывается версией апокалипсиса, укорененного, как мне кажется, безотносительно к социально-историческим условиям, на той хрупкой границе, где идентичности (субъект/объект и другие) перестают быть двойственными, неясными, гетерогенными, животными, превращенными, искаженными, отвратительными, или лишь отчасти определяются ими.
Произведение Селина обладает модернистским упорством разрушения, или анализа, что одно и то же, и классическими эпическими возможностями, дополняющими популярную, если не вульгарную широту охвата, в целом же представляет собой лишь один среди многих других пример отвращения. Бодлер, Лотреамон, Кафка, Ж. Батай, Сартр («Тошнота») или другие из современных могли бы каждый по-своему поддержать мое сошествие в ад наименования, – то есть значимой идентичности. Но Селин как раз особый случай – привилегированный пример и в этом смысле самый понятный. Его резкость, родом из всемирной катастрофы Второй мировой войны, не щадит ничего из того, что находится в границах отвращения: ни мораль, ни политику, ни веру, ни эстетику, ни тем более субъективное или вербальное. Если он показывает нам тот самый достижимый последний рубеж, который моралист назвал бы нигилизмом, то показывает он одновременно и ту силу непреодолимого обольщения, которую имеет над нами, явно или скрыто, эта область отвращения. Эта книга посвящена тому, чтобы показать, на каком именно механизме субъективности, который представляется мне всеобщим, основывается отвращение и его смысл, и его сила. Предполагая, что литература является по отношению к нему привилегированным означающим, я пытаюсь установить, что эта литература располагается далеко не на задворках нашей культуры, как это пытается представить общественное мнение. Эта литература – решающее кодирование наших самых личных, самых острых кризисов, наших персональных апокалипсисов. Отсюда ее темная сила: «великий мрак» (Анжело из Фолиньо). Отсюда ее перманентный компромисс: «литература и зло» (Жорж Батай). Отсюда также подъем священного, призыв шарлатанов со всех сторон, которые она предпринимает: святое, даже если оно покинуло нас, не должно исчезнуть и оставить нас в покое. Заняв место ужаса, захватив его священную власть, литература может быть, как выясняется, не только последним бастионом сопротивления, но и активным разоблачением отвратительного. Кризис Слова заряжает, выстреливает и разряжается разряжается – отвращением.
Литературное письмо проясняет то «из материнского», что активизирует ту самую неуверенность, которую я называю отвращением. Литература – это важнейшее сражение, которое ведет писатель (мужчина или женщина) с тем, что он называет демоническим. Но называет только для того, чтобы обозначить его как собственного необходимого дублера, как другого (пола), который на него работает, созидает его и им обладает. Можно ли писать, не будучи охваченным отвращением, вне состояния этого неопределенного катарсиса? Лишь феминизм, стремящийся сохранить свою власть, – последняя из претендующих на власть идеологий, – будет роптать на узурпатора прямо перед носом этого, может быть невольного, разрушителя нарциссизма, как всякой воображаемой идентичности, включая сексуальную.
Хотя к чему в наше мрачное кризисное время настаивать на ужасе существования?
Эта книга может быть прочитана и иначе, вовсе не как некоторое интеллектуальное упражнение. Прежде всего, наверное, теми, кого опыт психоанализа, письма или переживания, болезненного или экстатичного, заставил сорвать покрывало той общей таинственности, на которой основывается любовь к самому себе и к ближнему, и разглядеть под ними бездну отвращения. Ведь отвращение в конечном счете – оборотная сторона религиозных, моральных, идеологических кодов, на которых зиждется сон индивидов и покой государств. Эти коды – источник их очищения и сдерживания. Подавление кодов вернет нам проблему «апокалипсиса», из-за этого мы не можем избежать драматичных конвульсий религиозных кризисов.
Наше единственное отличие в данном случае состоит в том, что мы не желаем сталкиваться лицом к лицу с отвращением. Кто хотел бы взять на себя миссию пророка? Ведь мы потеряли доверие к Центральному Означающему. Мы предпочитаем предвидеть или соблазнять: планировать, обещать излечение или эстетствовать; заниматься социальной защитой или искусством, не слишком удаленным от средств массовой информации.
Кто, в конце концов, я вас спрашиваю, согласится назвать себя отвратительным, предметом или источником отвращения?
Ничто не заставляет психоаналитика занять место мистика. Психоаналитические институты кажутся еще менее приспособленными для этой роли, хотя характерная для них извращенность заставляет практиковать перенос в производстве мини-параноиков, если, это, конечно, не просто отупление соответствующими стереотипами. Если аналитику удастся остаться на единственно соответствующем ему – пустом – то есть не мыслимом метафизически месте, то именно ему дано услышать и условиться об установлении дискурса вокруг этого переплетения ужаса и обольщения. Оно – свидетельство неполноты говорящего. Оно – понятое как нарциссический кризис на подступах к женскому – представляет в комическом свете религиозные и политические претензии, пытающиеся придать смысл человеческой истории. Ведь перед лицом отвращения смысл имеет смысл только как преодоленный, отброшенный, отвратительный: комический. Именно здесь, установленная и поддерживаемая, вопреки невозможному, позже или никогда, состоится в конечном счете комедия – «божественная», или «человеческая», или феерия – «для другого раза».
Аналитик – интерпретатор, поэтому он, привязанный к смыслу, как попугай Р. Русселя к своей цепочке, – без сомнения, редкий современный свидетель того факта, что мы живем на вулкане. Пусть он утолит тем самым свое развращенное желание, пусть; при условии что он, мужчина или женщина, но не в качестве такового, раскроет самую скрытую логику наших страхов и наших ненавистей. Сможет ли он высветить, как рентгеном, ужас, не накапливая его силу? Сможет ли представить отвратительное, не отождествляясь с ним?
Вероятно нет. Но именно этим знанием – особым знанием, начиненным забвением и смехом, – знанием отвратительного он или она помогает пережить первую значительную демистификацию Власти (религиозной, моральной, политической, вербальной), которую пережило человечество. Демистификация возникает как закономерное завершение как священного ужаса той религии, которую представляет собой иудео-христианский монотеизм. В то же самое время многие другие с единственно истинной верой в необходимость грядущих священных войн продолжают свой долгий путь к идолам и истинам всякого рода…
Под закрытыми и цензурированными поверхностями цивилизаций я обнаруживаю питающий их ужас, который они пытаются устранить. Я очищаю, систематизирую, осмысливаю ужас, который возникает с возникновением цивилизаций и поддерживается их существованием. Спокойно ли это место стороннего наблюдателя, которое я определяю для себя? Я понимаю это состояние скорее как состояние разочарования, фрустрации, опустошенности… Вероятно, это единственный противовес отвращению. То, что остается, – его археология и его бессилие, – не что иное, как литература: высшая точка, в которой отвращение взрывается переполняющим нас прекрасным… и «ничего другого не существует» (Селин).
Выходные данные
ЮЛИЯ КРИСТЕВА
СИЛЫ УЖАСА: эссе об отвращении
Книжная серия «ГЕНДЕРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» основана в 2001 году при поддержке Фонда Дж. Д. и К. Т. Макартуров
Это издание было осуществлено в рамках Программы содействия издательскому делу «Сковорода» Посольства Франции в Украине и Министерства иностранных дел Франции
Главный редактор издательства Я. А. Савкин
Редакция перевода: З. Баблоян, М. Жеребкин
Дизайнер обложки: Я. Н. Граве
Корректор: Т. А. Брылева
Оригинал-макет В. С. Кучукбаев
Подписано в печать 14.07.2003.
Формат 60x88 1/16
Печать офсетная. Усл. печ. л. 15,6.
Тираж 3000 экз. Заказ № 4407
ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
193019, СПб., пр. Обуховской обороны, 13.
Отпечатано с готовых диапозитивов в Академической типографии «Наука» РАН,
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, д. 12








