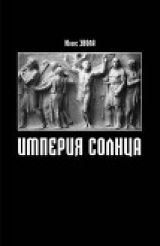
Текст книги "Империя Солнца"
Автор книги: Юлиус Эвола
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 13 страниц)
ЕВГЕНИЙ САВОЙСКИЙ
Странно, что по сравнению с Центральной Европой, и прежде всего Австрией, популярность фигуры принца Евгения Савойского в Италии практически равна нулю – здесь, если не обращать внимания на узкую среду историков и специалистов по воинскому искусству, он очень мало известен. Однако это не только один из самых благородных представителей того же рода, что и наш королевский дом, но также и человек, в значительной степени представляющий черты одного символа, особенно знаменательного сегодня.
Действительно, в Евгении Савойском продемонстрировала себя возможность объединения итальянского и латинского элемента с германским, однозначно имеющая европейскую ценность. После Средневековья Данте и гибеллинов именно принц Евгений является одной из немногих фигур, в которых очевидно значение такой встречи, нацеленной на создание наднациональной западной идеи, связанной с символом империи. Рожденный в кариньянской области Савойи, вступившей в альянс с королевским домом Франции, принц Евгений чувствовал своей родиной скорее не Францию, в которой он родился, а Австрию, которая в тот период представляла собой не столько определённую нацию, сколько наследника наднациональной идеи Священной Римской империи, и таким образом стража европейской традиции перед лицом кризиса, явленного Реформацией. Позже этот переход, выполненный принцем Евгением как отдельным человеком, в тесной связи с его действиями был выполнен и Савойским домом, отделившимся в войне за испанское наследство от Франции и перешедшим на сторону Империи и европейской идеи. Таким образом, в связи с фигурой принца Евгения, возможно, будет не слишком рискованно говорить, что в этот период было предвосхищено что–то из высшего смысла, содержащегося в символе «оси». Вместо эфемерного братства, связанного в «латинский» миф, утвердилась сила более высокой идеи. И именно гению представителя Савойского дома она была обязана тем, что на какой–то момент предыдущая римско–германская традиция снова обрела жизнь и престиж и, казалось, составила принцип нового европейского единства. И, возможно, без эгоизма и предательства Англии его новое значительное предвосхищение было бы успешным.
Первым «европейским» действием принца Евгения была война против турок. В критический момент он появился в глазах его современников как спаситель Запада. То, что ранее представляли собой гунны, и что сегодня может представлять собой большевистская опасность – то значили в то время по отношению к сердцу Европы надвигающиеся исламские орды. И именно военному гению принца Евгения мы обязаны уничтожением этой опасности в двух центральных сражениях: в сражении у Зенты и во взятии Белграда. Как и многие другие, эти победы были достигнуты им с силами значительно меньшими по сравнению с силами противника, посредством продуманной смелости типично римского стиля и стратегии, находящейся по меньшей мере наравне с наполеоновской. Всё это должно было принести ему славу непобедимости.
После оборонительных действий, осуществлённых ранее этих двух кампаний, принцу Евгению мы обязаны самым важным вкладом в попытку достичь реальной и творческой концентрации европейских сил. Эта попытка, казалось, имела реальные перспективы из–за заключения союза между Империей, Англией и Голландией (сентябрь 1701 года) – союза, в котором Империя стремилась стать центром притяжения континентальных дел, в то время как другие две страны должны были обеспечить господство на морях. Вопрос о наследовании трона Испании после смерти Карла II, должно быть, исключал любую возможность мирного развития событий. Франция в лице Людовика XIV собирает вокруг себя все противодействующие силы, и так начинается долгая и кровавая война за испанское наследство.
В ней принц Евгений вновь находится в первых рядах как гений войны и как упорный защитник имперской идеи. Здесь нет смысла вспоминать серию побед, одержанных им на различных театрах действий – в Италии, на Рейне и в южной Германии. Скорее важно понимать, что во всех этих предприятиях в принце Евгении было очень сильно как чувство верности по отношению к суверену, так и убеждение, что центром подобной борьбы было не столько владение Испанией, сколько защита идеи Империи как европейской идеи. Гегемонистским мечтам Франции, уже развивавшейся на пути абсолютистского централизма, принц Евгений противопоставлял иерархически–федеральную идею, в значительной степени ещё имевшую традиционные черты в высшем смысле.
После чередующихся сражений и перерывов окончательная победа казалась близкой, когда, в мае 1712 года, перед Камбре, почти в первый раз за его жизнь, в подчинении у принца Евгения оказались настолько большие по сравнению с французскими силы, что он смог бы без труда обеспечить себе путь до Парижа. Но здесь проявилось предательство Англии. Британские войска, присоединившиеся к принцу Евгению, получили приказ не сражаться, и ещё раньше, чем они это узнали, о намерении Англии заключить неожиданный сепаратный мир были предупреждены французы. Англия возревновала к престижу Империи и позаботилась о преследовании лишь собственных эгоистических интересов, оторванных от всякой высшей идеи. Сам Уинстон Черчилль, автор биографии своего предка, герцога Мальборо, сражавшегося на стороне принца Евгения, должен был заклеймить подобное деяние следующими словами: «В истории цивилизованных народов ничто ещё не превзошло подобное тёмное предательство». Что касается принца Евгения, то в своём письме герцогу Ормонду он писал, что Англия с таким поведением, не колеблясь, скомпрометировала всю Европу, подвергнув саму себя серьёзной опасности. И история была должна дать ему основание для этого.
После Утрехтского мира, к которому Империя не имела отношения, среди европейских наций всё больше утверждались силы внутреннего распада. Усилие по защите Европы и достижения её единства, которым она наслаждалась уже в экуменистическом Средневековье, было вновь расколото после краткой кульминации, связанной в основном с символической фигурой Евгения Савойского.
Фридрих Великий должен был сказать: «Истинным императором был именно принц Евгений». В своей сущности он также раскрыл творческие плоды соединения итальянского духа с германским. Германским было его строгое чувство чести и верности, строгость и серьёзность, которая, как кто–то сказал о нём, в другие времена сделала бы из него создателя аскетически–воинского ордена, – такого, как орден тамплиеров, иоаннитов или тевтонских рыцарей. Но итальянской и латинской была его просвещённая смелость, его чувство равновесия, его быстрота зрения, заставлявшая его немедленно замечать пределы возможного и невозможного – и потом, humanitas, выражающаяся в благородном стиле, в любви к искусству, в интересе к размышлениям (можно вспомнить, среди прочего, тесные связи, существовавшие между принцем и Лейбницем). Первоначально слабый телосложением, он смог заставить себя подчиниться самому себе с энергией Игнатия Лойолы, став в полной мере господином своего организма, который он не щадил в предприятиях войны, где всегда фигурировал первым среди первых. Он умер тихо, в полноте своих способностей, 21 апреля 1736 года. Его нашли около его рабочего столика с руками на лице, вечером, перед тем, как он собирался продолжить рассматривать проблемы Империи. Его прах покоится в Соборе Св. Стефана в Вене. Его прозвищем было «Благородный рыцарь», der Edle Ritter. И, как мы уже сказали, возможно, сегодня как никогда его фигура представляет собой символическую ценность европейского итало–германского символа, демонстрируя всё то, что могут силы двух народов, когда они находят пути для творческой встречи.
Eugenio di Savoia //La Stampa, 21 мая 1943 г.
ПРЕОДОЛЕНИЕ АКТИВИЗМА
Трудно оспаривать тот факт, что лозунгом нашей последней цивилизации является «активизм». Экзальтация и практика действия—то есть всего того, что есть усилие, подъем, борьба, становление, преобразование, вечный поиск, непрекращающееся движение, обнаруживается везде. И мы сегодня видим триумф не только действия, но также и философии sui generis на её службе, при помощи систематической критики и мощного спекулятивного аппарата создающей концепции действия алиби всякого рода и пригоршнями выливающей презрение на ценности, свойственных всякой иной точке зрения. Таким образом, из–за концентрации на аспекте «становления», «развития», «истории» современный глаз всё больше привыкает пренебрегать в вещах аспектом «бытия»: в «активизме» задают ритм «историцизм» и «динамизм», и мы видим, что в тех же науках принципы, вчера считавшиеся неизменно действительными и по сути очевидными, сегодня считаются гипотетическими допущениями, управляемыми функцией становления научного знания. Мы видим, что в тех же религиях толкования нового типа не содержат никаких претензий на абсолютность и трансцендентность, которую представляли догмы и «откровения»; и уже не замечают то, что в подобные моменты становления, свойственные истории религиозного стремления, на этой основе без колебаний продвигаются к ещё более вредоносной гуманизации. В философии это ещё очевиднее.
Прагматизм, волюнтаризм, актуализм и так далее – все эти течения, хотя и в различной форме, совпадают в единственном мотиве, делая ничто иное, как переводя в спекулятивную область саму сегодняшнюю жизнь: её волнение, её лихорадку скорости, её механизацию, направленную на уменьшение всякого расстояния в пространстве и времени, её застойный и лишённый дыхания ритм, достигающий своего предела у англосаксонских народов, и прежде всего у американцев.
Здесь тема активизма действительно доходит до кульминации в почти что пандемическом пароксизме: она поглощает всю жизнь с ускорением, которое, кажется, не знает больше препятствий. В то же время горизонты всё более сводятся к мраку и грязи совершенно временных и конъюнктурных реализаций, где демонизм коллектива в полной мере завладевает существами, лишёнными всякой традиционной опоры, заражёнными превосходящим всякие пределы беспокойством, подчиняющимся пробуждённым силам, во многих отношениях являющихся субличностными и лишёнными облика, и подталкивающими к «идеальному животному» новой ариманической цивилизации. Таким образом, мы пришли к ситуации, призывающей тех, кто ещё не совсем забыл древние традиции, составлявшие наше истинное духовное благородство, остановиться и приказать себе вернуться к высшей точке зрения. И можно критиковать указанную ориентацию современного мира не от имени застоя или интеллектуальной или эстетизированной абстракции, а от имени того же действия: демонстрируя, что современный мир, по сути, больше не знает почти ничего о том, что такое действие на самом деле. То, что он превозносит, – это только низшая форма действия, и именно в этом состоит отклонение и опасность. В действительности, действие действию рознь: есть здоровая активность, а есть активность, являющаяся просто лихорадкой, возбуждением, головокружением без центра, которая, вовсе не свидетельствуя о силе, как обычно считают, демонстрирует только бессилие и отсутствие способностей.
Сегодня под видом различных философий «жизни», «становления» и «иррационального» действует именно этот второй вид активизма; и поэтому необходимо, чтобы возвращение к высшей концепции действия восстановило равновесие и остановило процесс, чьи губительные последствия уже более чем видны. Мы потеряли смысл того, что в наших классических традициях означало духовную оппозицию между «естественным» и «интеллигибельным» мирами. В таких доктринах движение считалось принципом вещей низшей природы, но оно понималось как «вечное бегство вещей, которые есть и которых нет» (Плотин), как невозможность осуществиться и овладеть законом и пределом, осуществиться как абсолютное действие. Другой мир – «интеллигибельный» – был не миром бездействия, а, наоборот, миром абсолютного действия, отличавшегося от действия, свойственного «природе», насколько оно было лишённым желания и достаточным в себе самом: как абсолютное действие, имевшее в себе самом собственный предмет и собственное начало. Таким образом, сверхъестественный, аристократический идеал действия составлял душу такого антисовременного взгляда, и не только его.
Тот, кто познакомился с некоторыми традиционными учениями арийского Востока, возможно, был удивлён утверждением, согласно которому всё, составляющее движение, деятельность, становление, изменение, свойственно пассивному и женскому началу, в то время как к мужественному и «солнечному» началу относится неподвижность, неизменность, постоянство. Большую важность может иметь другое утверждение: «Мудрец различает бездействие в действии и действие в бездействии». В этом проявляется вовсе не квиетизм, [20][20]
Квиетизм – мистико–созерцательный взгляд на мир, безвольная покорность божественной воле, пассивное поведение. – прим. перев.
[Закрыть] а именно та же сознательность высшего, аристократического идеала действия, по отношению к которому обычное действие становится почти что бездействием. Это та самая же идея, которая в метафизически–теологических терминах видна в аристотелевской доктрине неподвижного двигателя. Тот, кто является причиной и настоящим господином движения, сам не двигается.
Он вызывает движение и руководит им, вызывает действие, но сам не действует – в том смысле, что он не «увлечён», не охвачен действием; он является не действием, а скорее спокойным, бесстрастным и властным превосходством, от которого действие происходит и зависит. Вот поэтому его могучее и невидимое повеление можно назвать «действием–без–действия». Перед этим идеалом то действие, что действует, охваченное порывом, страстью, отождествлением, желанием, беспокойством, на самом деле не действует, но является действующим. Насколько бы парадоксальным это выражение ни казалось, действует только пассивный. Вот поэтому по отношению к трансцендентному, высшему, царственно спокойному, чисто решающему, «неподвижному» миру «господ движения» он похож именно на женщину: он двигается, делает, создаёт, бежит, но мотив, абсолютная причина его действия, лежит вне его. Поняв этот традиционный идеал действия и бездействия, при рассмотрении смысла, свойственного активистским, динамическим, бергсонианским и прочим модным сегодня доктринам, мы найдём как раз этот принцип низкой и пассивной формы действия: сегодня превозносится слепой и инстинктивный порыв, который действует, не зная почему, не имея возможности измениться, овладеть собой, создать в себе центр, предел, свет, абсолютную причину. Это действие ради действия, как спонтанность и ‘elanvitae’, как непосредственная и никогда не разрешимая необходимость – даже когда всё это не сводится к более или менее сознательному желанию забыться и отвлечься в том волнении и шуме, который выдаёт страх перед тишиной, внутренней дистанцией, абсолютным существом высших индивидов, с другой стороны поддерживая и укрепляя всяким способом революцию человека против вечного.
Сокращённые насколько необходимо, эти рассмотрения достаточны, чтобы придать смысл центральному ориентиру. Нив социальном, ни в природном порядке, над которым при помощи техники человек сегодня приобретает всё более глубокую власть, волнению современной жизни, возбуждённому и воскрешённому ей множеству сил и страстей не соответствуют силы центральности: аскезы, повеления, абсолютного духовного господства, абсолютной индивидуальности и абсолютного видения – силы, которые сегодня менее, чем в любое другое время, можно заметить вокруг. И излишне надеяться на то, что этот недостаток можно по–настоящему устранить, продолжая сводить действие к единственному типу материального и «пассивного» действия, побуждаемого извне и направленного вовне; пока считается, что внутреннее, тайное действие, производимое не машинами, банками и обществом, а людьми, аскетами и воинами, гордыми господами собственных душ, освобождёнными и лишёнными всякой жажды, является не действием, а отречением, отвлечением, тратой времени. Пока такого критерия нет, нечего и ожидать, что всё более сильное головокружение, все более далёкое от любого центра и любого контроля, кроме взаимозависимости частей чудовищного механизма, запущенного вхолостую, остановится само по себе. Если в своей лихорадке бега, втягиваясь в неё всё дальше, словно томящийся жаждой или преследуемый человек, современный мир не покончит с крайними последствиями романтизма, вновь установив равновесие, не прекращая, а объединяя и централизовывая действие, совершая мужское, солнечное и активное деяние, то невозможно будет восстановить то, что в широком смысле можно называть классическим опытом: любовь к космосу в противоположность хаосу; форме в противоположность бесформенности, этосу в противоположность пафосу, ясности в противоположность полумраку, различающемуся и «дорийскому» в противоположность смешанному, беспокойному и беспредельному.
Идеал нового классицизма действия и господства, оживлённого новым контактом с вечным, подготовленный ценностями мужественной аскезы и аристократического превосходства над простой «жизнью» – вот то, что сегодня нам нужно. Он будет иметь значение для постепенного создания центров, качества и новых индивидуальностей – «традиционных» существ в самом глубоком и живом смысле этого слова, перед которыми, из–за естественного неотразимого закона, в лучшем будущем не смогут не склониться и не подчиниться им лишённые центра, личности и света силы, показавшиеся при помощи мифа действия в последние времена.
Superamento dell’attivismo //Il Regime Fascista, 18 января 1933 г.
НЕДОРАЗУМЕНИЯ НОВОГО ЯЗЫЧЕСТВА
Недавно в Вене в интервью журналисту, которого мы много лет знали в Италии, нам пришлось стать на защиту нашей книги «Языческий империализм», когда этот журналист сказал нам, что наш час настал, по крайней мере, в другой стране. Он, естественно, намекал на Германию – на течения, более или менее поддерживаемые национал–социализмом и стремящиеся создать новый религиозный германский и в то же время нехристианский дух. Мы ответили, что, скорее, почти что настало такое время, когда нам придётся объявить себя если не христианами, то по крайней мере католиками.
В действительности это «новое язычество» по ту сторону Альп является большим недоразумением, осветить которое будет весьма интересно из–за самого этого явления, но здесь у нас есть и некоторый личный интерес. Нам действительно нужно было продемонстрировать ценность, которую возобновление некоторых наших великих дохристианских традиций могло бы иметь для восстановления нашей западной цивилизации в героическом, имперском и в общем «римском» смысле – мы полагали так в 1928 году, когда вышла наша книга «Языческий империализм», мы считаем так и сегодня. Однако наши идеи и то, что сегодня известно в Германии как «новое язычество», не только различны, но и противоположны. Поэтому, учитывая дошедшие до нас слухи, мы заметим, что если верно то, что некоторые наши произведения сейчас находят больший резонанс в Германии, чем в Италии, то настолько же верно и то, что такой резонанс по своей сути относится к консервативной среде старой Германии, но никоим образом к новым языческим течениям, с которыми у нас по большому счёту нет никакой связи, а также и не к полуофициальному фронту Альфреда Розенберга.
Розенберг проявлял к нам интерес, будучи знаком с нашими идеями лишь понаслышке, и из–за недоразумения с термином «языческий» полагая, что мы находимся на его стороне. Теперь же, ознакомившись с нашей истинной точкой зрения, он, кажется, демонстрирует к нам равнодушие. То, что может происходить в Германии, —это демонстрация деформаций, которые претерпевают многие идеи, способные иметь высшее значение: в них происходят изменения, в результате которых за цель принимаются чисто эмпирические и тенденциозно политические цели.
Но давайте теперь объективно рассмотрим, в чём, собственно, состоит недоразумение северного неоязычества. Мы рассмотрим этот вопрос наиболее безличным способом: мы просим прощения у тех, кто, возможно, предпочёл бы видеть, как мы используем лозунги, которые сегодня в этой связи больше используются в нашей среде, но более или менее известны всем.
Первое, что нужно установить, – это то, что выбор термина «языческий» для общего обозначения чуждых христианству мировоззрений и традиций весьма неудачен, отчего мы сами сожалеем об использовании этого выражения ранее. Действительно, слово paganus – это по своей сути пренебрежительное, если не оскорбительное слово, использовавшееся в полемике первыми христианскими апологетами. Также «язычество» не только как термин, то есть как слово, а как содержание и концепция, является полемической выдумкой и находит очень слабое соответствие в реальном дохристианском и нехристианском мире, если не принимать во внимание периодов явного упадка. Чтобы утвердить и прославить новую веру, некоторые христианские апологеты стали (зачастую систематически) искажать и обесценивать почти все предшествовавшие доктрины и традиции, которым потом было дано совокупное и пренебрежительное обозначение «язычество».
Итак, мы находимся перед следующим парадоксом: такое «язычество», никогда не существовавшее и полемически произведённое воинствующими апологетами христианства, сегодня существует в первый раз, таким образом являясь угрозой, именно из–за неоязыческих и антихристианских произведений в новой Германии.
Прежде всего: натурализм. Языческое видение жизни игнорирует всякую трансцендентность. Оно остаётся в смешении между духом и природой. Её пределом была бы мистика природных сил (старая история «Леса», противоположного «Храму») и суеверное обожествление народных энергий, вырастающих до идолов. Отсюда, в первую очередь, происходят партикуляризм и политеизм, обусловленный землёй и кровью. Во–вторых, отсутствует концепция личности и свободы, а присутствует состояние невинности, свойственной просто природным существам, в которых ещё не пробуждено никакого действительно сверхъестественного устремления. В противоположность «языческому» детерминизму и натурализму, христианство приносит мир надмирной свободы, то есть благодати и личности; «католический» идеал, то есть, этимологически, универсальный; здоровый дуализм, позволяющий подчинение природы высшему порядку, закону свыше.
Но очевидно, что для этих тенденций католицизм в итоге представляет уже «слишком много», и из–за этого они пытаются «преодолеть» его, уподобившись раку – в путанице, отклонениях и подчинении наименее интеллектуальным и наименее управляемым силам нынешнего мира. Очевидно, что перед лицом таких тенденций бесполезно ссылаться на более широкие горизонты, ибо из–за разрушительного переворота точка зрения, которая могла бы быть «сверхтрадиционной», стала попросту антитрадиционной.
L’equivoco del nuovo paganesimo //Bibliografia fascista, n. 2/1936








