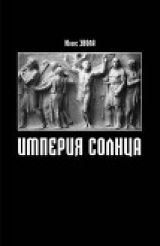
Текст книги "Империя Солнца"
Автор книги: Юлиус Эвола
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
РИМ И «СОЛНЕЧНОЕ РОЖДЕСТВО» СЕВЕРОАРИЙСКОЙ ТРАДИЦИИ
Возведение расовой доктрины на духовный уровень привело бы, среди прочих, к следующим двум результатам. В первую очередь, с возвращением к истокам оно вернуло бы в свет глубочайший смысл традиций и символы, затемнённые в ходе тысячелетий, сохранившиеся только как разбросанные фрагменты, пришедшие в упадок в обычаях и в чисто условных праздниках. Во–вторых, расовая доктрина повторно пробудила бы чувствительность к живой концепции мира и природы, ограничивая власть рационалистической, профанной, научной и ориентированной на феномены концепции, что совращает человека Запада уже на протяжении веков. И, в порядке этого живого и духовного чувства вещей и явлений, наилучшие ориентиры нам могут дать прежде всего «солнечные» и героические концепции, свойственные древнейшим арийским традициям.
Многие и не подозревают, что нынешние праздники, которые сегодня—в век небоскрёбов, радио и массовых движений—празднуются как в мегаполисах, так и среди траншей, боевых машин и атакующих масс, продолжают отдалённую традицию, перенося нас во времена, когда, почти на заре человечества, началось восходящее движение первой арийской цивилизации. Однако в этой традиции выражается не столько определённая человеческая вера, сколько великий голос самих вещей. Если говорить на эту тему, то прежде всего нужно вспомнить игнорируемый многими факт, что изначально дата Рождества и дата начала нового года совпадали: это была не произвольно выбранная дата, но привязанная к точному космическому событию—к зимнему солнцестоянию. Действительно, зимнее солнцестояние выпадает на 25 декабря, что и является датой Рождества, как оно стало в дальнейшем известно, но изначально оно несло «солнечный» смысл. Он появляется ещё в Древнем Риме: рождественская дата в Древнем Риме была датой возрождения Солнца, непобедимого бога—Natalis solisinvicti. В этот день—день нового Солнца (dies solis novi) в имперскую эпоху начинался новый год, новый цикл. Но это «Рождество Солнца» имперского Рима, в свою очередь, отсылает к традиции намного более далёкой—традиции североарийского происхождения. Впрочем, Sol —солнечное божество—появляется уже среди dii indigetes, то есть среди божеств римского происхождения, почитаемых в ещё более далёкие от нас периоды цивилизации. В действительности солнечная религия в имперский период в значительной степени имела смысл подъёма и почти что возрождения древнейшего арийского наследия, к сожалению, изменённого различными факторами разложения.
Уже доисторическая италийская доримская эпоха богата следами описанного солнечного культа: солнечные колесницы, лучевые диски, лучистые звёзды, кресты разных типов, не исключая и свастики, вырезанные, например, на архаичных топорах, найденных в Пьемонте и Лигурии. Таким образом, в древнейшей Италии можно констатировать прохождение той же традиции, что оставила со времени каменного века подобные следы вдоль всех маршрутов великих западноарийских и североарийских миграций. Символы, знаки, иерограммы, остаточные календарные или звёздные записи, изображения на вазах, оружии или украшениях, загадочное расположение ритуальных камней или пещер, и далее—обычаи и мифы, сохранившиеся в более поздней цивилизации: всё это, будучи изученным согласно новым взглядам, согласно программе духовного и расового исследования первоначального мира, предъявляет согласующиеся друг с другом и однозначные доказательства не только присутствия единого солнечного культа как центра цивилизации первоначальных арийских народов, но также и особой важности «рождественской» даты, то есть даты зимнего солнцестояния, 25 декабря.
Во избежание недоразумений мы всё же напомним некоторым читателям (которым у нас был уже случай указать на это), что, говоря о солнечном доисторическом культе, ни в коем случае не следует думать о низших формах «натуралистической» и идолопоклоннической религии. Это сказки, что древнее человечество, и прежде всего великая арийская раса, суеверно обожествляла естественные явления. Напротив, в древности естественные явления считались по своей сути чувственными символами высших, духовных значений—таким образом, более или менее опорой, стихийно предложенной чувствам природой, чтобы предчувствовать эти трансцендентные значения. Вполне возможно, что среди наименее квалифицированной части определённого древнего народа эти вещи иногда могли претерпеть изменения, но это, очевидно, доказывает столь же мало, как и нередкий факт появления ханжеских суеверий даже в некоторых христианских культах среди невежественного и фанатичного населения Юга. Предупреждая таким образом известное недоразумение, мы полагаем, что символический смысл архаичных арийских выражений—таких, как «свет людей», или «свет полей» —landaljòme, —описывающих Солнце, должен быть ясен. Можно также понять, что весь годовой путь Солнца с его восходящими и нисходящими фазами также описывался в терминах грандиозного космического символизма. В этом солнечном чередовании фаз зимнее солнцестояние являлось критической точкой, переживаемой с определённым драматизмом в тот период, когда первоначальные арийские народы ещё не оставили регионы с арктическим климатом и кошмаром долгой ночи. В таких условиях точка зимнего солнцестояния—низшая в эклиптике—казалась точкой, в которой «свет жизни» гас, развеивался, уходил в опустошённую и замёрзшую землю, воду или глубокие леса, из которых, тем не менее, немедленно поднимался вновь, сияя новым блеском.
Здесь поднимается новая жизнь, появляется новое начало, начинается новый цикл. «Свет жизни» загорается повторно. Из вод поднимается или рождается «солнечный герой». Переживается возрождение, освобождение от тьмы и смертельного мороза. Символическое древо мира и жизни оживляется новой силой. И в связи со всеми этими значениями уже в доисторические времена, за тысячелетия до вульгарной эпохи, во множестве ритуалов и священных праздников дата 25 декабря праздновалась как дата появления или возрождения «солнечной» силы как в мире, так и в человеке. Мало известно, что то же традиционное рождественское дерево, ещё использующееся во многих странах, в том числе частично и в Италии, но только в форме занятия для детей или, максимум, как традиция добропорядочных буржуазных семей, является остаточным эхом, свойственным древнейшей, суровой арийской и североарийской традиции. Такое дерево, скопированное с «вечнозелёного», semper virens, то есть растения, которое не умирает зимой, —сосны или ели, воспроизводит архаическое древо жизни или мира, которое в зимнее солнцестояние загорается новым светом, что выражено свечами, которыми его украшают и которые загораются в этот день. И «дары», которыми это дерево нагружено сегодня в качестве простых подарков для детей, на самом деле изображали символический «дар жизни», свойственный рождающейся или возрождающейся солнечной силе. Но момент, в который semper virens, растение, которое не умирает, обновляется и освещается, в первоначальном символизме также является моментом, в который, как было сказано, из вод поднимается «солнечный герой» —как и в ритуале, сохранившемся до гибеллинского Средневековья. До этого оно играло важную роль в легендах об Александре Великом. Космическое древо—это также «солнечное» древо, имевшее тесную связь с так называемым «древом империи» —arbor solis, arbor imperii.
Это побуждает нас рассмотреть другой интересный аспект традиций, о которых идёт речь, для чего мы хотим обратиться особенно к Древнему Риму. Митраизм или культ Митры, как известно, является поздней формой древней ирано–арийской (маздеистской) религии, особенно подходящей для воинской ментальности. При Аврелии, когда этот культ распространился в Риме, дата «солнечного рождества», или зимнего солнцестояния, 25 декабря, отождествлялась с датой празднования Natalis Invicti, то есть рождения Митры, считавшегося «солнечным» героем.
Было бы крайне поверхностным, если не просто грубым, говорить о митраизме в Риме sic et simpliciter как о «заимствовании» или «восточном влиянии»: на Востоке того времени сосуществовали весьма разные элементы – но среди них, несомненно, встречались важные и ещё неразложившиеся элементы древнейшего духовного наследия арийских и индоевропейских народов. Что касается отношений между Митрой и римским «солнечным рождеством», то нужно отметить, что здесь произошло не изменение, а скорее обновление римского календаря согласно его древнему астрономическому и космическому аспекту, имевшемуся у него в ранние времена Ромула и Нумы, которое придало праздникам значение великих символов при совпадении их дат с великими эпохами жизни мира.
Далее важно рассмотреть атрибут invictus–aniketos, приданный Митре, солнечному герою, и той же солнечной силе в новой римской концепции. Это «триумфальный» атрибут. В первоначальных ирано–арийских и родственных им традициях это признак небесной и солнечной природы, – как свет, побеждающий тьму, светоносная небесная сила, над которой никогда не возобладают силы ночи и тьмы. Но в Риме мы видим, что тот же эпитет invictus становится императорским титулом, титулом цезаря, и мы знаем, что митраизм, будучи больше, чем просто культом абстрактного божества, хотел, так сказать, «пробудить» то же качество Митры в инициатах, во имя преобразования их природы. И в этом очевидна тенденция к пониманию «солнечного» атрибута при помощи символов и аналогий, которые должны иметь свой смысли, собственно, отличать тип и идеал высшего человечества – не говоря даже о «сверхчеловечестве». Как возрождается Солнце, вечно побеждая тьму, так в вечной внутренней победе над смертной и инстинктивной природой исполняется существо, которому мистическая добродетель свыше даёт функции царя, главы, вождя. Именно Митру, «солнечного героя», почитали в Риме как fautor imperii; [12][12]
«Покровитель империи» (лат.) – прим. перев.
[Закрыть] именно так устанавливается тесная связь солнечного символизма с идеями царского сана и империи в их наивысшей форме. Такое отношение подчёркивалось в героических традициях древних арийских народов, и мы уже говорили об этом, рассматривая мистическую доктрины «славы». Не желая повторяться, мы ограничимся тем, что напомним о присутствии тех же значений в Древнем Риме. Victoria Caesaris, то есть мистическая триумфальная сила, которую, в символе статуэтки, Цезарь передавал другому, отражает именно древние ирано–арийские традиции царского сана и так называемой hvarenò: [13][13]
В русской научной литературе передаётся как «фарн» – прим. перев.
[Закрыть] потому что, как мы уже сказали, hvarenò имела значение мистической «солнечной» силы непобедимости и «славы», которая проникает в вождей, делая из них что–то большее, чем простые люди, и свидетельствует о себе именно их победой.
Древнеримское изображение Sol изображает этого символического бога с правой рукой, поднятой в «папском» жесте защиты, и с левой рукой, держащей сферу – символ вселенского господства. В другом образе узнаётся всё же тот же бог, передающий сферу императору, рядом с надписями, сообщающими устойчивости и imperium Рима «солнечный» характер: Solconservator orbis, Sol dominus romani imperii. На другом особенно интересном медальоне на лицевой стороне изображён увенчанный лаврами император – на его голове видна semper virens, ветка с вечными листьями, на обороте же – солнечный бог со сферой и близко расположенной свастикой (которая, таким образом, присутствовала также и в Древнем Риме) и надписью soli invicto comiti, то есть «солнечному богу, непобедимому товарищу». Ещё одно изображение, хранящееся в Капитолийском музее, показывает нам связь символа Sol sanctissimus с орлом, вещим животным Рима, которое, как считалось, было также птицей, в которую, символично воплощался дух ставшего божественным мёртвого императора, отправляясь из погребального костра в небо. Аналогичные доказательства можно было бы легко умножить. Не будет рискованным сказать, что они говорят о настоящем «божественном солнечном мандате», являющимся живой душой имперской царской функции, которая была для нас своего рода последней вспышкой архаичных значений в древнем мире, мало–помалу утерянных.
В древнеримской неделе «день солнца» был «днём господина» – и это значение сохранилось в последующие времена в названии воскресенья (domenica), от слова dominus, «господин», как в немецком слове Sonntag или английском Sunday сохранилось буквальное значение «дня солнца» и, таким образом, отражение древнеарийской солнечной концепции. Кое–что из изначальной мудрости, кажется, некоторым образом сохранилось в нынешнем празднике Рождества, насколько с ним разделено празднование Нового года. Символизм света поддерживается – напомним, например, слова введения Евангелия от Иоанна: erat lux vera, quae illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum—в качестве признака «славы», которая упоминается в тексте немного ниже. В памятниках раннего римского периода тот же самый символ креста объединяется с солнечным символом.
В арийской и североарийской традиции и в том же Риме у этой темы был не только религиозный и мистический, но в тоже время и священный, героический и космический смысл. Это была традиция, в которой сама природа, великий голос вещей, говорил в самой этой дате о тайне воскресения, появления или возрождения не только начала «света» и новой жизни, но также и imperium в высшем и величественном смысле этого слова.
Roma e il «Natale solare» della tradizione nordico–aria //La difesa della razza, 20 декабря 1940 г.
«REGNUM» И ДУХОВНОСТЬ ЦЕЗАРЯ
Среди многочисленных работ недавнего времени, посвящённых Юлию Цезарю, немногие представляют реальную ценность, и именно потому, что сегодня в Италии эта тема, что называется, модная. Мы видим, что в таких условиях работы на эту или аналогичную тему в основном пишутся больше по причине выгоды и почти что приспособленчества, а не из–за стихийного, искреннего интереса и серьёзной подготовки и понимания.
Далее, другой недостаток многих современных работ о Цезаре происходит из использования исключительно «гуманистической» точки зрения. Так называемый «культ личности», сосредоточение всякого интереса на чисто «человеческой» стороне великих фигур древнего мира, исходя из их понимания как типа, аналогичного «кондотьеру» эпохи Возрождения – всё это составляет действительно ограничивающий, если даже не разлагающий предрассудок. Из–за этого Цезарь является одним из тех, кто больше всего страдает именно из–за факта того, что некоторые его черты особенно поражают в этом смысле воображение склонных к вышеописанным деформациям авторов, в то время как иные черты, сверхличностные и чуть ли не «судьбоносные», находятся в тени. Формула «личности делают историю» во многом верна, когда обращается к своей законной области и противостоит детерминизму низшего, материалистического или социологического характера; но она опасна, будучи применена дальше – вплоть до того, что мешает понять тот аспект великих исторических фигур, согласно которому они кажутся нам если не инструментами, то по крайней мере элементами в плане высшего порядка, в проявлении, которое – как проявление всякого величия – невозможно объяснить просто человеческими факторами. Рассмотрение фигуры Юлия Цезаря, предпринятое с этой точки зрения, отошедшей от обычной «гуманистической», политически–военной и литературной оценки, было бы действительно очень желательным в новом итальянском культурном климате.
Эти размышления вновь приходят в голову при чтении нового произведения о Цезаре, автором которого является Джованни Коста. [14][14]
G. Costa, Caio Giulio Cesare. La vita e le opere, Ed. Morpurgo, Roma, 1934.
[Закрыть] Здесь мы не будем писать «рецензию» на эту книгу, что было бы довольно банально. Ограничимся тем, что скажем, что речь идёт о ясном, сбалансированном, сжатом и обращённом к широкой публике изложении жизни и трудов Цезаря – изложении, которое всё же оказывается несколько синкопированным из–за рационалистической forma mentis автора, который ежесекундно сомневается, насколько можно опираться на так называемые «реальные» данные и адекватно использовать всё то, что, как традиция и миф, может быть лишено исторической правды в вульгарном смысле, и именно поэтому поднимается к ценности неоспоримого свидетельства значений высшего порядка – единственных, вводящих нас во внутреннюю, и, таким образом, более существенную сторону данной реальности. Таким образом, это новое произведение, хотя и далеко от риторических украшений, «литературности» и кичливой апологии, хотя и кажется исполненным достоинства и свидетельствует о «научной» взвешенности, всё же, говоря о Цезаре, само не избегает вышеупомянутого «гуманизма», который иногда даже смешивается с некоторым налётом скептицизма, несколько уменьшая масштаб работы.
Впрочем, книга начинается формулировкой, которая заставляет думать, что автор нащупал правильный путь; что ему удалось найти тот центральный пункт, который позволил бы упорядочить основные черты фигуры, действий и функции Цезаря не просто в историческом, но как в историческом, так и в надысторическом отношении. Коста пишет о речи, которую юный Цезарь держал на похоронах жены Гая Мария в качестве потомка древнейшего, знаменитого и полулегендарного рода Юлиев. Тогда Цезарь произнёс следующие пророческие слова:
«В моём роду есть и величие царей, превосходящее людскую силу, и святость богов, которые держат даже могущество царей в своих руках».
Здесь Коста демонстрирует, как выступает принцип, одновременно новый и древний, повторно звучащий как тревожный звонок в беспокойной, неверной среде разобщённого и либерализированного Рима последнего века до н. э., почти как вступление к действиям будущего владыки. Но уже в самой ссылке на эту формулу преодолевается аспект простого императора(imperator), что в языке того времени обозначало военного вождя, и устанавливается очевидная и полная значения связь с традиционной и первоначальной идеей, уже воплощённой в некоторых аспектах древнего Рима царей, но, кроме того, и универсальной – ибо она обнаруживается, в той или иной форме, в типичном цикле, продолжающем в себе величайшие иерархически–духовные цивилизации доантичного мира. Эта идея —это идея sacrum imperium, Regnum, оправданной как не только мирское учреждение, но и поддержанное трансцендентной силой или влиянием свыше; проявление этой силы. Но Коста опасается касаться этой справедливой темы в интерпретации высшего типа, откуда мы видим его намерение преуменьшить её важность – прежде всего, соединив эту идею Цезаря с предполагаемыми «эллино–азиатскими реминисценциями», и далее, возжигая изобильные зёрна ладана позитивистским предрассудкам о «сказках», «анекдотах» и «развлекательных приключенческих историях», бывших символическими древними традициями, говорившими о надысторическом происхождении Рима.
Таким образом, Коста начал делать противоположное тому, что, с нашей точки зрения, нужно было бы сделать: то есть рассмотреть Цезаря в судьбоносной, сверхличностной функции исполнителя идеи Regnum, в первый раз инстинктивно и почти бессознательно обнаруживаемой в красноречии молодого патриция; далее, действующей как объективная сила судьбы в «человечности» и военных действиях Цезаря, и, наконец, исполняющейся сознания самой себя и сознания «пожизненного диктатора» в новой римской конституции. Всё же крайне знаменательно, что, несмотря на свои намерения, Коста более или менее пришёл к этому. Он описывает нам Цезаря как позитивистского антиклерикала avant lettre, который, однако, в утверждении своей мощной личности верит во что–то большее, чем в простую человеческую личность: не во внешнюю божественность или сирийско–семитских «спасителей», а скорее в мистическую, таинственную силу судьбы и победы – felicitas Caesaris, fortuna Caesaris, постепенно становившуюся очевидной в качестве скрытой души или источника всего того, что при её помощи создавалось в видимом мире. Такая сила, в её олицетворении Venus Victrix и Venus Genitrix, у Цезаря состояла в самой тесной связи с первоначальной образующей силой его же рода: это значит, что она появилась в связи с тем же принципом, говоря о котором, молодой Цезарь провозгласил вышеописанную доктрину Regnum, и почти как конкретная действенность такого начала в Риме и в мире. Более того, если Коста демонстрирует единство намерения и воли в разнообразии – часто противоречивом, если даже не маккиавеллистском и беспринципном, несмотря ни на что, постоянно подчинённом формуле «собственное достоинство и достоинство римского народа» – способов или непосредственных целей, избранных Цезарем в различные фазы своего восхождения, то здесь также нужно представлять ту же причину, то есть параллельность двух серий или областей – «человеческой» области и области высшего принципа, который действует, так сказать, посредством «личностного» элемента в предварительной фазе, но в итоге преобразуясь и концентрируясь.
Цезарь – «неверующий не только в смысле формалистической практики римлян, но даже в широком религиозном смысле, который могли бы признать наши современники». Ещё менее он верил в религиозные или философские гипотезы о бессмертии души, почти что ощущая космический и безличный элемент(«единственная актриса прежде всего в военных предприятиях»),вдохнувший новую жизнь в «древнюю примитивную идею римской Фортуны»; и это была «единственная концепция, которая, однажды сформировавшись в нём, нашла в его лице упорного приверженца – до такой степени, что в последний период его жизни она настолько передалась ему, что может вызывать сомнение, что она может считаться, как полагают многие, «божественной». «В Цезаре, однако, всё это объединяется в личном элементе, который обычно находится во всех гениальных людях. Они чувствуют бурление daemonium; к нему обращаются и делают его причиной этого вида экзальтации, из которой они при необходимости извлекают энергию и веру для своего развития. Поэтому он мог, с успехом своей фортуны в войне, продолжать созревать и исполняться этой концепции (fortuna Caesaris)… как веры и толкования, которое мало–помалу кажется отвлечённой от его личности и от событий, связанных с ней». «В нём современники видели что–то необъяснимое, в чём, как они считали, имелась аура божественного». Говорить всё это – значит констатировать, хотя и с уклончивостью и колебаниями, а также с обычными ограничениями и психологическими и эмпирическими псевдообъяснениями историков и современных «исследователей», как раз вышеуказанную судьбоносность (fatidicità), понимаемую нами не как общее ощущение, но в связи с принципом Regnum, в придании формы новой универсальной цивилизации при помощи римской силы. В этом отношении Цезарь не является фигурой первого плана, подобной Цицерону; можно сказать, что это существо высшего порядка, обладающий славой расширения границ духовной империи – но не как любой триумфатор, расширитель материальной империи. В то же время в стиле Цезаря нет ничего мистического и неясного, а его существенность и ясность ума больше, чем у «спиритуалиста» или писателя, учёного или человека действия.
Цезарь питает революционное равнодушие к авгурам и жертвам, и в то же время с утверждением своей личности, непосредственно означающим объективное и победное действие, принимает, как было сказано, ощущение фатализма высшего и имманентного характера, скрывающего изначальную силу – в противоположность фатализму внешнего и священнического характера. Тот, кто понимает эти элементы в синтезе, приближается к тайне фигуры Цезаря, но при помощи этого также и к тайне «героя Запада» в полном смысле этого слова.
В таком «дорическом» «герое» видны личность, ясность, существенность, действие – но всё это не исчерпывается «гуманистической», чисто профанной областью. Уже греческая цивилизация признавала своим героическим идеалом не тирана, извлекающего свою силу из тёмного вещества демоса или эфемерного личного престижа, и не «титанический» и «прометейский» тип, а скорее тип победителя, и, что символично, союзника олимпийских сил – Геракла. Такой идеал может выступать не в «мистическом» и не в узком жреческом смысле; его достигают согласно особому способу высшего плана, связанному с трансцендентностью и судьбоносностью, при помощи достижения уровня, на котором, согласно уже использованной формуле, крайний предел «личности» становится единым целым с тем, что больше, чем личность.
Принципу Regnum, созданному при помощи Цезаря – так сказать, элементарные телесно–политические и психологически–общественные условия для его воплощения и универсального утверждения, синкопированные трагическим концом великого Императора, – было суждено вновь подтвердиться и развиваться также и в духовной области в настоящей реформе римского культа Цезаря Августа. Здесь мы не можем развить рассмотрения, направленные на установление тайной идеальной связи между этими двумя фигурами Рима: связи, обычно не понимаемой именно потому, что в Цезаре обычно искажённо подчёркивается только аспект диктатора и военного вождя. Это, таким образом, была бы одна из самых впечатляющих тем для рассмотрения для того, кто обладает соответствующей ментальностью и доктринальной подготовкой: именно в функции принципа Regnum появилась на свет «вечность» Римской империи. Мы говорим не о «славе», а о ссылке на идею, которая является более чем исторической – то есть возникающей из случайного и преходящего; нужно говорить о «метафизической» идее, наделённой вечной жизнью и достоинством «всегда и везде» перед основным значением цивилизации – мужественной духовностью.
Sul «regnum» e sulla spiritualità di Cesare //La Vita Italiana, октябрь 1934 г.








