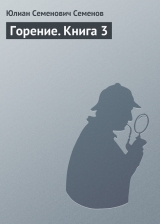
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 40 страниц)
– Я не намерен в тюрьме анализам предаваться, Юзеф, – жестко возразил Сладкопевцев. – Какой резон Николаеву дать нам уйти?
– Человеческий, – ответил Дзержинский. – В чем-то мы сейчас сходимся: ему мешают те же силы, что и нам. На этом этапе и в иных аспектах, но силы – те же самые.
– Я не верю, – повторил Сладкопевцев упрямо.
– Придется поверить, – вдруг улыбнулся Дзержинский. – Выхода иного у нас нет. Не в Дегаева же нам играть, а? Да и Николаев – отнюдь не Судейкин: тот пугался, а этот, смотри, улыбается, слушая твои угрозы.
– Он меня фруктовым ножиком резать будет, – хохотнул Николаев. – Ножичек прогнется, он – расейский, в нем стали нет, одна мякоть.
– Хорошо сказано, – заметил Дзержинский. – С болью.
Николаев достал из кармана портмоне, вынул толстую пачку денег: сотенные билеты были перехвачены аккуратной, красно-синей, американской, видно, резиночкой «гумми».
– Возьмите, Юзеф. Возьмите, сколько надо, в Берлине отдадите.
– Спасибо. Но я, к сожалению, в ближайшее время вернуть деньги не смогу, посему вынужден отказаться.
– Да перестаньте вы, право! Думаете, я не понимал, отчего последние дни к столу не садились? Деньги кончились, гордыня, а может, конспирация ваша. А я вас разгадал уж как дней пять. Больно открыто вы «Искру» слушали, больно ликующе – в глазах-то у нас душа живет, разве ее скроешь?
– У вас мельче денег нет? Рублей тринадцать, четырнадцать? Это я мог бы взять с уплатой через месяц, – сказал Дзержинский.
Николаев полез в карман, вытащил смятые ассигнации, пересчитал:
– Только десятками.
– Я возьму двадцать…
– Пойдем, Анатоль, в мое купе, до границы нам ехать и ехать, пока-то еще жандармский контроль придет. – Николаев покачал головой и тихо добавил, глядя на Дзержинского пристальными трезвыми глазами: – Мой компаньон, славный и добрейший Шавецкий, считает, что подряд на дорогу он пробил сидением у столоначальников в губернаторстве. А мне ему сказать неловко, что я губернаторше бриллиантовое колье подарил за двенадцать тысяч.
– Я могу быть спокоен за вашего двоюродного брата? – спросил Дзержинский, кивнув на Сладкопевцева. – Он доедет до Берлина?
– Куда захочет, туда и доедет.
Поезд стал замедлять ход. Николаев протянул руку Дзержинскому, и тот пожал ее, крепко пожал, с верой. Николаев отворил дверь, все же запертую Сладкопевцевым («Когда, черт, успел? »), и кликнул Джона Ивановича.
– Гувернер, – сказал он, – проводите-ка Юзефа до экипажей, неловко барину баул тащить, хоть и маленький. Дурак – не заметит, умный – задумается…
– Райт, – согласился Джон Иванович, подхватив баул. – Правильно.
– Доперло, – снова усмехнулся Николаев, – а я в Москве, на Казанском, приемчик этот оценил, – и он подмигнул Дзержинскому.
Сладкопевцев обнял товарища холодными руками, прижался к нему, смутился, видно, этого своего юношеского порыва, шепнул:
– Если не свидимся, спасибо тебе, Юзеф.
– За что, друг?
– За тебя спасибо, – ответил Сладкопевцев и быстро вышел из купе. «… Напрасно старается ППС представить дело так, будто ее отделяет от немецких или русских социал-демократов отрицание ими права на самоопределение, права стремиться к свободной независимой республике. Не это, а забвение классовой точки зрения, затемнение ее шовинизмом, нарушение единства данной политической борьбы – вот что не позволяет нам видеть в ППС действительно рабочей социал-демократической партии… Распадение России, к которому хочет стремиться ППС в отличие от нашей цели свержения самодержавия, остается и будет оставаться пустой фразой, пока экономическое развитие будет теснее сплачивать разные части одного политического целого, пока буржуазия всех стран будет соединяться все дружнее против общего врага ее, пролетариата, и за общего союзника ее: царя. … ППС смотрит так, что национальный вопрос исчерпывается противоположением: „мы“ (поляки) и „они“ (немцы, русские и проч.). А социал-демократ выдвигает на первый план противоположение: „мы“ – пролетарии и „они“ – буржуазия. „Мы“, пролетарии, видели десятки раз, как буржуазия предает интересы свободы, родины, языка и нации, когда встает пред ней революционный пролетариат. Мы видели, как французская буржуазия в момент сильнейшего угнетения и унижения французской нации предала себя пруссакам, как правительство национальной обороны превратилось в правительство народной измены, как буржуазия угнетенной нации позвала на помощь к себе солдат угнетающей нации для подавления своих соотечественников-пролетариев, дерзнувших протянуть руку к власти. И вот почему, не смущаясь нисколько шовинистическими и оппортунистическими выходками, мы всегда будем говорить польскому рабочему: только самый полный и самый тесный союз с русским пролетариатом способен удовлетворить требованиям текущем, данной политической борьбы против самодержавия, только такой союз даст гарантию полного политического и экономического освобождения. ЛЕНИН».
(В Вильне, куда Дзержинский отправился из Минска, братьев своих и особо близких друзей он – по соображениям конспирации – посещать не стал; остановился на одну лишь ночь в доме бабушки; блаженно «отмокал» в ванной, выспался, изумленно ощущая хрусткий холод туго накрахмаленного белья.
Назавтра он встретил Юлию Гольдман – она была последним человеком из тех, кто видел его в тюрьме накануне ссылки; передал через нее записку сестре Альдоне – та жила в Мицкевичах – с просьбой приехать на несколько дней в Варшаву, побеседовал с двумя членами своего кружка, получил запасные явки в столице Королевства Польского и отправился дальше, к границе, в обличье надменного, уставшего от жизни барина.) «Милостивый государь Иван Иванович! По агентурным данным („Соловей“, „Абрамсон“, „Кузя“), в Вильне среди кругов местной социал-демократии идут разговоры о том, что в городе приступил к работе „Переплетчик“. Под этим псевдонимом проходил ранее дворянин Феликс Эдмундов Дзержинский, совершивший дерзкий побег из Якутской губернии. Мною отдано распоряжение усилить агентурную и филерскую работу среди соц.
–демократических кружков Вильны с целию установить местопребывание означенного «Переплетчика» и немедленного его заарестования. Сблаговолите указать, следует ли об этих данных поставить в известность Охранные отделения Варшавы и Ковны? Вашего Высокоблагородия покорнейший слуга ротмистр Ивантеев». «ДЕЛОВАЯ СРОЧНАЯ РОТМИСТРУ ИВАНТЕЕВУ ТОЧКА ИЩИТЕ САМИ ДОКЛАДЫВАЙТЕ МНЕ ЕЖЕДНЕВНО ТОЧКА ВАРШАВУ И КОВНУ ПОКА НЕ ОПОВЕЩАТЬ ТОЧКА ФОН ДЕР ШВАРЦ».
14Дзержинский выскочил из конки на шумной Маршалковской, нырнул в проходной двор, прошел систему подъездов быстро, словно только час назад был здесь, спустился к Висле, бросил в тугую коричневую воду монету (примета, чтобы вернуться), резко обернулся, пошел в обратном направлении: филеров не было.
Через полчаса он зашел в трактир, спросил чаю и сушек; уперся взглядом в окно: был ему виден маленький флигель, утопавший в зелени, и белые занавески на окнах, и человек в чесучовом пиджаке, который стоял с лотком как раз напротив калитки, но не торговал, а неотрывно смотрел, как и Дзержинский, на тот флигелек, где должна была остановиться Альдона Булгак, урожденная Дзержинская. А когда Альдона вышла, филер лоток прикрыл и медленно потопал за нею, разглядывая витрины.
… В сумерках Дзержинский добрался до темной рабочей улицы Смочей; несмотря на то что дождей не было, грязь так и не просыхала здесь; пробираться приходилось вдоль глубокой, смрадной сточной канавы, балансируя по тонкой доске.
Возле казармы, где жили кожевники, Дзержинский перепрыгнул канаву, толкнул дверь, вошел в гниющую жуть подъезда и поднялся на третий этаж. В огромном двухсотметровом помещении «комнаты» рабочих были обозначены простынями; за этими простынями готовили, плакали, пьяно пели, смеялись, читали азбуку, любили друг друга, дрались, укачивали младенцев, латали рубахи, играли в карты, делили хлеб…
Делили хлеб и за простыней у Самбореков; Яна за маленьким столиком не было – сидела жена его, простоволосая, высохшая, с нездорово блестевшими глазами, и трое детей: две девочки погодки и маленький, похожий на мать, сын, такой же ссохшийся и потому казавшийся больным желтухою.
– Здравствуй, Ванда, – сказал Дзержинский. – День добрый…
– Кто? А-а, это Астроном? Ну, входи, входи, что стал? Боишься костюм попачкать?
– Нет, нет, что ты? Не мешаю?
– Ты уж свое намешал.
– Что?! Ян… там?
– А где ж ему еще-то быть?! Пришел поглядеть, как его дети помирают с голодухи?
– Не надо так громко, Ванда, – попросил Дзержинский, – не надо.
Лицо его постарело в мгновение – так бывает с человеком, если он обладает даром ощущать безысходность случившегося и невозможность помочь делом.
– А чего ж «не надо»?! – женщина теперь не смотрела на Дзержинского, она резала хлеб на тоненькие ломтики и совала в руки детям. – Мне терять нечего! Ян гниет на каторге, а ты, агитатор за хорошую жизнь, в касторе расхаживаешь! А у меня дети гибнут! Барское это занятие – революция! Ты ею и занимайся, тебе небось по карману! Зачем Яна смущал?! Зачем его на погибель отправил?!
Дзержинский снова попросил:
– Ванда, не кричи. Я убежал из ссылки, меня ищут…
– Ты вот убежал! Деньги, значит, есть, чтоб бежать! А Янек не убежит! Янек там сдохнет, в шахте!
Простыня за спиной Дзержинского дрогнула, проскользнул Вацлав, металлист из Мокотова, тихо и зло сказал женщине:
– А ну, помолчи!
Ванда уронила голову на руки, заплакала.
– Пойдем, Астроном, – сказал Вацлав. – На бабьи крики обращать внимание – сердца не хватит. Пошли…
– Погоди.
– Нельзя годить, – шепнул Вацлав, – вчера жандарм приходил, об тебе пытал – не появлялся ли.
– Сейчас, Вацлав, сейчас пойдем, – Дзержинский достал деньги Николаева, отделил половину, оставил купюру на столике, тронул Ванду за плечо. – Пожалуйста, вот тут немного…
Ванда нашла его пальцы, положила на них свою мужскую огрубевшую руку, головы не подняла, только спина тряслась, и видно было, какая тоненькая у нее шея – словно у птенца, когда он только-только из яйца вылупился.
– Мы им собираем сколько можем, – как бы оправдываясь, сказал Вацлав. – Ты не думай… Пошли, Астроном, не ровен час, снова супостат нагрянет.
Ванда шепнула сыну, по-прежнему не поднимая головы со стола:
– Поцелуй дяде руку, Яцек, мы теперь не умрем.
Мальчик потянулся к пальцам Дзержинского. Тот поднял его на руки, прижал к себе, стал целовать сухое лицо быстрыми материнскими поцелуями, а Яцек тронул его слезы мизинцем, и подобие улыбки промелькнуло в глазах.
– Дождик, – сказал он, – кап-кап…
… Винценты Матушевский глянул в незаметную дырочку, специально оборудованную в двери членом мокотовского кружка «Франтой», столяром-краснодеревщиком, стремительно снял цепочку, открыл замок; Дзержинский темной тенью проскочил в маленькую прихожую конспиративной квартиры; друзья молча и сильно обнялись, постояли так мгновение, потом, словно намагниченные, отринулись друг от друга, прошли в дальнюю, без окон, комнату.
Матушевский прибавил света в большой керосиновой лампе:
– Кащей бессмертный. С легкими плохо?
– Не очень… За домом, где остановилась Альдона, смотрят.
– Мы знаем.
– Мне бы хотелось повидать ее. В Вильне я опасался потащить за собой филеров… Здесь я надеюсь на организацию… Мне бы очень хотелось увидеть Альдону – она ведь специально приехала… Филеры стоят круглосуточно?
– От трех ночи до пяти их нет – полагаются на дворника. Хорошо, мы попробуем это устроить. Вот деньги, Юзеф, от Главного правления партии; товарищи считают, что тебе необходимо сразу же уйти за границу.
– Я бежал не для того, чтобы уходить за границу, а потому, что чувствовал надобность в работниках здесь, в крае.
– За границей товарищи не сидят без дела.
– Где Уншлихт?
– В тюрьме, – ответил Матушевский.
– Трусевич?
– В тюрьме.
– Тлустый?
– В Берлине, у Розы.
– Иван?
– На каторге.
– Игнацы?
– В Сибири.
– Абрам?
– На каторге.
– Мария?
– В тюрьме.
– Казимеж?
– В Сибири.
– Что ж, значит – все разгромлено?
– Нет, организация работает, Феликс, и работает хорошо, отменно, сказал бы я. Людей, правда, мало…
– Типографии нет?
– «Птаха» обещает помочь.
– «Птаха»? Кто это? Гуровская?
– Да.
– Комитеты в Лодзи?
– Работают. Там очень трудно, многих взяли, но товарищи работают.
– В Домброве?
– Были аресты…
– Ванда?
– Ее взяли…
– Эдвард?
– Арестован.
– Зигмунд?
– Арестован…
– Как же мне уезжать, Винценты? Как?! Я могу работать!
– Антек Росол тоже мог работать…
Дзержинский приблизился к Матушевскому; глаза, как во время стачки артельных в Орше, сузились, потемнели:
– Мог? Что ты имеешь в виду? Почему – «мог»?
Матушевский не ответил. Дзержинский все понял, вспомнил прошлое лето, Варшавскую тюрьму и тот день, когда их выстроили на втором этаже, пересчитали, перед тем как вывести на прогулку, а дверь камеры, где сидел восемнадцатилетний Антек, сын того Яна Росола, что томился в ссылке, заперли ржавым, тягучим ключом.
«Почему Росол лишен прогулки? » – спросил тогда Дзержинский, а надзиратель ответил ему, позевывая: «Больной – шатается, что с похмелюги». – «Откройте дверь его камеры», – сказал Дзержинский.
Надзиратель хотел было погнать арестанта в строй – он имел на это право, но сквозь похмельную пелену вчерашнего дня разглядел жесткий, настойчивый взгляд Дзержинского.
– Идите, – сказал надзиратель, отпирая ключом дверь, – только я правду говорю: не может он гулять.
Дзержинский вошел в комнату, а Антек потянулся к нему – худенький, ссохшийся; на придвинутом табурете чернильница-невыливайка, тетрадки для арифметики и чистописания, в тетрадках – слова красивые, старательные.
– Вот, занимаюсь самообразованием, Астроном, – сказал Антек, – когда выйду, пригодится для агитработы…
– Очень красиво пишешь. Почти так же красиво, как рисуешь. Неужели сам осилил каллиграфию?
– Один товарищ из ППС показал заглавные, а остальное сам. Дзержинский пролистал тетрадку:
– Замечательно, Антек, просто замечательно… Гулять пойдем?
– Я не могу, Астроном.
– Они уже знают мое настоящее имя, Антек, они знают.
– Все равно ты для меня всегда будешь Астрономом.
– Почему ты не можешь гулять, Антек?
– Я падаю, если встаю. Меня и на парашу носят.
– Как носят?
– Как? – улыбнулся Антек. – А очень просто. На руках.
– Слушай, ты играл в казаков-коняшек?
– Конечно, играл.
– Садись ко мне на спину.
– Что ты, Астроном… Это ж смешно будет и жалко. Жандармы смеяться над нами станут, мы повод дадим.
– Смеется тот, кто смеется последним, Антек, пусть себе; много жестокого смеха – больше слез горьких будет. Как это – «равное равному воздается»?
– Ты, если очень сердит, говоришь, словно ксендз, – красиво. Отчего так?
– Не замечал. – Дзержинский заставил себя улыбнуться. – Учту на будущее. Поднимайся.
– Астроном, ты ж сам больной…
– Давай поборемся? – улыбнулся Дзержинский. – Кто кого? Хочешь?
Антек поднялся с койки, его качнуло, Дзержинский поддержал его, потом осторожно, словно ребенка, взял на руки, почувствовал, как в глазах вспыхнули тугие, быстрые, зеленые круги, набрал в грудь побольше воздуха и вышел в коридор.
Надзиратель несколько раз покашлял, соображая, как быть, а потом, видимо, для самого себя неожиданно, сказал:
– Дзержинский с Росолом, пожалуйте первыми…
Земля тогда качалась, как море; булыжники, обрамленные травкой, делались большими, черными, а не бесцветно-серыми, потому что в висках билась кровь, и в глазах она тоже билась, и порой сине-зеленые круги становились мишенью, в центре которой была кроваво-красная точка, а маленький, чахоточный Антек радостно говорил что-то, и Дзержинский обязан был так же отвечать ему, иначе не согласится мальчик выходить на прогулки, посовестится пропагандист Росол, не позволит выносить себя на руках.
– Ты устал, Астроном. Пойдем назад, я уж надышался, клянусь честью, так надышался…
– Я не устал, Антек, с чего ты взял, что я устал? Я дышу глубоко, чтобы прочистить легкие, а ты поменьше говори и поглубже вдыхай. Я сейчас тебя посажу на солнышко, под деревом, и ты будешь загорать, силы восстанавливать свои…
– Ах, как мечтаю я деревья увидеть, траву, речушку в камышах, Астроном! Как мечтается мне в ночное пойти, конский запах ощутить, тихое ржание в тишине. Ты любишь коней? Хотя коней нельзя не любить, они такие добрые, они добрее собак.
… Дзержинский поднялся с маленькой, свежеструганой скамеечки, когда сквозь длинную, безбрежную шеренгу кладбищенских крестов увидал Альдону и Матушевского.
Альдона заметила брата, как только он поднялся со скамейки, бросилась к нему, обняла, прижала к себе, и он испытал забытое сыновнее чувство, которое позволяет слабую считать самой сильной, ту, которая ото всех может защитить, прикрыть хрупкими своими плечами от горя и обид, в которой нет страха – когда дитя защищают, разве о себе думают?!
… Месяц в рассветном небе таял быстро, и казался он радужным, растекшимся, и Альдона осторожно притронулась к глазам Феликса такими же, как у него, тонкими пальцами, и они опустились на скамейку возле могилки, где хотели похоронить Антона Росола (мать не дала, забрала тело сына в Ковно), и молчали, потому что, когда есть что сказать, – слов сразу не сыщешь.
Почувствовав, что Альдона сейчас снова заплачет, потому что слишком быстро бегали глаза сестры по его лбу, по запавшим щекам, по ранней паутине морщинок в уголках сильного, красивого рта, Дзержинский обнял ее.
– Ну, ну, – попросил он, – не надо, пожалуйста, Альдонусь…
– Они ищут тебя… Они все время кухарку спрашивают…
– Ну и пусть себе спрашивают, – улыбнулся Дзержинский. – Пускай себе.
– Феликс, родной… Что же с тобой сделали, боже мой?! Тебе можно дать сорок лет, а ведь двадцать пять всего. Дзержинский сжал ее руки:
– Альдонусь, не надо…
– Феликс, не сердись на меня, милый! Подумай, пожалуйста: не о нас с Гедымином, не о наших детях, не об Игнасе и Владысе, не о братьях – о себе! Ты ж маленький у меня, я маме обещала заботиться о тебе. Я обещала маме…
Альдона не смогла договорить, подбородок задрожал, как в детстве, когда кто-нибудь обижал ее во время игр на лужайке перед домом в Дзержинове.
– Альдонусь, родная… Я не знаю, как сказать тебе. Ты не «свернешь заблудшего». А мама… Знаешь, я благословляю жизнь, потому что чувствую в себе нашу маму постоянно, а с нею, через ее любовь, всех, кто живет на этом свете, всех, понимаешь? Мама в нас бессмертна, она дала нам душу, в которую вложила любовь. Альдонусь, родная, счастье – это не беззаботное проживание под солнцем, счастье – это состояние души. Я чувствую себя счастливым в моем страдании, Альдонусь, я готов отдать часть этого счастья тебе, сердце мое разрывается от мысли, что я приношу тебе горе, потому что тебе кажется, будто я иду неверно. Но я верно иду, я ведь хочу отдать свою любовь униженным. Ты же веруешь, Альдонусь, и на проповедях говорят об этом, но там лишь говорят, я – делаю. Прошлое соединяет нас с тобой, родная, но жизнь отдаляет и будет отдалять все дальше и дальше, и нельзя противиться этому, потому что мы подчинены движению – хотим мы этого или нет. А движение – это борьба совести в сердце человеческом; это и трагедия, это гибель. Гибель одного во имя жизни других… Альдона кивнула на могильные камни:
– Разве ты жив после их смертей, Феликс? Сколько нужно жизней, чтобы изменить то, что гадостно тебе? Отчего ты унижаешь меня тем, что я ращу детей, слышу их щебет, пью с Гедымином чай по вечерам, а ты исходишь кровью в тюрьмах?
– Альдонусь, тучкам надо ночевать на груди утеса, – шепнул Дзержинский. – Тучкам-странникам нужна опора.
– Тот был великан, а я? Тучки, Феликс, кончаются весенним дождем, и – нет их, снова синее небо, люди-то тучек не любят, они любят, чтоб небо было постоянно одноцветным, голубым. Про тучки помнили поэты, а сколько их на этой страшной земле, сколько?
… Конферансье шалил неприлично:
– У наших девочек есть желание продемонстрировать вам фасоны купальных костюмов, которые начали носить позавчера в Венеции, на другой день как рухнула колокольня Святого Марка, но мы боимся, что у нас, наоборот, слишком много новых колоколен появится, покажись вам, дамы и господа, наша Иреночка в купальнике! Итак, пани Ирена, любимица Лодзи, демонстрирует новый фасон вечернего платья из гладкого шелка, расклешенного внизу, сильно забранного в талии, чуть приспущенного на бедрах.
Грянул духовой оркестр, и на сцену выскочила Ирена, начала прохаживаться перед зрителями – в большинстве своем «мышиными жеребчиками», которым за пятьдесят: глазоньки масленые, блестят – быстрые, ищущие ответа в лице модистки, щедрые, жаждущие, льнущие глазоньки.
Дзержинский шепнул Матушевскому, сидевшему рядом с ним в махонькой каморке Софьи Тшедецкой, завешанной роскошными туалетами:
– Слушай, Винценты, я не выдержу этой пошлятины и запаха одеколона – одно к одному, право…
– И не то выдержишь, – пообещал Матушевский, не отрываясь от «Тыгодника иллюстрированного». – Послушай лучше, о чем мечтает Адам Паленский.
– Поэт?
– Да.
– Брат Игнася, который сейчас на Акатуе?
– Да.
– И его печатают?
– Так ведь смотря что. «Я грежу о фиалках детства, из которых плел венки, где вы теперь, былые дни, невозвратима наша юность». Строк сорок… Если б такое Роза стала писать, ее бы на первой полосе «Правительственного вестника» распубликовали.
– Не поверили бы.
– Ты, Юзеф, не мерь всех своею меркой. Коли написано и подписано – для читателя закон. А вот послушай…
– Когда выступит Софья? – перебил Дзержинский; он видел в дырочку, просверленную в фанерной стене, стариков, раздевавших глазами модистку, которая двигалась по сцене заученно-развратно, и было в этой заученности нечто такое жалкое и оскорбительное, что смотреть тяжко, сил нет смотреть. Если уж открытый блуд – тогда объяснимо хоть, а здесь видно: лицо Ирены жило своей жизнью, отличной, резко отделенной от тела, которое колыхалось, играло бедрами, жеманно поворачивалось и замирало в неестественно-сладострастных позах.
– Скоро выступит, – пообещал Матушевский, – послушай Леопольда Штаффа, по-моему, в этом что-то есть.
– Читай.
– Я прочту, а ты не раздражайся так.
– Прости, Винценты. Очень к тому же пахнет одеколоном, – ответил Дзержинский, – начну кашлять – не остановишь.
– Так требует хозяйка салона: терпкий одеколон, ощутимый со сцены, вызывает у зрителей те эмоции, которые надобны… Слушай Штаффа: «Уж много лет я служу смотрителем на маленьком, затерянном в море маяке, и работа моя заключается в том, чтобы каждую ночь глядеть во тьму, ожидая, когда появятся огоньки далеких кораблей. Тогда я спущусь вниз, в пропахшую дегтем и старыми канатами кладовку, возьму самый большой прожектор, запалю самую большую лампу и побегу наверх, чтобы те, кто бороздит жуткую ночную темь, могли увидеть меня и почувствовать, что они не одни, что в темноте сокрыто множество огней, которые ждут»…
– Хорошо. Очень хорошо. Кто этот Штафф?
– Его отца судили во времена Ромуальда Траугутта, а брата сослали по делу «Пролетариата».
– Он связан с нами?
– С нами – нет. С ППС.
– Жаль. Ты не пробовал говорить с ним?
– Не до жиру, быть бы живу… Своих бы охватить.
– Чем собираешься охватывать? – неожиданно хмыкнул Дзержинский. – Плеханов блистательно знает мировую литературу, Ленин связан с Горьким, цитирует постоянно Толстого; Люксембург исследует Глеба Успенского… Мархлевский – знаток Мицкевича. Напрасно ты так – слово литератора в нашей борьбе многое значит, причем такого литератора, которого читают широко, по-настоящему, а не в профессорских кружках на журфиксах. Один Горький или Словацкий стоят сотни таких, как мы с тобой.
Конферансье попросил проводить «пышку-Иренку» аплодисментами, что публика и сделала.
– А теперь, – продолжал обливавшийся потом толстяк в канотье, – модный салон фрау Гуммельштайн из Лодзи хочет показать вам, дамы и господа, скромное утреннее платье, которое мы называем «маленькая кофейница». Софочка, прошу! Оркестр!
Грянул оркестр, на сцену вышла Софья Тшедецкая, и движения ее были точно такие же, как у Ирены, но в глазах при этом затаился смех: после того как она начала работать для революции, понятие «необходимость» вошло в ее существо, стало ее якорем, точкой опоры, спасением.
– Скромная парча лишь оттеняет изящность крепа, – продолжал конферансье, – подчеркивая линии талии, переход в б-ю-у-уст. Утром это особенно важно видеть, потому что человечество делится на два вида мужчин: «ночных» и «дневных»!
Софья снова задвигалась по сцене, заученно раскачивая бедрами.
– Слушай еще, – продолжал Матушевский, листая «Тыгодник», – «Вся Польша готовится встретить 492-ю годовщину Грюнвальда, когда было нанесено поражение вечному девизу германцев „дранг нах остен“… Вацлава Собесского вспоминают: „Половина немецких земель лежит на развалинах древних славянских государств“.
– А что? Верно говорил Собесский.
– ППС тебя готова принять в свои объятия.
– Прикажешь замалчивать историю? Ничего и никогда нельзя замолчать, Винценты. Это невыгодно – замалчивать: рано или поздно откроется; замалчивание – одна из форм отчаяния, лжи. А когда человек лжет, он постоянно держит в голове тысячу версий, боится перепутать эти проклятые версии, сфальшивить, брякнуть не то. Ложь порождает страх. Открытость – мать храбрости… Нельзя замалчивать, Винценты, надо уметь объяснять.
– А если необъяснимо?
– Такого не бывает. Все объяснимо. Даже, казалось бы, необъяснимое.
– Как тебе рисунок Каминского?
Дзержинский оторвался от дырочки в фанерной стене, обернулся: на развороте «Тыгодника» была репродукция с картины – улочка бедного района Вильны с городовым – на первом плане.
– Антонин Каминский, да?
– Кажется.
– Именно он. Я помню его по Вильне. Он помогал нам. Славный и талантливый человек. Его бы в нашу газету…
– В какую газету?!
– В нашу, – ответил Дзержинский серьезно. – Разве помечтать нельзя?
Софья Тшедецкая пришла через несколько минут, шепнула Матушевскому:
– Не знаю, как быть с Юзефом.
– Что случилось? – спросил Матушевский. – Ты же сказала, что он может переночевать у тебя. Хвост?
– Хуже, – улыбнулась Софья. – Тетушка. Приехала тетушка из Лодзи. Я думаю, мы устроим Юзефа у Елены.
– Гуровской? – спросил Матушевский.
– Да, – ответила Софья, – вполне надежный товарищ.
– Она одинока? – спросил Дзержинский.
– Пока – да, – ответила Софья.
– То есть?
– Жених есть, а денег нет, – ответила Софья, – так всегда в жизни: когда есть одно, нет другого.
– Товарищи, это невозможно! – резко сказал Дзержинский. – Это никак невозможно!
– Тише, – попросила Софья, – могут услышать. Почему невозможно?
– Потому что вы – свободный человек, и вправе пустить к себе того, кем увлечены, кто приятен вам, упрекнет в этом морализирующий буржуа, вроде здешних, – Дзержинский кивнул на стену, – которые глазами блудят. А если сплетни о том, что я провел ночь на квартире Елены, дойдут до ее жениха?
– Кто он, кстати, Софья? – спросил Матушевский.
– Она скрывает, ты же знаешь, какая она ранимая и скрытная.
– Юзеф, по-моему, это наивное рыцарство, – заметил Матушевский, – ее квартира вне подозрений.
– «Наивное рыцарство», – повторил задумчиво Дзержинский, и что-то такое появилось в его лице, что Софья поняла, отчего Юлия Гольдман (они встречались дважды в Вильне) так давно и нежно любит этого человека с зелеными, длинными глазами и чахоточным румянцем на острых скулах…
– Юзеф прав, – сказала Софья, – я внесла предложение, не продумав его толком, он прав, Винценты, он высоко прав…
– Ох уж эти мне рыцари, – Матушевский покачал головой. – Вы – рыцари, а мне гоняй по Варшаве, ищи второй наган, чтобы отстреливаться
– в случае чего?
– Во всех случаях – пригодится, – сказал Дзержинский. – Спасибо за поддержку, Софья.
– Мы нарушаем все правила конспирации, номинальные правила, – задумчиво, словно с самим собою споря, продолжал Матушевский. – Нельзя жить бежавшему из ссылки где попало. Тем более, Юзеф хочет провести заседание Варшавского комитета. А я хвост за собою чувствую, по три конки меняю.
– Между прочим, я тоже последние дни ощущаю, будто за мною кто-то постоянно смотрит, – сказала Софья. – Даже здесь, сейчас.
– Это я смотрел, – улыбчиво шепнул Дзержинский, – здесь же дырочка проверчена.
– Все тот же мокотовский «Франта», – пояснил Матушевский, – наша главная служба конспирации.
Софья подошла к стенке, приложилась глазом к дырочке, обернулась тревожно:
– Винценты, вот он, возле окна – все разошлись, а этот остался.
Матушевский стремительно поднялся и, путаясь в кринолинах, сарафанах и кружевах, стремительно метнулся к стенке, приник к «глазку самообороны».
– Филер.
– Отвернитесь оба, – попросила Софья, – мне надо переодеться. Я возьму его на себя.
Дзержинский подошел к Матушевскому, оттер его плечом, приник к фанерной перегородке и долго рассматривал филера.
– Я никогда не думал, что это так гадко – тайно наблюдать за человеком… Неужели у них не содрогается сердце, когда они рассматривают нас в тюремный глазок?
– У них нет сердца.
– Анатомию забыл, – заметил Дзержинский. – Такого еще не изобретено. Меру ценности человека определяет ранимость сердца.
– Все, – шепнула Софья, – можете оборачиваться. Я запру вас, возьму филера на себя, а когда он отстанет – вернусь. Думаю, Юзефу надо ночевать здесь.
– Тут я умру от одеколонного удушья.
– Мы отворим окно. Сюда никто не подумает сунуться: наша хозяйка поставляет юных модисток подполковнику Шевякову из охранки и его патрону Храмову – невероятные скоты, что жандарм, что мукомол, который поляка иначе как «ляхом» не именует. Ждите.
… Матушевский увидел, как филер сорвался с места, потом, вероятно, вспомнив уроки, вытащил из кармана папиросы, закурил и двинулся следом за Софьей неторопливо, кося глазами по сторонам, но ощущая ее перед собою каким-то особым, собачьим, что ли, чувством…
… Софья Тшедецкая шла по улице рассеянно, спокойно, неторопливо, чувствуя на спине липкие глаза филера.
«Мерзавец, ведь забыл, что я для него государственная преступница, – подумала она, – топать топает, а смотрит, словно на невесту. Хотя нет. Так на невесту не смотрят. Так смотрят на публичную женщину, я же чувствую его липкие, тяжелые глаза на себе. Родители, верно, учили: „Невесту береги, до венца не коснись, лучше сходи на Хмельну, там все легко“. Вот ужас-то: разве можно беречь одну женщину тем, что унижаешь другую? »
Возле Сасского сквера она села в пролетку и сказала кучеру:
– На рынок Старого Мяста, где остановить – скажу.
Зеркальце из сумочки она достала скорее из предосторожности – была убеждена, что филер отстал, им на проезды мало давали, об этом старые «пролетариатчики» говорили. Однако, чуть тронув губы помадой, она зеркальце сместила так, чтобы увидеть улицу позади себя, и сразу же заметила, что следом за нею, в такой же открытой пролетке, едет филер, теперь уже открыто уткнувшийся глазами в ее спину, никак не маскируя себя рассеянным рассматриванием витрин.








