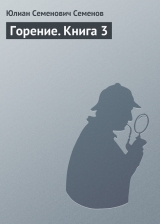
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 40 страниц)
Кто-то из шахтеров выкрикнул:
– Ты что, нарочно из себя строишь несмышленого?
– Он упрямый, Юзеф!
– Вопрос ясен!
Дзержинский чуть поднял руку.
– Нет, вопрос не ясен. Либо товарищ согласится с нами, с нашей программой, либо он должен выдвинуть свою. Третьего не дано. Третий путь – это отход от борьбы, это бегство. Или – или.
Генрих поднялся, оглядел товарищей с открытым недоумением:
– Как же так получается? Я говорю, что буржуй из нас сосет кровь, валяет нас и мутузит, а мы – подавай ему власть на блюде? И вы на меня за это прете? И вы…
Людвиг прервал Генриха:
– Ты что, понять не хочешь, о чем речь идет? Или как? Юзеф объяснял, что у царя власть отнять труднее, чем у капиталиста – русского ли, польского – все равно. Мы – на первом этапе – поддержим буржуя, потребовав от него за наше союзничество условия, и он на наши условия пойдет. Тогда мы сможем заседать не в шахте, а в доме. Тогда мы стачку будем объявлять не власти, а хозяину. Тогда мы станем объединяться в профсоюзы не тайно, а явно, открыто. Тогда мы свои газеты будем не под землею читать, а покупать в киоске! Чтоб в гору подняться, надо первый шаг сделать. Вот про что Юзеф толкует, а ты уперся, как коняга зашоренная.
– Это в порядке вещей, что товарищ открыто высказывает свое несогласие, свою критику нашей платформы, – заметил Дзержинский. – Хуже, если бы он молчал, в душе с нами не соглашаясь. Такая половинчатость, когда на словах поддерживают, а в душе клянут, порождает всеобщую ложь, ту самую, против которой мы, социал-демократы, боремся. Я хочу, чтобы товарищ Генрих еще раз порассуждал вместе с нами. Смотрите, что сейчас происходит в России и здесь у нас, в Польше. Кто критикует самодержавную бюрократию, кто платит деньги буржуазным журналистам, чтобы те публиковали статьи с требованием одних лишь экономических реформ? Мы с вами? Конечно, нет. Во-первых, экономические реформы нас не устроят, а во-вторых, – Дзержинский усмехнулся, – денег на такого рода расходы нет. Платят капиталисты, заводчики, либеральные помещики, которые видят, что самодержавие тянет их в пропасть своей идиотской политикой, боится пошевелиться – не то что реформу провести. Они платят, потому что царская бюрократия мешает им ловчее, сильней, но – при этом – умнее, то есть законнее эксплуатировать рабочего. Я не хочу, чтобы товарищ Генрих решил, что я защищаю интересы капиталиста: заводчикам и помещикам есть что терять, потому-то они и хотят сохранить самодержавие, но слегка поправить его, чтобы оно не мешало, чтобы оно слушалось, чтобы оно подчинилось логике развития капитала. Мы должны воспользоваться этой половинчатостью капиталистов. Развитие, товарищ Генрих, подчиняется закону, и нельзя нам, марксистам, игнорировать законы развития, нельзя бояться тех невольных, на определенном этапе, союзников, которых нам приуготовило новое время, нельзя отказываться ни от каких форм борьбы – трусость это. Или глупость. И то и другое, – Дзержинский кашлянул сердито, – наказуемо.
– Вот так надо и в газете написать, Юзеф, – сказал один из рудокопов.
– В газете? – переспросил Дзержинский. – Это хорошо, что вы заговорили о газете. Наша с вами газета переживает трудные времена. У нас нет денег на аренду типографии. Если мы не внесем плату немедленно, выпуск придется на какое-то время прекратить. Рабочие Лодзи собрали сто пятнадцать рублей, варшавяне передали нам девяносто два рубля. Я знаю, какие у вас заработки, и тем не менее, чтобы ваша газета продолжала выходить, я обращаюсь с просьбой организовать складчину.
Снова поднялся Генрих:
– Складчину организовать недолго. Но в сто раз правильнее сделать экспроприацию кассы нашего Лапиньского: к выплате привозят тысяч двадцать – вот и будет газета обеспечена впрок.
Все головы повернулись к Дзержинскому.
– Нет, товарищи, – ответил он сразу же, – наша партия выступает против экспроприации, против индивидуального террора; в героев-одиночек не играем! Наша партия надеется на тех, чьим выразителем она является, – на вас, рабочих. Я думаю, что если каждый соберет по двадцать копеек, и попросит соседа дать десять копеек, мы наберем те деньги, которые нас выручат.
Генрих подошел к столу, за которым стоял Дзержинский, положил мелочь, сказав при этом:
– А я стою на своем.
Следом за ним пошли рабочие – выворачивали карманы, сыпали медяки.
7… Норовский из типографии уже ушел. Дзержинский остался в своей комнатенке, которую называли в шутку «апартаментом пана редактора начальнего». (После того, как Норовский дважды пересказал беседу с полицейским, Дзержинский оставался здесь ночевать, посчитав слова Зираха о «слабых запорах», плохо скрытой угрозой: он знал от товарищей эсеров, что русская заграничная агентура в пору борьбы с народовольцами устраивала налеты на типографии революционеров, заручившись на то согласием местной полиции.)
Работал Дзержинский согнувшись вопросительным знаком над своим столом, переписывал для набора статьи Розы Люксембург и Мархлевского, правил рукописи рабочих, редактировал переводы с русского – польские рабочие, считал он, должны знать все, что происходит в России. Последние недели был занят тем, что отыскивал кандидатуры таких писателей, историков и экономистов, которые бы внесли в газету «струю интереса», высветили бы партийную работу по-своему, в иной манере, с другим строем доказательств.
Сегодня получил письмо от Розы. Люксембург писала, что в Варшаве в частных библиотеках выступает с лекциями по истории профессор Красовский, «чудесный старик, невероятно талантливый, несомненно левый. Было бы великолепно, если бы вы смогли уговорить его писать для газеты. Мне кажется, Красовский не откажет, ибо университетская администрация до сих пор запрещает ему выступать перед студентами, мы же предоставим ему трибуну. Естественно, с рядом его положений согласиться никак нельзя, но в исследованиях Красовского заложен тот динамит, который дает весьма ощутимую детонацию. Будучи патриотом – в чистом смысле – он лишен какого бы то ни было национализма».
… В дверь постучали осторожно, ладонью, очень тихо. Дзержинский недоуменно прислушался. Постучали второй раз – громче.
Спустившись вниз, Дзержинский спросил:
– Кто там?
– Это из полиции, лейтенант Лебе, – представился Зирах.
– В чем дело?
– Мне неловко говорить с вами через дверь, господин Доманский. Будет лучше, если вы побеседуете со мной. Сейчас. В противном случае, мы вызовем вас в полицию. Завтра.
Дзержинский дверь отпер, пропустил позднего гостя, пригласил его наверх, в свой кабинетик, осведомился:
– Чем обязан полиции?
– Полиции – ничем. Я по собственной инициативе.
– Прошу садиться.
– Благодарю.
Дзержинский внимательно оглядел лицо ночного визитера, вспомнил, как описывал допрашивавших его полицейских пан Норовский, заставил себя прикинуть метод сыщиков Пинкертона и, усмехнувшись чему-то, сказал:
– Слушаю, господин Зирах.
– Ого! Знаете мою подлинную фамилию? Большая сеть информаторов? Единокровцы помогают?
– Помогают, – согласился Дзержинский, по-прежнему усмехаясь.
– Позвольте без околичностей, сразу к делу?
– Именно так.
– Нам известны финансовые трудности, переживаемые вашей газетой, господин Доманский. Мы готовы оказать вам известную помощь в том случае, если вы согласитесь информировать меня и моих коллег о происходящем в Варшаве.
– Чем занимаются коллеги?
– Я и мои коллеги занимаемся изучением России как потенциального противника Австро-Венгрии.
– Вы что-то крепко напутали, господин Зирах. Выступая против русского самодержавия, я являюсь противником монархии вообще. Австро-Венгерской – в частности.
– Если вы откажетесь принять мое предложение, – пропустив слова об Австро-Венгрии, продолжал Зирах, – вас будут ждать большие осложнения, господин Доманский.
– Догадываюсь. Однако ничем помочь не могу – не научен торговать принципами.
– Вы вольны стоять на своей точке зрения – у нас свобода слова, монархия-то конституционная, в отличие от российской. Говорить можно все, за устное слово плату не взимают и не наказывают – хоть императора браните. А вот за печатание слова – слишком мы тут либеральничаем. Впрочем, это моя точка зрения, я в данном случае не представляю власть. Но, как принято выражаться, эти заметки на полях…
Дзержинского всегда раздражали эти «длинные» жандармские «подходы», это их желание все осмотреть во время беседы, сделать вывод, уверовать во что-то свое, заранее придуманное, или же, наоборот, отвергнуть.
– Еще вопросы будут? – спросил Дзержинский. – Извольте в таком случае касаться предмета, интересующего закон.
– Номер моего телефонного аппарата оставить?
– Нет, благодарю вас.
– Честь имею, господин Доманский.
– Спокойной ночи.
Назавтра Норовский был вызван в финансовую инспекцию Кракова. Инспектор, быстрый в движениях, взгляда Норовского старался избегать, елозил глазами по столу и, быстро манипулируя аккуратными ручками, тараторил:
– Таким образом, мы не можем не согласиться с доводами муниципальной пожарной инспекции и обязываем вас в месячный срок провести ремонт помещения, дабы возможность образования очага опасности была устранена совершенно категорически. Вы обязаны разобрать две стены, подвести канализацию, переложить фундамент и уже на этом новом фундаменте воздвигнуть стены, обязательно каменные. Впрочем, без проекта, утвержденного архитектурной инспекцией, мы не сможем санкционировать начало работ. Единственно, что может способствовать вам, так это внесение полутора тысяч шиллингов…
– Сколько?! – охнул Норовский. – Да откуда же у меня такие деньги?!
– … в кассу нашего департамента, – словно не слыша Норовского, продолжал чиновник, – для того, чтобы мы взяли ваше строение под свою опеку и сами провели ремонт. Извольте ознакомиться со сметой, здесь все подсчитано, и в случае, если вы в течение месяца внесете означенную выше сумму, мы проведем перестройку принадлежащего вам строения. В том же разе, если вы означенных денег внести не сможете, строение будет снесено. Срок – месяц, прошу расписаться в том, что я довел до вашего сведения заключение пожарной комиссии, подчиненной непосредственно полицейскому комиссариату Кракова.
– Здравствуйте, Птаха, – Дзержинский улыбнулся Гуровской и мягко пожал ее руку. – Что глаза грустные?
– Ну что вы, Юзеф! – Гуровская покачала головой. – Ночью мало спала, готовилась к экзамену, а потом пошла к товарищам – надо было паковать литературу для Лодзи.
– Запаковали?
– Да. В паспарту – очень удобно и надежно. Не станут же полицейские рвать картины? Им в голову не придет, что под сладенькими видами Монблана хранится Люксембург и Адольф Барский.
Дзержинский удивился:
– Неужели Монблан вам кажется «сладеньким»?
– Сам по себе – нет, конечно. Но виды, которые с него делают, – невероятно безвкусны.
– Вас это сердит? – спросил Дзержинский.
– Очень.
– А я, признаться, люблю смотреть, как в базарных фотографических ателье делают портреты молодоженов. Лица у них светлые, сами – счастливые. Фотограф заставляет их замирать перед вспышкой, и получается очень плохой портрет. То же – с Монбланом. Его делают слащавые люди дурного вкуса. Обстоятельства лишь на какое-то время оказываются сильнее вечной красоты: Монблан, как и счастье, категория постоянная.
– Дурной вкус – это обстоятельство? – удивилась Гуровская.
– В общем – да. Если создать условия для проявления всех заложенных в личности качеств, то в первую очередь станет очевидной тяга к красоте. Людям столь долго ее не показывали, что каждый представляет себе прекрасное так, как может. А как может понимать красоту рыночный фотограф? Так, как ее понимали его необразованные, темные родители. Это же шло из поколения в поколение.
– Слишком вы добры к людям.
– Доброта – при этом – одна из форм требовательности. Я ведь не оправдываю, я пытаюсь понять.
– Оправдываете, оправдываете, – улыбнулась Гуровская, – нельзя все оправдывать.
– Хотите кофе?
– Очень.
Дзержинский свернул с Унтер ден Линден.
– На здешний кофе у меня денег никак не хватит, а тут, в переулочке, есть прекрасное местечко – пойдемте-ка.
Они сели за столик, Дзержинский попросил заварить хорошего кофе и, перегнувшись через стол чуть не пополам, шепнул:
– Вы играть умеете?
– Что? – Гуровская, приняв было шутливую манеру Дзержинского, резко подалась назад. – Как – играть? О чем вы? С кем?
– Тише, Еленочка, тише, дружок. Я хочу просить вас о помощи.
– Господи, пожалуйста! Я не могла понять, о какой вы игре.
– Тутошние филеры топали за мной, я от них с трудом отвязался. А мне сегодня надо увидаться с одним господином. Так вот, пожалуйста, сыграйте роль моей доброй и давней подруги. Сможете?
– Кто этот господин?
– Мой знакомый. Нет, нет, это не опасно. Будь опасно, я не посмел бы вас просить.
– Ну, конечно, сыграю. Где это будет?
– У вас.
– У меня?
– Да. А что? Неудобно?
– Я съехала со старой мансарды… Присматриваю новое жилье, поближе к центру, но такое же недорогое.
– Где вы теперь живете?
– Я?
Дзержинский снова улыбнулся:
– Ну, конечно, вы – не я же.
– У меня не совсем удобно, потому что я сейчас остановилась в отеле. Не знаю, какова его репутация…
– Как называется отель?
Гуровская почувствовала, как стали холодеть пальцы: не везти же его в свой роскошный трехкомнатный номер? Он такой, он прямо спросит: откуда деньги? А она не готова лгать ему, да ему вообще нельзя лгать, такие уж глаза у него, открытые, спокойные, усмешливые, добрые, зеленые у него глаза.
– Отель называется «Адлер», – подчиняясь его взгляду, ответила Гуровская.
– Это где, в Ванзее? Или в Кепенике, рядом с Розой?
– Нет. Это здесь, в центре, – еще медленнее ответила Гуровская.
– «Адлер» – отель буржуев. Разбогатели? – глаза его по-прежнему были добры и приветливы. – Откуда такие деньги?
– Мне прислал из Варшавы Володя Ноттен.
Что-то изменилось в его глазах: они остались такими же, только цвет их из зеленого сделался голубовато-серым.
– Это поэт, кажется? Он честный человек? Вы его хорошо знаете?
– Я его люблю.
– Ладно, поедем в «Адлер», – сказал Дзержинский и попросил счет. – Я оттуда позвоню моему знакомому. Кстати, у Ноттена никаких неприятностей раньше не было? Полиция им не интересовалась?
– Что вы, Юзеф! Он вне подозрений…
На улице было еще светло, но сумрак угадывался в потемневших закраинах неба, и близкая ночь обозначалась велосипедистом, который ездил с длинной палкой от одного газового фонаря к другому и давал свет, невидный еще, но словно бы законодательно обозначавший конец дня.
– Я не зря спросил вас о Владимире Ноттене, Птаха. Он интересно и честно пишет, несколько, правда, экзальтированно, пэпээсами отдает, культом одиночки… Если по-настоящему протянуть ему руку, он сможет стать на наш путь?
– Не надо, – ответила Гуровская. – Пусть наша работа останется нашей, Юзеф. Он слишком раним…
– Значит, мы – толстокожие слоны? – Дзержинский искренне удивился.
– В революцию приходят ранимые люди, равнодушные никогда не приходят в революцию, Геленка.
– Я не то имела в виду. Он, как бы это сказать… Слишком мягок, что ли, слишком женственен…
– Женственность порой крепче показной мужественности, а мягкость – что ж, мягкость – одно из проявлений силы.
– С вами трудно спорить.
– А разве мы спорим? Ну, будет, ладно, коли вы считаете, что не надо, мы обдумаем ваше мнение; насильно к себе никого не тащим. Революционная партия, которая принуждает к сотрудничеству, – Дзержинский даже фыркнул, – разве такое возможно?
… Николаев был таким же шумным, толстым, проворливым, как и в маньчжурском поезде, словно и не долгие месяцы прошли, а короткие, быстротечные дни.
– Ого! – сказал он, входя в номер Гуровской. – Ничего себе живут революционеры в изгнании! Ваша берлога? Дзержинский посмотрел на Елену Казимировну:
– Моя приятельница сняла этот номер специально для нашей встречи.
– Зачем деньги зазря бросать? Ко мне бы приехали, да и все!
– За вами могут смотреть – за каждым заметным русским нет-нет да присматривают.
– Я пойду в библиотеку, Юзеф, – сказала Гуровская, – располагайтесь, как дома.
Дзержинский удивился:
– Мы вас стесняем?
– Нет, нет, право же, нет! Я вспомнила, что мне надо сегодня до закрытия взять книги, завтра экзамен!
(Шла Елена Казимировна не книги брать: она вдруг до отчетливой, близкой, ужасающей ясности вспомнила лицо Аркадия Михайловича Гартинга и его голос: «Я к вам как-нибудь на этих днях заскочу, ладно? Без звонка – а то здешние телефонистки любопытны, хоть русской речи и не выучены». И представилось ей, что Гартинг сейчас идет по коридору, застланному мягким ковром, останавливается возле ее номера, стучит костяшками сильных пальцев в дверь… Господи, ужас!
Она решила позвонить ему и предупредить, что навещать ее сегодня никак нельзя, потом, для маскировки, взять какие-нибудь книги у «Гумбольдта» и быстро вернуться. Однако телефон в русском посольстве не отвечал, на известной ей конспиративной квартире Гартинга тоже не было, и Гуровская присела в вестибюле, за столиком, вроде бы читая газету, а на самом деле неотрывно глядя на вход, и такой она себе показалась отвратительной и грязной, что прямо хоть иди сейчас к Шпрее и топись…)
– Бред какой-то, – ярился Николаев, – бред, понимаете?! Япошки ведь нас отлупят, наверняка отлупят! Надо же додуматься до того, чтобы скандалить с микадо! Зачем? В чьих интересах? Кто это затеял, Феликс Эдмундович? Кто?
– Кто? Кто, Кирилл Прокопьевич?! – в тон Николаеву поинтересовался Дзержинский. – Бюрократия, Армия, Царь. Разве не ясно? Ваш брат тоже хорош. Сколько денег от промышленников в казну идет на эту авантюру?
– Идет-то идет, а что станется?! Во что эти деньги превратятся? Думаете, жаль платить? Отнюдь! Готов! Но – на дело, на дело!
– Вот поэтому мне и надобно было вас видеть. Во-первых, спасибо за те деньги, – Дзержинский достал несколько купюр и протянул их Николаеву. – Вы меня крепко выручили тогда.
– С ума сошли? – деловито поинтересовался Николаев.
– Не обижайте, – легко попросил Дзержинский, – не надо. Вопрос о другом сейчас пойдет, Кирилл Прокопьевич. Нам снова деньги нужны, очень много денег, и мы хотим просить их у вас заимообразно.
– Много – это как?
– Это две тысячи.
Николаев тихонько засмеялся.
– Много, – повторил он, не в силах сдержать мелкий, вибрирующий смех. – Две тысячи! Это – много для вас?! Ой, рассмешили, две тысячи! Не серьезная вы организация, если для вас две тысячи – это много…
Дзержинский нахмурился:
– Мы, как организация, состоим из тех, кто в месяц зарабатывает двадцать рублей, Кирилл Прокопьевич.
– Ну, это понятно, это они, бедолаги, – все еще не в силах успокоиться, продолжал Николаев, колышась в кресле, – а вы сколько получаете от своих партийных ЦК?
– B месяц получаю тридцать. Мои разъезды оплачивает ЦК. Квартиру, в случае нужды, тоже.
Николаев смеяться перестал резко – будто все время был серьезен:
– Выдержите так?
– Как?
– В нужде, чахотке, в изгнании, ссылке. Выдержите!
– Я верю.
– А ну – усталость?
– Я же не себе служу.
– Вы, кстати, сказали – заимообразно. Когда собираетесь отдать?
– Когда нужно?
– Допустим – через год.
– Хорошо. Мы вернем.
– Как соберете?
– Соберем. Постепенно соберем. Чем большее количество мужиков будут разорять, тем больше их придет на фабрику, чем больше их станет на фабрике, тем больше появится вопросов, на которые ответ дадут не «Биржевые ведомости» и не «Новое время», а мы.
– Допустим, вы победили, – сказал Николаев, – допустим, хотя я в это не верю и молю господа, чтобы этого не было. Я за первую половину социал-демократической программы: я – за буржуазно-демократическое, но я, как понимаете, против революционно-пролетарского.
– Это я понимаю.
– Вы сейчас можете стать тем тараном, который пробьет нужную мне брешь. Но, повторяю, допустим, случилось невозможное и вы победили. Что тогда? Меня – на гильотину?
– Кто вы по профессии?
– Как – кто? Путеец.
– Дадим чин начальника железной дороги, – сказал Дзержинский, – право, дадим.
Николаев открыл чековую книжку, написал сумму, протянул Дзержинскому:
– Можете не возвращать. Или уж когда победите… Феликс Эдмундович, умный вы и хороший человек, нас всех ждет хаос и гибель, гибель и хаос. И ничего с этим грядущим не поделаешь, ибо Россия ни вами, ни мною понята быть не может – чертовски странная страна, в ней какие-то загогулины сокрыты, перекатываются незримо – хвать! – ан нет, выскользнули! Поразительно, знаете ли, – государство пухнет, а народ слабеет. Государь боится, не хочет позволить русским осознать свою ответственность за страну, он хочет все движение, всякую мысль и деяние подчинить себе как выразителю идеи государственности – в этом беда.
– He его. Ваша. Национальный мистицизм в себе таит блеск и детскость, – заметил Дзержинский. – А вы этим блеском прельстились – удобно: за тебя выдумали, сформулировали, пропечатали – прикрывайся на здоровье!
– Ну мистицизм, ну верно. Так разве не правда?
– Конечно, нет. Станете вы хозяином промышленной империи, настроите железных дорог на Востоке и Западе – тоже всё будете под себя подминать и придумаете – а может, кто другой, у вас на это времени не будет, делом надо будет ворочать, – некую концепцию оправдания промышленного централизма.
– Что предложите взамен?
– Вы нашу литературу читаете? Каутского, Люксембург, Ленина, Плеханова?
– Так они рассматривают Россию как сообщество мыслящих! А где вы их видели у нас?! Или уж берите все в свои руки поскорее и начинайте: иначе погибнет держава, к чертям собачьим погибнет, скатится в разряд третьесортных – это после Пушкина-то и Достоевского, а?!
В дверь постучались. Дзержинский ответил:
– Пожалуйста.
Вошла толстенькая немочка с пакетом.
– Это белье для госпожи, – извинилась она, – я не знала, что у госпожи гости.
– Какое белье? – не сразу понял Дзержинский.
– Три дня назад госпожа давала свое белье в стирку.
– Спасибо, – ответил Дзержинский, потом вдруг нахмурился и переспросил: – Когда вам отдавала белье госпожа?
– Три дня назад, – ответила служанка. – Когда госпожа вернулась из Парижа.
– В Париж госпожа уехала недели две назад? – вопрошающе уточнил Дзержинский.
– Нет, – ответила служанка, – десять дней назад. А вернувшись, сразу же попросила взять в стирку белье…
Когда дверь затворилась, Дзержинский поднялся и спросил:
– У вас курить ничего нет?
Николаев удивился:
– Вы, сколько помню, почти не курили.
– Хорошо помните.
– Так и не курите, не надо. Пошли ужинать лучше, а? Вкусно угощу.
– Джон Иванович по-прежнему в добром здравии? – словно бы не слыша Николаева, спросил Дзержинский. – Все такой же веселый?
– А чего ему горевать? Россия с япошками завязла, родине его от этого выгода, дивиденды будут, а он деньги в калифорнийском банке держит, хоть помирать собирается при мне.
– Как вы думаете, он согласится выполнить мою просьбу?
… Гуровская вернулась сразу, как только вышел Николаев. Было поздно, и Гартинг, казалось ей, не должен прийти сейчас, да и Дзержинский, видимо, сразу откланяется.
– Ну, все хорошо? – спросила она. – Я, по правде, не хотела вам мешать, потому и ушла.
– Напрасно вы это, – сказал Дзержинский. – Право, напрасно. Тем более что путного разговора у меня не вышло.
– Кто этот господин?
– Эсер-боевик. Готовит крупную экспроприацию в Варшаве.
– Видимо, не женевский?
– Да. Он все больше в Лондоне или России. Можно я позвоню?
– Конечно, пожалуйста…
Гуровская вышла в другую комнату. Дзержинский проводил ее задумчивым взглядом, назвал телефонистке номер, потом чуть прижал пальцем рычаг, чтоб отбой был, и сказал:
– Николай? Это я. Через три дня, с московским поездом, в четвертом купе первого класса поедет дядя с багажом. Пусть его встретят на границе. Его узнают: он в красной шапочке с помпоном, плохо говорит по-русски. Он передаст красный баул Станиславу. До встречи.
Гуровская появилась через мгновенье после того, как Дзержинский положил трубку.
– Чаю хотите? – спросила она.
Дзержинский оглядел ее фигуру, лицо; вымученно улыбнулся и ответил:
– Спасибо. Я пойду. У меня что-то голова кружится.
– Так вот и надо чаю, обязательно стакан крепкого чая. Я сейчас, мигом кликну!
Дзержинский не мог подняться с кресла – его давила тяжесть: он ни разу в жизни не видал провокатора так близко.
(Когда жандармы провели по перрону Джона Ивановича, а следом носильщик поволок огромный красный баул, «Пробощ» вспрыгнул в вагон и, прилипнув к окну, тяжело засмалил папиросу.)
Дзержинский аккуратно сложил телеграмму «Пробоща», сообщавшую о задержании Джона Скотта, спрятал ее в карман и задумчиво посмотрел на Розу Люксембург, собравшую актив польских социал-демократов в Берлине.
– Вот так, – сказал Дзержинский. – Теперь понятно, от кого шли провалы в Варшаве и Лодзи. Понятно, кто погубил Мацея Грыбаса.
– Случайность исключена?
– Сотая доля вероятия, – ответил Дзержинский. – Она знала Грыбаса и, к счастью, никогда не встречала Каспшака. Может быть, поэтому Каспшак продолжает работу.
– Предложения, товарищи? – спросила Люксембург. – Какие предложения?
– Роза, – поднялся бородатый, седой – один из «стариков». – В Лодзи, Петракове и Варшаве повешены семь человек. Начинается суд над Мацеем. Наш ответ сатрапам может быть одним: казнь провокатора.
Дзержинский прикрыл веки пальцами – было видно, как они подрагивали.
– Роза, – член Главного правления был быстр, нервен – ноздри трепыхали, – товарищи. Событие это чрезвычайное. «Птаха», которую мы все знали, которой помогали, готовили к экзаменам, кормили…
– Это словопрения, – перебила Люксембург. – Прошу по существу вопроса.
– Это не словопрения! Это сердце мое!
– И это словопрения, – так же сухо перебила Люксембург.
– Хорошо. Я – за немедленный партийный суд.
– Следующий?
– Суд.
– Пожалуйста, ты?
– Казнь.
– Ты?
– Казнь.
– Юзеф?
Дзержинский тяжело поднял покрасневшие веки, поднялся.
– Я против.
– Мотивация? – по-прежнему бесстрастно осведомилась Люксембург.
– Когда меня спросили: «Случайность исключена? », я ответил: «Сотая доля вероятия».
В комнате было тихо, и тишина была давящей, ожидающей, готовой вот-вот смениться всеобщим шумом. Дзержинский чувствовал это и медлил специально, чтобы заставить товарищей не столько себя слушать, сколько принять его точку зрения или уж во всяком случае не сразу отвергать ее.
– Мы уподобимся социалистам, – продолжал Дзержинский, заставляя себя говорить тихо и медленно. Он понимал, что если даст волю порыву – разыграются страсти, и он вынужден будет подчиниться воле большинства.
– Суды, слежки, казни, кровь, террор – не наш метод. Если Гуровская провокатор «идейный», если она сама пришла – это одно дело, но коли юную девушку сломали, вынудили жандармы? Надо же думать реально – до тех пор, пока существуем мы, будет существовать охранка. Может быть, целесообразней быть воспитателями, чем карателями? Может быть, следует беспощадно и методично карать тех, кто есть главное зло, – охранку? Я не убежден, что бывший народоволец Лев Тихомиров сам стал нынешним монархистом Тихомировым, – его к этому привели. А жил он в Швейцарии. Кто привел? Каким образом? Сломали? На чем? Если мы убедимся до конца, что Гуровская служит охранке, наш долг заключается в том, чтобы дать ей возможность принести покаяние, открыв нам всю правду о своем падении. Если она откажется от этого – тогда мы публично оповестим о ее провокаторстве в социал-демократической прессе мира.
– Какими доказательствами это будет подтверждено? – осведомилась Люксембург.
– Неопровержимыми.
– У тебя есть такая возможность?
– Возможности пока нет, но я ее заполучу.
– Каким образом?
– Я начну игру.
– С кем?
– С заграничной русской агентурой, – ответил Дзержинский, как бы давая понять, что подробнее говорить он не готов.
– Товарищи, прежде чем приступим к голосованию, угодно ли будет выслушать мое мнение? – после короткой паузы спросила Люксембург. – Я должна согласиться с Юзефом. То, что предлагаете вы, идет от сердца, без раздумий о стратегии, то есть о будущем. То, на чем настаивает Юзеф, есть мнение человека, заглянувшего вперед, в то туманное далеко, что не каждому дано видеть. Юзеф прав: мы не можем повторять тактику наших социалистов или русских эсеров. В этом локальном эпизоде должна проявиться наша позиция – либо таинственный суд, казнь, которая позволит здешней полиции раздуть очередное дело об анархистах и пугать этим массы, либо же открытое, пренебрежительное, свидетельствующее о нашей силе, оповещение в печати: «Такой-то или такая-то состоит сотрудником охранки. Предупреждаем об этом всех товарищей по борьбе». Теперь прошу голосовать… «Милостивый государь, Владимир Иванович! По полученным из департамента полиции (через Варшавскую охрану) данным нами был задержан по словесному портрету господин, долженствующий иметь в своем бауле нелегальную литературу, оружие и фальшивый паспорт. Задержанным оказался гражданин Северо-Американских Соединенных Штатов Джон И. Скотт, состоящий камердинером купца первой гильдии, почетного потомственного гражданина К. П. Николаева. Поскольку наших извинений г-ну Скотту было недостаточно, он отправил телеграфом протест в Посольство САСШ в С. -Петербурге, ввиду просроченного билета в купе первого класса, который мы не смогли оплатить из секретного фонда, не имея на то соответствующего приказания. Поскольку от нас затребовано объяснение по поводу происшедшего, прошу подтвердить Ваше указание на задержку означенного Джона И. Скотта, как подозреваемого. Вашего высокоблагородия покорнейший слуга подполковник железнодорожной жандармерии Р. Е. Засекин». «Милостивый государь, Родион Евгеньевич!
К сожалению, не могу ответить на Ваше любезное письмо положительно, потому что никаких указаний на задержание гражданина САСШ Д. И. Скотта, ни я, ни мои сотрудники Вам не давали. В нашем циркуляре было обращено внимание Вашего высокоблагородия на необходимость ареста злоумышленника, а отнюдь не гражданина Северо-Американских Соединенных Штатов. Ввиду того, что настоящий злоумышленник сумел пересечь границы империи, а Вашими сотрудниками был задержан невиновный, я, к сожалению, не смогу ответить Вам в каком-то ином смысле, кроме как в том, какое имею честь отправить. Полковник В. И. Шевяков»








