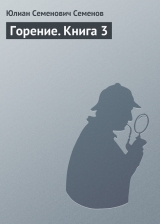
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 40 страниц)
Пока Владимир Карлович Ноттен печатал на гектографе в квартире Гуровской вместе с давнишним приятелем, истинным противником царизма, наборщиком Родзаевским, свою запрещенную работу – рассказ о судьбе Боженки Штопаньской, покончившей вместе с малыми братьями жизнь в быстрине Вислы, наряд охраны «нелегальную типографию», оборудованную на деньги подполковника Шевякова, не трогал, а лишь наблюдал. Арестовали Ноттена через двадцать минут после того, как ушел Родзаевский, и за пять часов перед тем, как должна была вернуться Елена Казимировна Гуровская.
Гуровская была отправлена Шевяковым на ту квартиру, где остановилась на два дня Альдона Булгак, урожденная Дзержинская; та, наивно полагал Шевяков, могла знать, где Матушевский, а уж если брат обнаружится в Варшаве, то к кому, как не к ней, придет он.
Пяти часов, считал Шевяков, хватит на то, чтобы обработать Ноттена: агентура присматривалась к поэту, характер его был изучен, проанализирован, расписан по отдельным графам: «жаден – нет», «жесток
– нет», «честен – да», «храбр – не очень», «честолюбив – весьма», «любит ли Гуровскую – да». Вот на этих двух последних пунктах и решил сыграть Шевяков, хотя Глазов был настроен пессимистически, полагая, что и года для изучения человека недостаточно, а уж если речь идет о художнике – тем более.
– Глеб Витальевич, – посмеялся Шевяков добродушно, – в нашем альянсе, так сказать, вам отведена роль режиссера, вы уж мне исполнительство оставьте, я в актерстве поднаторел.
– Режиссура протестует против торопливости, а вы все равно свое гнете. Хорош актер…
Тем не менее Шевяков настоял, и Ноттена привезли в охранку.
Надев профессорские очки из филерского реквизита, Шевяков сел напротив журналиста:
– Владимир Карлович, отпираться бесполезно, потому как взяли мы вас с уликами. Вы понимаете это?
– Понимаю, – ответил Ноттен, терзая свои руки.
– По статье сто второй уголовного законоположения нелегальная социалистическая типография, владение ею, покрывательство, а равно, так сказать, пользование влечет за собою арест, суд и ссылку в Восточную Сибирь на срок до семи лет. Это вы тоже понимаете?
– Это я понимаю тоже, однако речь упирается в то, какого рода прокламации вы нашли в такой типографии? Возмутительного содержания? Социалистической направленности?
Шевяков не ожидал вопроса, кашлянул, поискал глаза ротмистра Глазова, но тот безучастно сидел в уголке и чистил ногти лезвием перочинного, с перламутровыми накладками, ножичка.
… Ноттен тем временем ощутил, что попал в точку. Поэтому, хотя руки он по-прежнему терзал, в глазах его уже не было того ужаса, который появился, когда в квартиру Геленки вошли жандармы.
Он утвердился в правоте своей догадки, увидав перегляд допрашивавшего его дуборыла с тем, длиннолицым, который сидел в углу: дураку надо сто вопросов и сто ответов ставить, умный, да к тому же пишущий, поймет и без слов – кожею своей, нервами.
– Тут дело не в возмутительном содержании, Владимир Карлович, – ответил Шевяков, рассердившись больше на Глазова, – дело в том, что через несколько часов я сюда под конвоем Елену Казимировну доставлю и дам вам очную ставку, и обоих вас заточу в тюрьму. Право мое держать вас год под следствием, а там уж суд разберется.
– Вы угрожаете мне самоуправством?
– Не торопитесь со мной ссориться, Ноттен, – Шевяков ударил кулаком по столу, но по реакции Ноттена понял, что опоздал – сразу надо было кулаком по столу бить и ногами на поэта топать: сейчас поздно. Осел, болван, зачем Глазова не послушал, типографию, выходит, провалил, всю затею далекую сломал в зародыше!
– Оставьте нас, – попросил вдруг Глазов, и Шевяков вздрогнул: хотя голос ротмистра казался бесстрастным, но заложено было в нем сейчас то особенное, что заставило подполковника увидеть себя со стороны маленьким-маленьким и жалким со своими глупыми очками, про которые жена говорила: «други зыркалки».
Шевяков просидел за столом мгновение дольше того, чем следовало, ибо подспудно, вне зависимости от ощущения собственной малости, кто-то второй, большой и властный, словно бы удерживал его, нашептывая: «Гаркни! Прогони вон!», понимая при этом, что не гаркнет на ротмистра и не погонит вон, а сам уйдет.
И – ушел.
Глазов проводил глазами Шевякова и жестом пригласил Ноттена сесть напротив него, в мягкое кресло, недавно заново обитое мягкой красной кожей.
– В погонах разбираетесь? – спросил Глазов тем же тихим голосом, не отрывая глаз от перламутрового ножичка.
– В некоторой мере.
– Какой у меня чин?
– Ротмистр.
– Именно. А у него? – он кивнул на дверь.
– Штабс-капитан.
– Нет. Подполковник.
– Что из этого следует?
– Да ничего… Просто поинтересовался: в какой мере вы готовились к встрече с офицерами охранного отделения.
– Позвольте закурить?
– Бога ради.
– У меня папиросы отобрали при обыске.
– Это мы поправим, – Глазов легко поднялся и, неслышно ступая, подошел к двери, сильно распахнул ее, зная заранее, что ударит Шевякова, который подслушивал; скрыл усмешку и сказал – будто какой шавке: – Ну-ка, распорядись, чтобы господин подполковник прислал нам папирос.
Вернувшись, он поманил к себе Ноттена и прошептал:
– Вы – согласитесь.
– Что?!
– Тише. Он подслушивает. Вы согласитесь ему служить.
Ноттен покачал головой и смог улыбнуться.
– Согласитесь, – настойчиво повторил Глазов. – Если вы пришли в революцию не в бирюльки играть, а бороться, – согласитесь. Запомните адрес Матушевского: Волчья улица, дом пять. Матушевский – социал-демократ, знакомый Елены Казимировны. Вы ему скажите правду, скажите, что были арестованы и согласились работать на подполковника Владимира Ивановича Шевякова. Понятно? Когда будете туда идти, имейте в виду: за вами могут следить. Вас окружат людьми Шевякова, ваши добрые знакомцы станут отныне доносить ему о каждом вашем шаге, слове, поступке. Двойников мы уничтожаем. Революционеры – тоже. Если вы скажете Шевякову о моем предложении, он в силу своей духовной структуры вам не поверит, он обязан поверить мне. Это вам, видимо, ясно?
– Это мне ясно совершенно. Однако, если Матушевский спросит, кто дал рекомендацию согласиться служить охране, что мне ответить?
– Ротмистр Глазов, ответите, Глеб Витальевич, дал вам такую рекомендацию.
– А коли откажусь?
– Тоже путь. Подержат вас с Гуровской в тюрьме, дадут три года ссылки, сбежите через годик, коли не прикончат, станете в Швейцарии жить. Ежели все же решите отказаться, адрес Матушевского забудьте, ладно? Его ищут.
– Я вам вот что скажу, ротмистр. Не надо считать, что перед вами сидит ничего не понимающий человек. Вернется ваш подполковник, я что, так-таки прямо ему и отвечу: «Согласен»? Он ведь мне ничего не предлагал!
– Тише. Хорошо мыслите, Ноттен, очень рапирно, я бы сказал, мыслите.
– И потом – какая будет выгода революции, согласись я с вашим предложением?
– Большая.
– Именно?
– Революционеры будут знать, чего мы хотим, кем интересуемся, что замышляем. Коли согласитесь, я дам вам пистолетик. Он хоть и дамский, но с двадцати шагов бьет наповал. Увидите слежку, поймете, что привели за собой филеров к Матушевскому – бейте. Последнюю пулю советую оставить себе: за убийство филера вас повесят. Это противно: большинство обреченных превращаются в слезливых, безнравственных животных. Последнее – он, кажется, идет – кличку себе возьмете «Красовский». Запомнили? Со мной встреч не ищите – найду сам, если что-то надо будет передать товарищам.
– Красовский? Есть профессор Красовский, – заметил Ноттен.
– Есть.
– Бред какой-то, – сказал Ноттен. – Ничего не понимаю.
– Что ж тут не понимать? Все ясно, как божий день: попались по дурости, потому что кустарем работать глупо. Надо искать выход. Вы бы его не нашли, не будь здесь меня.
– Какой вам-то смысл?
– Каждому свое.
– Что же «ваше»?
– Не обо мне речь. Я свое знаю. О себе подумайте. Сейчас в изящной словесности трудно: даровитых много, и все вокруг жареного вьются. Но все же Словацкий – один, Горький – один, Сенкевич – один. И все. Личностью себя проявить в литературе не так-то просто. А то, что я предлагаю, – ого! Грохот пройдет по миру, имя на скрижали занесут. Только торопиться не следует. И мое имя – в контексте нашего разговора
– поминать никогда не надо. Погубите вы этим меня, заживо убьете. А его имя, Шевякова, – поминайте. Таких, как он, – Глазов прислушался, – надо жать к ногтю. Тише…
Шевяков вошел хмурый, с пачкой папирос в руке:
– Вы унтера Кацинского присылали ко мне за табаком?
– Да, – ответил Глазов, подняв глаза. Он сразу же увидел красноту на лбу подполковника (хорошо еще не шишка, он ему дверью-то от души заехал), закашлялся, чтобы сдержать смех. Спрятав ножичек в карман, не переставая кашлять, Глазов сказал: – Мы тут с Владимиром Карловичем побеседовали дружески – я думаю, он ваше предложение примет. Как, Владимир Карлович? Ради любимой женщины, а?
Тот снова начал терзать руки, потом уронил голову на грудь – дурак не поймет, что играет, ответил тихо:
– Я должен подумать.
После того, как «Красовский» ушел, Шевяков потянулся к внутреннему телефонному аппарату, но Глазов остановил его:
– Не надо.
– То есть как?
– Вы же видели его. Спугнете человека – получите двойника. Второй раз всю идею со своей торопливостью испортите. А сие – непоправимо. Завтра обложите его, куда он денется?
Глазов играл свою игру – если он, именно он, возьмет Дзержинского и директор Департамента полиции Лопухин узнает об атом, тогда можно проситься на прием, тогда придет время умно продать свои разноцветные папочки интеллигентному человеку – тот оценит.
Один Матушевский или даже вместе с Тшедецкой ему не так нужны; сейчас ему надобен Дзержинский. Только не переторопить события – тогда надолго ничего не будет. О его личной охоте за Дзержинским не знает никто; он с Шевяковым сейчас, он открыт для коллеги, он помогает ему типографию ставить, новое дело дуть. Но сам он ждет Дзержинского: сорвется там – отломится здесь. Ждать, словом, надо, ждать, таиться, играть, хитрить, будь все трижды неладно!
– Я к пану Матушевскому, – тихо шепнул Ноттен в глухую дверь, – я Владимир Нот…
– Вы ошиблись, милостивый государь, – ответил Матушевский, стремительно глянув на Дзержинского, который стоял рядом (только-только вернулись с заседания, неужели всех взяли?! ). – Здесь нет никакого Матушевского.
– Послушайте, пожалуйста, – продолжал шептать Ноттен. – Я – Ноттен, писатель Ноттен…
– Впусти, – шепнул Дзержинский.
– Надо сжечь прокламации. Там прокламации, – таким же быстрым шепотом ответил Матушевский.
– Впусти, – повторил Дзержинский, кончив рассматривать Ноттена в хитрую дверную дырочку. – По-моему, он один.
«Перехватив» на пустынной улице Гуровскую, которая чуть лишь не за полночь распрощалась с Альдоной Булгак (Дзержинский так и не появился в доме, где остановилась сестра, вопреки ожиданиям охранки, а если бы и появился, Елена Казимировна была намерена ему во всем открыться, предупредить об опасности и спросить, как ей вести себя с жандармами на будущее), Шевяков решил провести с нею решающую беседу до того, как она встретит Ноттена – чем черт не шутит, вдруг поэтишко брякнет?
Шевяков привез удивленную Елену Казимировну во двор маленького коттеджа, пропустил Гуровскую в темную переднюю, провел через большой зал, освещенный одной лишь свечой, в кабинет. Тут он принимал агентуру, на которую было решено ставить. Обставлена его конспиративная квартира была странно: мебель карельской березы, хрупкая, светлая, была явно чужеродной здесь, место ей в девичьей комнате, а не у полицейского чина, но выбирать Шевякову не приходилось: после очередного погрома вывезли из дома купца Гирша, потом уголовные арестанты отремонтировали поломанные стулья в тюремной столярной мастерской, и ночью гарнитур был привезен сюда. Шевякову гарнитур нравился – он любил маленькие и хрупкие вещи.
– Присаживайтесь, Елена Казимировна. Теперь мы с вами здесь будем встречаться, чего ж народу возле Охранного отделения глаза мозолить – глядишь, кто знакомый увидит. Записку о ваших берлинских «товарищах» мы еще раз прочитали, сравнили с тем, что у нас есть, хорошая вышла записочка, все сходится, – Шевяков достал из секретера деньги, положил их на столик перед Гуровской, кашлянул. – Здесь пятьдесят рублей. Аванс, так сказать, несмотря на досадную неудачу с Дзержинским.
Он видел, что женщина не знает, как ей отнестись к происходящему. Наклонившись через столик, Шевяков потянул к себе ее ридикюль:
– Позволите?
Открыв ридикюль, он опустил в потрепанный, жалкий шелк ассигнации и, наслаждаясь, хрустко закрыл защелки, сделанные в виде двух собачьих мордочек.
– Маленькая формальность, – сказал он, сыграв растерянное смущение, – придется написать расписочку. Вот здесь, на этом листике: «За выполненную работу мною получено пятьдесят рублей». Уж извините, но такой порядок – отчет и с меня требуют.
Шевяков проследил за тем, как Гуровская, ожесточившись отчего-то, вывела подпись, легко у нее из-под пера листочек забрал, аккуратно, по-купечески сложил его и спрятал в карман.
– Выпить чего не желаете? Водочка есть, финьшампань, шартрез.
– Я не пью.
– Капельку-то можно? Или опасаетесь, что Владимир Карлович заподозрит неладное?
– У меня ограничено время, так что я, пожалуй, пойду.
– Одна минуточка, Елена Казимировна, одна минуточка. Тут вот какое дело… То, что вы нам берлинские адреса дали, это замечательно и прекрасно. Адреса Дзержинского вы написали верные, но мы их, говоря откровенно, знали и раньше. А вот с Матушевским, Каспшаком и Мацеем Грыбасом – с партийными типографами – как?
– Я их не встречала.
– Надо встретиться.
– Мне пора возвращаться в Берлин.
– Это я понимаю, только постарайтесь перед отъездом отдать мне этих людей.
– То есть как?
– Они преступники, Елена Казимировна. Террористы. Швырнут бомбу – пойдут на виселицу. А ежели мы их обезопасим сейчас с вашей помощью, они отсидят ссылку и вернутся домой: тех, кто отказался от преступной деятельности, мы не обижаем.
– Вы говорите неправду: социал-демократы отвергают террор.
– А боевые группы-то все ж есть? Есть. До поры до времени отвергают, до поры, Елена Казимировна.
– Даже если это и было бы правдой, я никогда не стану вашей сообщницей в том, чтоб людей прятать за решетку.
– Елена Казимировна, солнце мое, не надо, не след вам так со мной говорить.
– Я могу с вами прервать все отношения и не разговаривать – вовсе.
– Как это?! Прервать? Это теперь нельзя. Мы тех, кто предает, подвергаем суровому наказанию, Елена Казимировна. И бежать вам некуда. Мы ж в Берлине, по тому адресу, который вы дали, одного из ваших товарищей нащупали. Провели, так сказать, до границы и посадили в тюрьму. С литературой. Так что пути вам назад нет. Мы ведь рукастые, если станете двурушничать, расписку вашу покажем товарищам и копию письма с тем адресом, по которому ваш знакомый раньше проживал, а теперь к нам переселился.
– Но это же… Это шантаж!
– Это не шантаж, а оформление сотрудничества. А вот нас шантажировать – одной рукой им писать, а другой – нам, этого я не позволю. И хотите мой добрый совет получить, Елена Казимировна? Вы себе правду скажите, это не успокаиваю я вас, а открываю глаза: то, что вы нам помогаете, – вы и своим друзьям помогаете. Да, да! Какая горячая голова увлечется, мозги себе задурит разными там идеями, а нам потом его под веревку ставь! Ишь герой! У нас у всех тоже сердца-то есть, не каменные, так сказать. Лучше завиральную идею в начале пресечь, чтобы спасти молодую жизнь, чем упустить из виду болезнь. Что-то главные партийцы сюда не очень ездят, под крылышком у Либкнехта сидят!
– Ездят!
– Кто? – подался вперед Шевяков.
Гуровская молчала.
– Ладно, – сказал Шевяков проникновенным голосом, – рано или поздно вы меня поймете. Я не тороплю, нет, не тороплю… Сами убедитесь, что я прав, когда встретите тех, кто из ссылки вернулся. А тех, кого не уберегли, кто под петлю попал, – о тех пожалеете, поплачете, так сказать, горючими слезами. И о Дзержинском стенать будете: с его-то характером до последнего греха – один шаг. А спасти можно, оттого что здесь он сейчас, в Польше. Постарайтесь помочь нам сохранить ему жизнь. Как на духу повторяю – сохранить жизнь.
18Возница был угрюмый, с обвислыми усами, одетый, несмотря на жару, в теплую куртку. Подняв воротник, он смотрел в черную ленту дороги и, угадывая камни, колдобины и лужи, сдерживал коня злым окриком.
Дзержинский спал, уткнувшись затылком в уголок скрипучей повозки. Юлия Гольдман, глядя, как затылок его ударялся то и дело об дерево, осторожно просунула ладонь под голову, и Дзержинский, повернувшись щекой, зачмокал во сне, словно младенец. Тень слабой улыбки пронеслась по его лицу, Юлия почувствовала, как он проснулся, хотела было руку убрать, но Дзержинский чуть прижал щекою ее ладонь.
Он любил ее руки еще с времен их первых встреч в Вильне, когда она привела к нему в кружок своего младшего брата, четырнадцатилетнего Леона.
«Теперь уж „товарищ Либер“, один из руководителей „Бунда“, – подумал Дзержинский. – Помнит ли, что я ему дал псевдоним „Либер“ – „Дорогой“? Он всегда, споря с немецкими и еврейскими товарищами, начинал в отличие от остальных не с „геноссе“, а обязательно – „либер геноссе“, „дорогой товарищ“.
Дзержинский помнил ее руки, когда она пришла в тюрьму, на свидание к нему – никто не пришел, лишь она одна, хотя рисковала многим.
Он не мог тогда прикоснуться к ним – смотрел сквозь две решетки, но ощущал глазами, кожей, всем существом своим, как добры ее быстрые, мягкие пальцы, как волнуются они, бегая по сетке, словно по клавишам, когда Юлия играла Шопена.
Сейчас он ощущал ее ладонь, и было сладостно ему, и он не хотел открывать глаза, ибо этика их отношений потребовала бы от него иной – чуть суховатой, подчеркнуто товарищеской – манеры общения с Юлией, а он не хотел этого и не знал, как можно вести себя иначе: с девятнадцати лет по тюрьмам, этапам, ссылкам, нелегальным явкам – когда учиться иному, нежному, когда?
– У вас такое усталое лицо, госпо…
– Ди… – медленно добавил Дзержинский.
– Что?
– «Господи». Договаривайте, если начали. Скоро приедем?
– Через полчаса.
– Можно еще подремать?
– Конечно. Я разбужу. Спите.
– Вам не тяжело?
– Нет, вовсе нет.
– У вас линия жизни долгая, я раньше никогда ее так близко не ощущал.
– О, да…
– И характер покладистый.
– Папа говорил, что у меня мамин характер, – улыбнулась Юлия.
– У мамы был хороший характер?
– Нет. Ужасный. Я ее очень люблю, но характер ужасный. Чудесный человек – добрый, нежный, умный…
– Так не бывает.
Юлия молча покачала головой.
– Надо спорить, если не согласны, – сказал Дзержинский, не открывая глаз.
– Вы как филин.
– Я не филин. Я по вашей руке догадался – линии чувствую.
– Спите.
– Хорошо.
– Леон давно не писал?
– Давно.
– Как он себя чувствует?
– Работы много.
– У кого ее сейчас мало?
Юлия тихонько кашлянула, быстро потянулась к сумке, почувствовав, что начинается приступ. Одной рукой сумку было открыть трудно, и она, чтобы не тревожить Дзержинского, сдерживала кашель сколько могла, а потом задохнулась хрипом, и Дзержинский встрепенулся, открыл глаза и увидел ее изменившееся, побелевшее лицо.
Когда приступ кончился, Юлия сказала:
– Простите…
Смутившись своего хриплого, вроде бы испитого голоса, она заставила себя улыбнуться, оправдывающе произнесла:
– Это иногда со мной бывает.
– Чахотка, – сказал тихо Дзержинский. – Давно?
– О, нет, что вы! Это не чахотка. Простуда.
– Так. Туда поедешь ты. Я остаюсь, Юля.
– Феликс, ты же обязан подчиняться дисциплине, – Юлия снова осторожно откашлялась, сохраняя при этом улыбку, и было на это до того больно смотреть, что Дзержинский отвернулся.
Юлия тронула его руку:
– Мне очень неловко перед тобой. Прости, пожалуйста, Феликс.
Возница остановил коней и пробурчал:
– Эй… Приехали.
Юлия тороплиго сказала:
– Здесь надо быстро, Феликс. До встречи.
Дзержинский, по-прежнему не глядя на нее, пожал ее руку, потом взял ту, которой она держала его голову, поцеловал ладонь и молча вылез из повозки.
В корчме Казимежа Новаковского было, как всегда, шумно, пьяно, смешливо – какие только люди не собирались в этом маленьком, приграничном с Пруссией польском местечке! Контрабандисты, спекулянты, коммивояжеры, шившиеся вокруг международных поездов, пьянчужки; охотники – в камышах садилось много уток и гусей, по полям можно было топтать зайца и фазана; торговцы лесом и рыбой, богатые крестьяне, знавшие разницу цен на кружева, чай и ситец в Пруссии и Королевстве Польском, жившем по разлаписто-неуправляемым, туго поворотливым законам Российской империи; жандармы из корпуса, отвечавшие за пограничную стражу, картежники с каменными лицами и с воротничками из жесткого, сероватого целлулоида.
Дзержинский знал, что в одиннадцать часов, когда шум, по словам Винценты, будет отчаянный, когда каждый станет принадлежать только своему столу и своей компании, когда все окутается табачным дымом и хозяин, Казимеж Новаковский, выпьет которую по счету рюмку воды, изображая, что это водка, в корчму войдет маленький, чернобородый Адам, остановится возле пана Казимежа и громко спросит:
– Фазанов мне Владислав не оставлял?
Это был пароль.
Потом Адам должен сесть к вешалке, взяв у пана Казимежа большую кружку с черным пивом, и сделать два глотка. После этого Дзержинский мог подойти к нему и сказать:
– Если у вас будут фазаны, я бы с радостью купил их для моего друга Юровского.
Эта партийная фамилия Матушевского была отзывом: Адам помогал переправлять нелегальную литературу, когда жандармы начинали особенно усиленно шуровать пассажиров на границе.
(– У них есть провокатор, – провожая Дзержинского, сказал Матушевский. – Они слишком хорошо чуют запах наших книжек.
– И заграничная агентура, – добавил Дзержинский. – Мы, к сожалению, обращаем на нее мало внимания, а она в Берлине имеет большие связи – товарищи в Александровской тюрьме говорили мне…)
Пробило одиннадцать часов; Адама все еще не было, хотя дым щипал глаза, и Дзержинский с трудом сдерживал подступавший к горлу кашель, опасаясь больше всего, что снова, как там, на островке, в Сибири, ощутит тепло крови и не сможет скрыть ее, а здесь кровь сразу заметят, а откуда чахоточный – это яснее ясного для всех собравшихся: тут каждый второй служит на охранку, полицию, корпус жандармов, железнодорожную службу – сколько их, проклятых этих служб, в России-то?!
«Винценты сказал, что Адам помогает нам не столько за деньги, сколько из-за симпатии, – продолжал думать Дзержинский. – Контрабандист и симпатия к социалистам? Впрочем, вполне возможно: не ради ж интереса он жизнью рискует, таская через реку шерсть, зеркала и шевиот. Дали б человеку возможность кормить семью на честный труд – разве б пошел на преступление закона? Человека всегда подводят к грани; жизненные обстоятельства принуждают его преступить черту – этот Рубикон, обычный, маленький, житейский – пострашнее Рубикона Цезаря. Там – честолюбивое желание властвовать, здесь – старание прокормить семью. Наказывают проигравших и там и здесь одинаково, а какова разница в истоке преступления черты? »
Адам пришел в одиннадцать двадцать три.
В одиннадцать пятьдесят они пересекли запретную зону.
В одиннадцать пятьдесят семь тропку, по которой они шли, перегородили четверо: в руках поблескивали длинно отточенные ножи.
– Деньги, барахло, какое под куртками намотано, кидай к ногам, – сказал тот, что стоял в тени, – маленький, худенький, по голосу подросток. – Шум поднимете – перья пустим в ребра.
– Денег нет, – сказал Адам. – Что ж на своих-то, братья?
– Мы – не твои, – отрезал маленький. – Барин – ты, ты, длинный, выворачивай карманы.
– У меня есть двадцать девять рублей и восемнадцать марок, – ответил Дзержинский.
– Политик, – радостно сказал кто-то из бандитов. – Идейный, «граф», просто самый настоящий идейный. Нам за него отвалят, «граф», отвалят!
– Сними шляпу, – приказал маленький Дзержинскому.
Тот шляпу снял, прищурился яростно: попасться так глупо!
– Повернись к луне, – так же бесстрастно приказывал маленький, которого называли «графом». – Я хочу посмотреть на тебя.
Дзержинский повернулся к луне, сказав:
– И на этом кончим комедию, ладно?
– Ты в мае в Александровке красный флаг поднимал? – спросил «граф».
– Это тебя бил Лятоскович? – изумился Дзержинский.
– Ты поднимал флаг? – снова спросил «граф».
– Я!
– Пустите их, – сказал «граф», Анджей, брат Боженки. – Иди, Дзержинский. Воры помнят добро. Иди.
– Сколько тебе лет?
– Мне тысяча девятьсот два года от рождества Христова, – ответил «граф» и скрылся в камышах. Следом за ним исчезли остальные – без споров или вопросов. Шум слышался мгновение, потом стихло все, будто случившееся только что было миражем, вымыслом, дурным сном.








