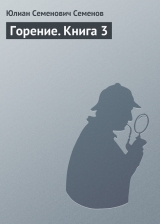
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 40 страниц)
«Осведомительная служба» Гартинга была поставлена четко: как только в сферу ее внимания попадал человек, вхожий в круги революционной эмиграции, оказавшийся при этом в тяжелом положении, – неважно каком, моральном или финансовом, – срабатывала сигнальная система, и на «объект» интереса заводился формулярчик наблюдения. Сначала – проверка. (Однажды Гартинг месяц держал филеров на слежке, подвел к подозрительному человеку агентуру, те в поте лица, бедолаги, прощупывали его через эсеров и эсдеков, а оказалось, что работают с секретным сотрудником Московского охранного отделения, направленным на внедрение к боевикам, – бюрократическую машину где-то заело, не сообщили из Санкт-Петербурга вовремя, что свой едет.) После проверки, проводимой Гартингом дотошливо, шло письмо в Департамент полиции; иногда, впрочем, Аркадий Михайлович «разыгрывал покер» – письма в департамент с просьбой на санкцию не отправлял, а вербовал сам, если человек, уловленный «штучниками», был особо интересен для него с точки зрения личной перспективы.
Таким-то человеком – безденежным и мятущимся – и показался ему Мечислав Адольфович Лежинский, рабочий-каменщик, ныне «вольный слушатель» историко-филологического факультета, вращавшийся в кругах, близких к Люксембург. По сведениям агентуры, Лежинский был связан с Дзержинским, когда тот приезжал в Берлин к «Розе» из Королевства, Швейцарии или Австро-Венгрии, и дважды ездил к тому в Краков.
Лежинский был особенно интересен Гартингу еще потому, что Краков, как, собственно, и вся Галиция, «входил» в сферу работы его конкурента и давнего приятеля, заведующего заграничной балканской агентурою, статского советника Пустошкина Андрея Максимовича.
«Служба – службой, а табачок врозь» – эту присказку Гартинг часто повторял своим чиновникам: каждому, естественно, в отдельности, давая понять этим, что информация, вырванная «из клюва» коллеги по работе, ценна вдвойне, ибо свидетельствует о силе, сноровистости и смелости жандарма.
«Дружба – дружбой, а табачок врозь»: пусть статский советник Пустошкин Андрей Максимович не обессудит, коли он, Гартинг Аркадий Михайлович, станет получать краковские данные от Лежинского, прямехонько через «товарища Юзефа», тут уж, что называется, «кто смел, тот и съел». Он, Гартинг, возражать не станет, если и Пустошкин исхитрится сыскать в Берлине ту агентуру, которая сможет «освещать» для него Балканы. Только не сможет он такую агентуру отыскать, потому как тихую жизнь любит, риска чурается, лень-матушка вперед него родилась.
Познакомившись с Лежинским, побеседовав с ним за чашкой кофе, Гартинг, который представился приват-доцентом, встречей остался доволен, ссудил молодого человека, оказавшегося действительно в тяжком финансовом положении, двадцатью пятью рублями и следующую встречу предложил провести дома – то есть на одной из четырех своих конспиративных квартир.
Лежинский согласился.
Угостив бывшего каменщика сигарой, Гартинг сказал прямо:
– Помимо научных занятий, коим я предан в первую голову, Мечислав Адольфович, мне приходится выполнять ряд заданий, связанных с практикой дипломатической разведки. Не согласились бы помогать мне?
– Не понимаю! – у Лежинского глаза на лоб полезли. – С какой разведкой? О чем вы?
– О том самом. Разведка – моя страсть, а наука, кантовская философия, скорей ее психологическая суть, приложимая к вопросам техники, – работа. «Все смешалось в бедной голове моей», – улыбнулся Гартинг. – Сто рублей в месяц я могу вам платить. Данные, которые меня интересуют, относятся к сфере ваших занятий: социал-демократия Польши, интерес, который проявляет к ней венский кабинет, с одной стороны, и двор кайзера – с другой.
Работал Гартинг виртуозно: он рисовал картину, захватывавшую дух, ставил задачу широкую, политическую, которая сразу-то и не ранит человека, защищает его от того, чтобы внутри себя близко увидеть страшное слово «предательство». Пусть человек сначала посчитает себя политиком, пусть. Важно, чтоб первые данные от него легли в сейф. Потом – просто, как по нотам: «Коготок увяз – всей птичке пропасть». И рифмы бы вроде нет, корявая рифма, а сколько смысла в народной мудрости сокрыто?!
– А почему вы, собственно, решились внести мне такое предложение?
– спросил Лежинский. – Я ведь откажусь, Аркадий Михайлович.
– Нет. – Гартинг покачал головой. – Не откажетесь. Смысла нет. Я ж не в провокаторы вас зову, не к унизительному осведомительству. Я зову вас в дипломатию, без которой нельзя стать политиком. А вы – политик, прирожденный политик. Я прочитал стенографический отчет вашей речи во время реферата Каутского. Прекрасно! На вас кое-кто шикал. Еще лучше! С каких углов? Кто? Какие интересы стоят за этими шикунами?
– Ваши, – заметил Лежинский, – чьи ж еще…
– Отнюдь. Вы неправы, Мечислав Адольфович, сугубо неправы. «Ваши»
– это понятие собирательное, то есть расчленяемое. Думаете, я не рассуждаю о будущем? Ого! Еще как рассуждаю! Считаете, что мое рассуждение идет в понтан с петербургскими рассуждениями? Ни в коем случае. Естественно, в столице есть люди, которые думают, как я, – иначе б не сидеть мне здесь. Но их пока мало. Растут еще только те, с которыми моим детям и вам – я-то свое пожил – предстоит принять бремя ответственности за судьбу России. Поверьте слову, помочь прогрессу в стране может эволюция – все иное обречено на варварство и отсталость. Лучше помогать, состоя в наших рядах, чем дразнить медведя, как это делают большевисты, эсеры, ваши друзья польские эсдеки. Да, да, именно так: медведь терпит-терпит, а потом как поднимется на задние лапы, как шварканет когтями по мордасам – костей не соберете! Я приглашаю вас, социал-демократа, в наши ряды, и я знаю, на что иду: семя неистребимо, и линию вы будете гнуть свою – а она у вас, при всех шараханьях – разумная, справедливая. То-то и оно. Кто больше рискует – не знаю, но позволю высказать предположение, что больше рискую я.
– Вы, случаем, не тайный эсер? – поинтересовался Лежинский.
– Нет. В них слишком много открытого блеска, бравады, риска. А я чту риск выверенный, оправданный. Нет, скорее меня можно причислить к либералам: я думаю о России как патриот, состоящий в рядах тех, кто готов принять на себя бремя. Да и вы готовы – по глазам вижу.
Рукопожатием-то они обменялись, но что-то такое мелькнуло в глазах Лежинского, что подвигло Аркадия Михайловича сделать запрос в Варшавское охранное отделение.
И запрос этот попал к Шевякову. Как и все чины Департамента полиции, Шевяков к «берлинскому деятелю» относился с глухим недоброжелательством, в подоплеке которого было извечное человеческое чувство – зависть: «Везет латышу проклятому, триста рублей каждый месяц и жилье за казенный счет». (О том, что Гартинг из евреев, знали лишь Рачковский и Плеве – от остальных, особенно от особ царской фамилии, этот досадный факт тщательно скрывали: неловко могло получиться, если б император узнал, что охранял его в Пруссии жид порхатый, хоть и принявший православие.)
Шевяков самолично собрал все материалы, какие были на Лежинского, и увидел, что человек этот – недюжинный, умный, отменно храбрый, облеченный доверием партии. Знаком он был со всем руководством, знала его, естественно, и Гуровская.
Агент Шевякова был отправлен в Берлин, повстречался с Еленой Казимировной и привез в Варшаву подробный доклад, из коего следовало, что Лежинского, который лишь в последние недели начал шататься по пивным заведениям, денно и нощно «пасут» люди Гартинга, а тот зазря ничего не делает – всегда в свою выгоду.
Своей быстрой и хитрованской догадки о молодом польском эсдеке Шевяков решил Гартингу не отдавать. Заглянув вечером к Глазову, сказал:
– Глеб Витальевич, вы мне Ноттена приготовьте. Я хочу забрать его у вас на время.
– Для какой цели?
– Я верну его, Глеб Витальевич, истый крест, верну.
– Я должен знать, для какой цели вы берете моего сотрудника, Владимир Иванович. Это мое право.
– О правах-то не надо бы. Пока я ваш начальник, меру прав определять дано мне. А вам следует выполнять указания и в споры, так сказать, не вступать.
– Нехорошо выходит, Владимир Иванович. Дело мы начинали сообща, а сейчас вы все к себе да с собой.
– Звезд вам на погонах мало? Подполковником из моих рук стали! Крестов на груди сколько! Побойтесь бога!
Глазов ударил его яростным взглядом, однако сказать – ничего не сказал, смолчал.
Шевяков удовлетворенно крякнул; не сдержал в голосе ликования:
– Вот так-то лучше… Готовьте его мне к концу недели.
С этим и вышел; удовлетворенно потер ладошки, ощутив сухость кожи и силу пальцев.
Когда отпирал свой кабинет, шальная, страшная мысль пришла ему на ум (это с ним часто бывало, он порой самого себя боялся): вот было б дело, научись доктор отделять голову от туловища! Тогда б глазовская голова была движимой собственностью: запер себе в сейф, водичкой попоил – и вся недолга! Назавтра пришел, голову вытащил, поспрошал совета, побеседовал без страха, игры и оглядки. А коли голова задурит, беседовать откажется, идеи станет прижимать – можно пригрозить: «Воды не дам, страдать станешь!»
(Больше всего Шевяков боялся жажды, пил помногу, долго; острый кадык грецким орехом катался по шее – Глазов даже жмурился, чтоб не видеть этого – противно, как в анатомическом театре.) «Доверительно. Его Высокопревосходительству Трепову Дмитрию Федоровичу, Свиты Его Величества генерал-майору. Милостивый государь Дмитрий Федорович! г Пользуясь надежной оказией председателя местного „Союза Михаила Архангела“ г-на Егора Храмова, имею честь отправить Вам это письмо, в котором хочу изложить вкратце то, что уже сделано мною. Я склонил к сотрудничеству особу, близкую к польской и литовской социал-демократии, выделил ей средства на организацию подпольной типографии и, таким образом, получил тот „манок“, который привлек значительное количество с. -демократов, ищущих опорный пункт, вокруг коего можно было бы сгруппироваться. Разница между идеями Зубатова, вовремя пресеченными, и тем, что я сейчас ввожу в жизнь, сводится к следующему: во-первых, люди, возглавлявшие движение Зубатова, насколько мне известно, считали себя самостоятельными в поступках и ограничены были лишь общими рамками закона, в то время как мой сотрудник, отвечающий за дело, ежемесячно освещает в подробных рапортах всю работу, выявляет связи, склады литературы и людей, распространяющих прокламации; во-вторых, Зубатов дерзал обращаться к массе фабричных, в то время, как я совершенно отсекаю рабочий элемент,
– наиболее опасный, упрямый и озлобленный, – сосредоточивая работу на интеллигенции, которая является переносчиком социалистической агитации, облекая ее в форму, доступную широким кругам населения, и, в-третьих, я подхожу сейчас к тому, чтобы внести разлад в среду либеральной интеллигенции, обратив их честолюбивые амбиции на борьбу друг с другом, но не с Престолом. Не могу не высказать при этом опасения, что некоторые господа (особенно директор Департамента полиции А. А. Лопухин), узнав о проводимой мною работе, могут воспротивиться весьма решительно, указуя на то, что мы «провоцируем» развитие смуты, предоставляя в ее распоряжение типографию, бумагу, людей для распространения печатных изданий, а также привлекая тех, кто занимается написанием возмутительных сочинений. Могу ли я заручиться Вашим высоким согласием на то, чтобы проводимую работу держать в совершенном секрете, хотя бы до той поры, пока не будут собраны первые результаты, подтверждающие правоту такого рода замысла? Я опасаюсь, что ежели заранее сказать о том, что типография – наша; люди, стоящие во главе ее, – сотрудники отделения охраны, то сразу же возникнет ситуация, которая может нанести непоправимый ущерб секретности, а это, в свою очередь, может дойти до социалистов, и тогда все мероприятие будет загублено в зародыше. Мне кажется, что социал-демократия сейчас ищет новые пути борьбы с Охраной, страшась проникновения в свои ряды наших сотрудников. Некоторые чрезмерно доверчивые, хоть и весьма многоопытные чиновники, которые отдали годы жизни работе в заграничной агентуре и поэтому отстранились от наших условий, сейчас могут оказаться «на крючке» у революционеров, кои, как мне сдается, намерены предпринимать «встречные операции» по внедрению в Охрану своих особо доверенных лиц. При этом осмелюсь обратиться к Вам еще с одною просьбою: рептильный фонд, выделенный на работу с секретными сотрудниками Охраны, а также с официальной прессою, никак не может позволить мне выдавать нужным людям для важных мероприятий необходимые ссуды. Поэтому, коли Ваше Высокопревосходительство сочтет разумным продолжать начатую мною работу, покорнейше просил бы переговорить с известными Вам лицами о выделении дополнительных средств. Заранее благодарный. Вашего Высокопревосходительства покорнейший слуга полковник Е. В. Отдельного корпуса жандармов В. Шевяков».
(Поскольку документ этот Шевяков составлял три дня, ибо приходилось переписывать по нескольку раз – с грамотой у Владимира Ивановича было не ахти как, а помощникам такое не доверишь, самому надобно, – Глазов с черновичком познакомился, случайно познакомился, но выводы сделал не случайные: Шевяков идет в гору, если нашел через председателя «Союза Михаила Архангела» Егора Саввича Храмова ход к самому Трепову, петербургскому хозяину, который к Государю в любое время суток может явиться без положенной по протоколу предварительной записи.)
… Финансовый инспектор краковского муниципалитета на этот раз поглядел на пана Норовского спокойно, с улыбкой, понимая, что сейчас старик станет просить его, взывать к сердцу, обещать, унижать себя, а это для маленького человечка сладко, оттого как на этом-то именно он начинает ощущать свою нужность и значимость.
– Хорошо, что пришли без напоминания, – сказал чиновник, – а то бы завтра мы отправили к вам команду – ломать стены.
Указание было ему передано уже неделю назад, об этом позаботился лейтенант Зирах, державший дело Доманского под постоянным контролем: сумму в полторы тысячи марок, которую старик должен был уплатить, именно он назвал, зная, что такие деньги революционерам долго надо собирать, да и то вряд ли все целиком найдут.
Норовский садиться на указанный ему стул не стал, вытащил из кармана бумажник и молча отсчитал полторы тысячи.
– Вот, пожалуйста, – сказал он, с трудом сдерживая торжество, – здесь та сумма, о которой вы говорили.
Чиновник почувствовал себя маленьким-маленьким, растерялся, но деньги начал пересчитывать, почтительно прикасаясь быстрыми пальцами к большим, хрустящим купюрам (спасибо Кириллу Прокопьевичу Николаеву – дал новенькими, престижными).
– Владимир Карлович, – сказал Глазов, встретившись с Ноттеном на конспиративной квартире, которую снимал на окраине Варшавы, в большом барском доме, ныне запущенном, кроме тех комнат, которые оборудовал под свое бюро, – я к вам с идеей, потому и решил вытащить вас в свою берлогу, подальше от чужих глаз…
Ноттен смотрел на Глазова со странным чувством, в котором переплелись интерес, недоверие и ожидание: действительно, после того разговора в охране, когда его выпустили, жандармы ни разу не беспокоили, типография Гуровской чудом работала, а сам он – особенно в кругах молодежи – стал широко известен благодаря тем рассказам, которые публиковал по-польски, без цензорского, маленького, ко всемогущественного штампика.
– Чай будем пить? – предложил Глазов. – Или позволим себе по рюмке джина? У меня отменный джин есть.
– Давайте джина.
– Англичане его разбавляют лимонным соком и льдом. Увы, ни того, ни другого у меня нет – скифы, вдали от комфорта выросли, ничего не поделаешь.
– Если бы только этим ограничивались наши заботы – беда невелика, можно перетерпеть.
– Ваше здоровье!
– И вы не болейте, – аккуратно пошутил Ноттен.
Глазов задышал лимончиком, обваляв его в сахарной пудре, легко поднялся, сразу поймешь – из кавалеристов; пружинисто походил по комнате, потер сильными холеными пальцами лицо, остановился напротив Ноттена и спросил:
– Владимир Карлович, вопрос я вам ставлю умозрительный и совершенно не обязывающий вас к ответу: бремя славы – сладко?
– Какую славу вы имеете в виду?
– Слава – категория однозначная. Ежели хотите конкретики – извольте: ваша.
– Во-первых, я ее не очень-то и ощущаю, а во-вторых, слава – мнение мое умозрительно – должна налагать громадную меру ответственности на человека. Иначе он мотыльком пропорхнет по первым успехам и следа по себе не оставит. Какая же слава, если бесследно?
– Ответ евангельский, Владимир Карлович. Я так высоко не глядел. Разумно, в общем-то: единственно, что дарует человецем бессмертие – это память, как ни крути.
– И я об том же…
– Ну и отменно, что поняли друг друга. Но я бы хотел от памяти возвратиться к ответственности. Вы великолепно сказали: слава – это мера ответственности.
Глазов присел напротив Ноттена, разлил еще по одной, посмотрел рюмку с джином на свет и вдруг спросил:
– Предательство – что за категория? Однозначная или можно варьировать?
– Варьировать нельзя.
– А Гоголь? Он ведь варьировал с Андрием, сыном Тараса…
– Я знаю свой потолок: что позволено Юпитеру, то не позволено быку.
– Если бы я открыл вам имя человека, близкого к головке, к руководству польских социал-демократов, который в то же самое время работает на Шевякова, – как бы вы к этому отнеслись?
– Разоблачил бы.
– Каким образом?
– Пока еще вы не арестовали типографию, где я работаю… Выпущу листовку…
– Понятно, – задумчиво произнес Глазов и джин свой выпил. – А что, если я назову вам такое имя, которое опрокинет вас, поразит и сомнет?
Ноттен приблизился к Глазову, близоруко заглядывая ему в глаза:
– Кого вы имеете в виду?
– Сначала вы должны дать честное слово, что не станете ничего предпринимать, не посоветовавшись со мною предварительно.
– Дал.
– Хорошо. Допустим, я скажу вам, что Елена Казимировна работает с Шевяковым. Допустим, повторяю я. Как бы вы отнеслись к такого рода известию?
Ноттен отодвинул рюмку:
– Сослагательность в таком вопросе невозможна.
– Ну, хорошо, я говорю вам, что Гуровская – агент Шевякова.
– Ее я не стану разоблачать, – после долгого молчания ответил Ноттен.
– Я понимаю. Вы многим ей обязаны, вы ей обязаны всем, говоря точнее…
– Ее я пристрелю, если она агент Шевякова, – сказал Ноттен.
– Вы с ума сошли, – Глазов вздохнул. – Вы сошли с ума. Агент может быть предателем вольным, а может – невольным, Владимир Карлович. Слава, приложимая к литератору, требует милосердия от него – об этом вы не помянули. А – зря. Вы Шевякова знаете, а уж Елену Казимировну – тем более. Совместимо?
– Что именно?
– Елена Казимировна и Шевяков.
– Налейте еще.
– Я налью, а вы лимоном закусывайте; это – трезвит.
– Как же Шевяков мне ненавистен, морда его, глазенки маленькие, лбишко. Отсюда уберут – в другом месте вынырнет: эдакие на вашей службе необходимы, он ценен для вашей профессии.
– Это неверно, – возразил Глазов. – Он мешает нашей профессии, потому что хоть и хитер, но глуп, кругозора нет, будущего себе представить не может, о детях своих не болеет сердцем: каково будет им, когда он уйдет вместе с той институцией, которую столь ревностно и так глупо охраняет?
– Вы-то вместе с ним охраняете…
– Охраняю, Владимир Карлович, милый, я тоже охраняю, но ведь каждый охраняет свое! Он – свое, я – наше! Под властью мужика вы тоже жить не сможете, дорогой мой человек! Это вы сейчас так злобны на трон, потому что он окружен недоразвитыми, маленькими людишками, а если б на троне сидел какой-нибудь Эдвард?! Или Густав?! Все ведь дело не в форме, а в сути! Кто правит страной: дурак, вроде Шевякова, который над Вербицкой плачет, потому что Щедрина не читал, или просвещенный интеллигент, воспитанный в Европе?! Вот в чем секрет, Владимир Карлович! Со мной-то вы беседуете, как с равным, как с союзником, а с Шевяковым не стали бы! И правильно б сделали, что не стали! Лучше уж с корягой беседовать, с пнем в лесу, чем с ним. Думаете, у меня все внутри не холодеет, когда я его вижу?! А ведь он сейчас – после того, как Гуровская отдала, – это термин у нас такой есть «отдавать», проваливать, значит, – типографию Грыбаса, склад нелегальной литературы, восемь кружков и адреса Дзержинского, когда он сюда приезжает, – стал звездою! Он полковник теперь, понятно вам?! А потом уйдет в Санкт-Петербург, в департамент, и будет оттуда пользоваться вами, Еленой Казимировной и, если хотите, мной, чтобы делать себе карьеру на нашем уме!
– Я ее убью, – повторил Ноттен уверенно, и снова быстро выпил.
– Погодите. Рассуждайте вместе со мной: я вам достаточно раскрылся. Вы с Ледером вошли в контакт?
– Да.
– Он к вам обращался с просьбами?
– Нет.
– Это неправда.
– Вы следите за мной?
– Конечно.
– Зачем же тогда спрашиваете?
– Потому что у нас, кроме Елены Казимировны, хорошей агентуры нет, а она, кстати, Ледера одной рукой Шевякову отдает, а второй – снимает ему квартиру на шевяковские же деньги… Да, да, она получает у него семьдесят пять рублей ежемесячно, и на расходы по поездкам тоже.
– Господи, какой ужас…
– Давайте-ка мы без эмоций поговорим, Владимир Карлович, а то вы будто присяжный поверенный какой. Успокойтесь и возьмите себя в руки. Что говорил вам тогда, в первый раз Винценты Матушевский, когда вы назвали ему мою фамилию?
– Ничего. Это правда. Ничего. Он сказал мне продолжать работать, слушал очень внимательно.
– А другой раз?
– Другой раз я с трудом нашел его…
– Через кого?
– На это я вам не отвечу.
– Но не через Елену Казимировну?
– Нет.
– Вы открыли ему, что работаете у Гуровской?
– Нет.
– Почему?
– Не знаю. Я хочу сам отвечать за свои поступки: перед собою ли, перед ним, перед вами – сам, один.
– Вы у него встречались?
– Нет.
– Адрес его знаете?
– Нет.
– Он вам не сказал, где его искать?
– Нет. Он сказал, что найдет меня, когда я ему понадоблюсь,
– Никаких просьб?
– Никаких.
– Вы говорите правду?
– Да.
– Ничего не утаиваете?
– Вы такие вопросы не ставьте, не надо, они – бестактны.
– Я ставлю эти вопросы в ваших же интересах. Коли вы Матушевского встречали, а сейчас имеете дело с его единомышленниками, вас все равно обнаружат. Тогда я не смогу помочь вам – я не всемогущий. Вас посчитают двойником, а меня – доверчивым дурнем. Я могу помогать вам и оберегать только в том случае, если верю вам и убежден, что вы не таитесь. Поэтому спрашиваю еще раз.
– Я даю вам слово, – сказал Ноттен. – Я не вижусь с ним. Я очень хочу видаться и с ним, но они меня обходят. Я жду, понимаете? Все время жду…
– Они вам не верят, – убежденно сказал Глазов и придвинулся еще ближе к Ноттену. – Они не верят вам.
– Что нужно сделать, чтобы поверили?
– Для этого вы должны казнить Шевякова, – тихо сказал Глазов и откинулся на спинку дивана. – Понимаете? Казнить.
– Как?
– Это – вопрос техники, это надо думать – как. Важно принять решение, Владимир Карлович.
– Решение принято.
– Не торопитесь, не торопитесь. Семь раз мерь, один раз режь. С Еленой Казимировной станете говорить? Послушайте меня: она человек отнюдь не потерянный для порядочного общества. Она – несчастный человек, запутавшийся, и к Шевякову пришла для того, чтоб вам помочь…
– Мне?!
– Кому ж еще-то? Конечно, вам. Вы ее, кстати, по-прежнему любите, Владимир Карлович? А? Только правду себе отвечайте. Вы ж теперь, когда Елены Казимировны нет в Варшаве, у Гали Ричестер, у танцовщицы ночуете. Или – так, суета, тянет на стройные ножки?
– Господи, в какой я себя грязи чувствую, – беспомощно сказал Ноттен, – вы что, за каждым моим шагом глядели?
– А вы как думали? – раздраженно ответил Глазов. – Если подставляетесь – смотрим. Чтоб не смотрели, надо было затаиться, как рыба на грунте, а вы резвитесь, вас видно кругом. И видно великолепнейшим образом, что Елена Казимировна вас тяготит. Не надо, не надо, не лгите себе…
– Налейте.
– Пиявки пробовали ставить на шею? Вон как лицо у вас играет: то белое, то багровое. Словом, подведете Елену Казимировну к нужному выводу. Это еще думать надо – как. Выход у вас обоих один – убрать Шевякова. Она к нему ездит на такую же квартиру: Сенаторска, 3, второй этаж. Он там один ее принимает. Уйти Елене Казимировне можно спокойно: вы подождете в пролетке и отвезете на вокзал. Это – легко. Трудно срепетировать, как вы ее подведете к делу. Этим займемся завтра, она ж через неделю приедет, в Берлине она сейчас. Еще налить позволите?
– Да.
– Без моего сигнала ничего не делайте, уговорились?
– Да.
– Попробуйте когда-нибудь, идучи по пустому гостиничному коридору, желательно ночью, подбросить над головой апельсин. Можно, впрочем, и яблоко. Вы сделаете три шага, и поймаете апельсин, а ведь по всем законам он был обязан упасть у вас за спиной… Мы все связаны, Владимир Карлович, мы все связаны незримыми, таинственными узами, которые, в силу невидимости их, нерасторжимы вовек.








