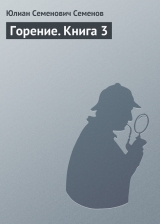
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 40 страниц)
Дзержинский оторвался от письма, спросил удивленно:
– Ты любишь кататься на велосипеде, Юленька?
– Я мечтаю. Любят, если умеют.
– Я подарю тебе велосипед. Я соберу денег в долг и куплю двухколесик. Я быстро научу тебя кататься. Надо держать ученика сзади, за спину одной рукой, а за седло – второй и все время бежать следом, подбадривая, а потом осторожно руки убрать, и ты прекрасно покатишься сама, важно только, чтобы ты верила, что я все время бегу сзади…
– Феликс, – перебила Юлия очень тихо, чуть сжав его руку прозрачными пальцами – больно ей стало слушать про велосипед. – Я все время забываю, как называется та гора…
– Та, что вдали, между двумя пузатыми?
Юлия улыбнулась:
– Да, между пузатыми.
– «Малышка».
– «Малышка», – повторила Юлия и медленно обвела глазами синие дали, белые вершины гор, желтые, тонкие тропки, проходившие по долинам и расщелинам, высокое небо, в котором перились легкие, пуховые облака.
– Я принесу еще один плед, Юля, у тебя руки заледенели.
– Нет, спасибо. Мне вовсе не холодно. А может быть, холодно, я не знаю, но я не боюсь холода, я очень боюсь жары, Феликс, я проклинаю себя за то, что встретилась с тобою.
– А я за это судьбе благодарен.
– Нет, Феликс, это неправда. Я уйду, и ты будешь один, а кто тогда станет кормить тебя? Заставлять спать? Переписывать твои статьи? Кто будет понимать тебя, когда ты молчишь, сердишься, уходишь в горы, исчезаешь на месяцы? Знаешь, я всегда не любила женщин. Я с мальчишками дружила, они – добрее. Если друг – так друг, никогда за спиной не шепчется. Я не боюсь уйти, я готова к этому, я за тебя боюсь
– в этом мире…
– Юленька, ты…
– Не надо, Феликс. Мы же с тобой уговаривались: всегда и обо всем честно. Я не боюсь, потому что верю в бессмертие. Это не поповство, родной. Человек бессмертен оттого, что призван к рожденью. Умирающая листва на деревьях бессмертна: ведь она весной отдала земле семена, из которых будет жизнь. Я осталась в жизни друзей, потому что память – это жизнь, и я не умру, пока живы все вы и сохраняете в себе звук моего голоса, цвет глаз, мои слова. Но мне так хочется быть подле тебя, Феликс, так хочется охранять твой покой, которого нет, но когда-то же будет?!
– Юленька…
– Да, родной…
– Хочешь, поиграем в мою игру?
Она улыбнулась: Дзержинский часто по вечерам «продлевал жизнь» – он вспоминал до мельчайших, самых малых малостей прожитый день, анализировал его, исследовал, где была допущена ошибка, как и что можно было сделать лучше, и получалось, что за одни сутки он умудрялся прожить два дня, причем первый, реально прожитой день давал пищу для размышлений, анализов, прикидок на будущее.
«Заметь, Юленька, – часто говорил он, – эта детская игра позволяет за одну жизнь прожить целых три, потому вечернее исследование прошедшего дня позволяет подняться на ступеньку выше, и день завтрашний увидит меня иным, улучшенным, что ли, поумневшим. В прожитом всегда сокрыто зерно истинного будущего, надо только уметь рассматривать себя и тех, с кем сводит жизнь, со стороны, без гнева и пристрастия. Анализ – это расширение, это удар по границам привычного, и потом как-то очень приятно ощущать свою власть над временем – я останавливаю не то что мгновенье – день! Власть – мишура, кроме власти над временем, в нем все реализует себя и выявляет».
– Юленька…
– Знаешь, о чем я мечтаю? – спросила женщина тихо.
– Знаю.
– Нет. Не сердись. Я мечтаю, что когда все кончится, ты оденешь мне колечко.
– Когда спадет жара, Юленька, мы спустимся в долину и поедем в Закопане. Я буду приезжать к тебе из Кракова каждую субботу, мы снова станем гулять по горам, и я чаще буду с тобою…
– Не надо давать такого слова, Феликс. Я привыкла, что ты всегда говоришь правду. А она жестока. И это очень хорошо. А мне было бы еще лучше, если бы ты сейчас уехал. Ты сердишься? Хорошо, не уезжай. Просто я не хочу, чтобы ты видел все. Твой Антек Росол, говорят, очень любил красные гвоздики, ему друзья приносили гвоздики, когда навещали в больнице, перед тем, как он… Я расспрашивала – отчего ты его так помнишь… Я тоже очень люблю красные гвоздики. Как мало людям отпущено для счастья, а самое страшное – никто из нас не знает, когда наступит черта. Слава богу, что моя черта – первая. Ох, просто беда, Феликс, с этим проклятым «слава богу». Ты ведь не терпишь, когда его поминают…
– Рассказать тебе, как мы с братьями играли в волшебный клад?
– Не надо. Я плакать стану, Феликс. Как же мне отдать тебе мою любовь, родной? Как страшно уносить с собою любовь – так ее мало на земле и так нужна она тем, кто остается…
– Юленька, послушай меня…
– Я слушаю.
– Когда мне было очень плохо в тюрьме и лекарь сказал, что я не жилец, я заставил себя стать комком, понимаешь? Я сел на койке и собрал всего себя в кулак. Я сказал себе: «Ты нужен другим, поэтому ощути всего себя, свое тело и болезнь в нем, и обрати свой гнев против этой проклятой, маленькой, затаенной болезни и заставь ее испугаться тебя». Понимаешь? И я заставил ее испугаться. Сделай так же, Юленька, ласка ты моя нежная…
– Феликс, – женщина улыбнулась слабо и по-взрослому снисходительно, – но ведь ты – Дзержинский. Таких очень мало на земле. Потому одни тебя очень не любят, а другие так любят, что слов нет как выразить. Ты ведь и сам не понимаешь того, что ты – Дзержинский. А если б понял – я б тебя не полюбила. Женщина любит того, кто себя отдает, – тогда она ощущает свою нужность. Пророк только потому пророк, что заставляет верить в себя, вот его и боятся. Феликс, когда тебе будет очень плохо, пойди в концерт, на Девятую симфонию, ладно?
Бетховенская музыка была огромной, всеохватывающей, но не отделяющей себя от тех, кто ее слушал. Умение отдавать – талант сильных.
На людях плакать невозможно. На людях – это когда приезжают в горы, в санаторий к умирающей Юле его товарищи. А здесь, в концерте, где тысячи, – ты принадлежишь самому себе, и можно плакать – беззвучно, схватившись пальцами за красный бархат кресла; здесь до тебя никому дела нет, потому что все пришли со своим, Бетховен-то каждому отвечает. Сиди и плачь. Тут можно, Дзержинский. Тут надо. Завтра глаза твои должны быть сухими: в твои глаза смотрят и враги и друзья. Ни те, ни другие не имеют права увидеть в твоих глазах слезы. Одним они покажутся слабостью, другим – неверием. К твоим глазам очень присматриваются, потому что ты – Дзержинский.
4– Феликс!
Дзержинский не сразу понял, что это его зовут, – привык к «Юзефу». Феликсом его звала Юлия; только на женский голос он откликался, только этот голос хотел сейчас слышать.
– Феликс!
Дзержинский обернулся: навстречу ему бежал Сладкопевцев, чуть поодаль стоял худенький, похожий на мальчика-воробушка Иван Каляев рядом с поджарым лысым, крупнолицым человеком в тяжелом английском костюме.
– Феликс, здравствуй! Как рад я тебя видеть!
– Здравствуй, Миша, здравствуй!
– Пойдем, я тебя познакомлю с нашими. Откуда ты? Надолго? Что бледный – болен?
– Нет, нет, здоров. А откуда ты? – спросил Дзержинский, стараясь улыбаться, но подумал, что улыбка, видно, вымученная у него, а потому может показаться жалкою.
– Из Парижа, вот собираемся на… – Сладкопевцев внезапно и неловко оборвал себя: – Ты знаком с товарищами?
Каляев шагнул навстречу Дзержинскому:
– Здравствуй, Феликс, сколько лет, сколько зим…
– Здравствуй, Янек, рад тебя видеть.
Савинков поклонился молча, заметив:
– По-моему, мы встречались с вами во время этапа в Вологду и Вятку. . V^vuy . -:
– Борис Викторович?
– Именно.
– Мне лицо ваше знакомо.
– Иван назвал вас: вы – Дзержинский?
Каляев – со своей обычной детской, застенчивой улыбкой – пояснил:
– Борис меня иначе как «Иваном» не величает.
– «Иван» – это категорично, мужицкое это, а в «Янеке» много детского, – заметил Савинков.
– И хорошо, – сказал Дзержинский, – детскость – это чисто.
– В нашем деле не детскость нужна, а твердость, – возразил Савинков.
– Ребенок бывает порой тверже взрослых: те умеют, когда надо, отойти в сторону или изменить слову.
– Это – философия, – поморщился Савинков, – а я не люблю философствовать. Хотите к нам присоединиться? Мы поужинать собрались. Славно посидим.
– Нет, спасибо. У меня дела.
– Пойдем, Феликс, – попросил Сладкопевцев, – вспомним, как через Сибирь бежали, Борис стихи почитает, Янек расскажет что-нибудь, пошли!
Дзержинский представил себе номер в пансионате мадам Газо, маленькое окошко под потолком, чуть не тюремное, смотреть в которое можно, лишь став на тоненький, скрипучий стул, да и то одни черепичные крыши видны; ужасное, чуть не во всю стену зеркало, в котором постоянно, где бы ты ни был в комнатке, краем глаза упираешься в свою спину, лицо, руки – в свое одиночество.
– Пошли, – сказал Дзержинский.
Савинков предложил поужинать в «Бретани».
– Там рыба хорошая, – пояснил он, – под белым соусом. И не только вина можно спросить, но и водки. Оттуда позвоним Ивану Николаевичу и Егору – «Бретань», чтоб посетителей приваживать, добилась себе телефонного аппарата.
В «Бретани» было тихо; посетители в это время сюда не заходили – межсезонье. Заняли стол на восемь человек в отдельном кабинетике, обитом красным плюшем. Савинков усмехнулся:
– У кабатчиков, верно, тайный сговор с хозяевами борделей: с отрыжкой сытости появляется тяга к блуду, а здесь и цвет способствует… Что вы закажете, Дзержинский?
– То же, что вы.
– Тогда спросим рыбы. Пить что хотите?
– Я не пью.
– Вообще?
– Да.
Савинков смешливо почесал кончик утиного носа:
– Это принцип?
– Необходимость.
– Именно?
– Надо иметь постоянно чистую голову.
– Проспитесь – вот и будет чистая.
– Он не пьет, – сказал Сладкопевцев, – это правда, Борис.
Каляев, улыбнувшись, заметил:
– Феликс, но однажды ты выпил. Помнишь?
– В Вильне? – спросил Дзержинский.
– Да. Можно расскажу?
– Конечно.
Каляев закурил черную парижскую сигаретку и сразу же стал похож на испорченного мальчишку – юн, а сигаретка в его детских руках казалась противоестественной всему его облику.
– Феликс был влюблен в гимназистку, – начал Каляев, по-прежнему улыбаясь, – и посылал ей стихи в галошах ксендза, который преподавал в мужской и женской гимназиях. Стихи юная Диана читала, но во взаимности не призналась. Сначала Феликс хотел лишить себя жизни, а потом мы уговорили его выпить вина. И он, поплакав, понял: все, что происходит, всегда к лучшему.
– Стреляться хотели? – осведомился Савинков.
– А как же иначе? Конечно.
– Вы написали хороший рассказ в «Червоном Штандаре», – заметил он.
– Каляев мне перевел. Очень честная штука. Готовите книгу рассказов?
– Я писал не рассказ, – ответил Дзержинский. – Это отчет о побеге.
– Это рассказ, – возразил Савинков. – Все мы, пишущие, кокетничаем скромностью. Официант!
Тот подплыл стремительно, склонив голову по-птичьи набок, почтительно буравя птичьими, круглыми, черными бусинками глаз лицо посетителя.
– Рыбу варите недолго, – сказал Савинков, – пусть внутри останется краснинка. Соус подайте отдельно каждому. Пусть потрут чеснока, передайте на кухню. Спаржу не солите, принесите рыбацкую соль, очень крупную, мы – сами. Проследите за тем, как будут готовить.
«Лучше б он на „ты“ говорил, – подумал Дзержинский, – с „вы“ это еще обиднее».
– Иван, посмотри, наши не идут? – попросил Савинков.
– Так рано еще.
– Посмотри, – повторил Савинков.
Каляев поднялся, пошел к двери – махонький, в чем только жизнь держится.
– У вас как в казарме, – заметил Дзержинский. – Повиновение полное.
Савинков пожал плечами, но видно было, что ему эти обидные слова понравились.
– Мы добровольно приняли команду, Феликс, – сказал Сладкопевцев. – Мы ведь действуем, нам нельзя без железной дисциплины.
– Дисциплина должна быть самовыражением призвания.
– У вас великолепное чувство слова, – заметил Савинков, – обидно, если вы погрязнете в социал-демократических дискуссиях и рефератах. Уж если не к нам, не в наши ряды – то писать.
– В спорах рождается истина, – сказал Сладкопевцев, поняв, что слова Бориса неприятны Дзержинскому. – Они по-своему ищут, пусть.
– Революции нужны подвижники дела, а не спора, – не согласился Савинков. – Женаты?
Дзержинский ответил вопросом:
– А вы?
– Де факто.
– Дети есть?
– Да.
– С вами живут?
– Я их не вижу.
– Пишете новеллы? – продолжал спрашивать Дзержинский – ему надоела манера Савинкова ставить быстрые вопросы и поучать, растягивая слова, сосредоточив при этом свой взгляд на переносье собеседника.
– Он пишет великолепные стихи, – сказал Сладкопевцев. – Почитай, Борис, а?
– После пятой рюмки, – пообещал Савинков.
И в это время вернулся Каляев с Егором Сазоновым и Евно Азефом.
– Иван Николаевич, – представился Азеф, руки не протянув: он устраивал свое огромное, расплывшееся тело в кресле, которое стояло подле Савинкова.
– Василий Сироткин, – назвал себя Сазонов.
Каляев и Сладкопевцев переглянулись.
– Егор, ты что, с ума сошел? – спросил Каляев. – Это же Дзержинский.
– Он прав, – сказал Азеф и, отломив кусок хлеба, начал жадно жевать. – И не надо смотреть на меня с укоризной. Он прав. Василий Сироткин – очень красиво звучит. Вы социал-демократ, Дзержинский?
– А вы?
– Я инженер.
– Член партии?
– Беспартийный, – усмехнулся Азеф.
Дзержинский встал из-за стола, молча поклонился всем и пошел к выходу.
– Зря, – сказал Сладкопевцев, – напрасно ты эдак-то, Иван.
– Нет, не зря! – Азеф жевал чавкающе, быстро, обсыпая крошками свой дорогой костюм. – Ты б еще сказал ему, что завтра едешь в столицу, царя убивать. «Поедем, мол, с нами, в Мариинку зайдем, Павлову посмотрим». Дерьмо вы, а не конспираторы!
Каляев поднялся, хотел что-то сказать Азефу, но сдержался, побежал за Дзержинским.
– Иван, Дзержинский спас меня, – сказал Сладкопевцев. – Когда мы с ним бежали из ссылки, он мне свой паспорт отдал, сам остался без документов…
Азеф пожал плечами.
– Ну и что? – спросил он, по-прежнему жуя хлеб. – Бабьи нежности. Ну спас, а дальше?
Сазонов спросил:
– Это он написал «Побег»?
– Да, – ответил Савинков. – И вот что – товарищ Азеф преподал нам урок. Вину беру на себя: я Дзержинского пригласил. Революция не терпит сентиментальностей. Что касается его замечания о дисциплине: каждый из нас волен отринуть дисциплину боевой организации, каждый волен отойти, но если уж не отходит – тогда слепое подчинение Азефу и мне. Слепое. Каждый знает только то, что ему положено знать, и тех только, кого мы вам станем указывать. Любая самодеятельность, любая личная инициатива каждого из вас, каковы бы заслуги у вас ни были в деле террора, будет караться беспощадно.
… Каляев догнал Дзержинского на улице, взял под руку:
– Пожалуйста, извини, Феликс. У нас предстоит важное дело, поэтому нервы у всех на пределе.
– Это Азеф?
Каляев смешался, полез за сигаретами, остановился – не мог прикурить на ветру. Дзержинский смотрел на его вихор с жалостью и щемящей любовью.
– Я терпеть не могу бар от революции, Янек. Он спокойно отправляет вас на смерть. Балмашев убил Сипягина, ну и что? Легче стало? Кому? Балмашева повесили, Цилю забили в тюрьме, Савву расстреляли на Акатуе. Народу стало легче? Что, Плеве демократичней Сипягина? Еще страшнее. А ваш барин костюм носит, какой на Елисейских полях не каждый буржуй себе купит. Откуда деньги, Янек?
– Ты сошел с ума! В кассу партии приходят пожертвования!
– Но не для того, чтобы Азеф тратился на барские костюмы.
– А как иначе конспирироваться?
– Если он хочет конспирировать по-настоящему, незачем тащить вас в этот ресторан.
– Просто тебя, как и многих, отталкивает его уродство. Ты должен его узнать ближе. Он очень добрый человек, Феликс. Нет, нет, тебя оттолкнуло его уродство.
– Над Квазимодо мы плакали. Это ерунда – про уродство, Янек. Но, бес с ним, с вашим Азефом, разберетесь сами, не моя это печаль. Как мама?
– О, мама очень хорошо, Феликс, и Ядзя тоже. Выросла, вытянулась, как тростиночка на ветру.
– Ты их давно не видел?
– Давно. Нет, недавно, но только я их видел, а они не знали, что я смотрю на них.
– Это страшнее, чем на свидании в тюрьме.
– Да.
– Наверное, лучше бы и не смотреть на них так.
– Все равно это было счастье.
– Горькое счастье. Тебе надо идти, Янек?
– Почему? Ах, да… Конечно… Но меня простят. Как-то неловко все это. Ты поймешь Ивана, и Савинкова поймешь, Феликс, поймешь и простишь. Я с открытыми глазами иду на смерть, я счастлив, понимаешь, когда думаю о смертной минуте. Смерть моя не будет напрасной, я хочу этой смерти, потому что она даст жизнь.
– Янек, Янек, товарищ ты мой хороший… Разве изменение в кабинете министров что-нибудь принесет несчастному народу? Неужели вы верите в то, что придет честный?
– Нет, в это мы не верим. Мы в искры верим, в то, что зажжем людей силою своего примера.
– Зажечь можно тех, кто понимает разницу между тьмой и светом. Надо объяснять людям правду, Янек, терпеливо и постепенно. Вы обращаетесь к темной массе, которая станет проклинать вас, которая предаст полиции первой – почитай Максима Горького, он про это страшно написал. Он ведь пришел в село с добром, грамоте пришел мужиков учить, правду им объяснять, а его же и отлупили…
– Так, значит, прав я! Я, Феликс! Объяснять надо после того, как что-то случилось! Вы хотите объяснить все, вы строите огромную схему, но это же рано, безумно рано! Сначала нужны жертвы, много жертв, я готов эти будущие жертвы с вязанками сухого хвороста сравнить, с безымянными вязанками: пусть нас заберут – только бы вспыхнуло пламя! Иначе этот тоскливый, серый российский ужас не пронять, ничем не пронять, Феликс…
Дзержинский задумчиво повторил:
– «Тоскливый, серый российский ужас». Ты дурно сказал, Янек. Если это так – отчего нас так туда тянет? Отчего каждый из нас готов жизнь отдать – не только за несчастных поляков, но и за русских, грузин, армян. Нельзя обезличивать, ничего нельзя обезличивать, иначе мы сами станем маленькими, обезличенными тварями. Не «темный» и не «серый», Янек. Больной. Больная страна. Но разве врач вправе называть того, кто болен, бредит, кто ужас несет в жару, околесицу, разве вправе он обижать этого несчастного гадким словом? Я верю, что если точно определить зло, поставить диагноз, объяснить, откуда можно и нужно звать избавление от недуга, – болезнь сожрет самое себя: организм, здоровье, разум сильнее хвори, Янек, поверь мне, – сильнее.
(Когда по прошествии многих месяцев Каляев увидел окровавленного Егора Сазонова, которого били городовые и лотошники, а потом с близким ужасом уперся взглядом в дымные куски мяса, словно говядина на базаре ранним утром, когда только-только с боен приезжают, и были эти куски дымного мяса тем, что раньше обнимало понятие министра внутренних дел империи Вячеслава Константиновича фон Плеве, тошнота подступила к горлу и вспомнилось ему лицо Азефа, и костюм, который был обсыпан хлебными крошками, и быстрое чавканье сильного рта.
Каляев тогда сказал себе: «Теперь я не имею права на жизнь». Потом он запрещал себе повторять эти слова; он мучился, считая слова эти проявлением слабости, и поэтому настоял на своей смерти – великого князя Сергея убил он, и был повешен, и когда шел к виселице, заставлял себя видеть множество смеющихся, чистых, открытых, добрых глаз, и только очень боялся увидеть глаза матери.) «В Заграничный комитет СДКПиЛ Мюнхен, 7 июля 1903 г. Дорогой товарищ! Спешим поделиться с вами радостной новостью: Трусевич, Залевский уже за границей; по всей вероятности, он уже в Берлине… Сердечно жмем руку Юзеф». «Можно было предполагать, что социал-демократы, лишившись по ликвидации 14 марта лучших своих представителей – интеллигентов, типографа Грыбаса и руководителей рабочих кружков, – должны будут на более или менее продолжительное время приостановить свою преступную деятельность, между тем действительность не вполне подтвердила это предположение (что объясняется активной деятельностью Главного Правления СДКПиЛ и особенно Ф. Доманского, организующего в партии практическую каждодневную работу). Уже 17 марта столяр Иванцевич (привлечен в социал-демократию Трусевичем) имел свидание на углу Развадовской и Ново-Променадной улиц с возвратившимся из заграницы каменщиком Мечиславом Нежинским, присвоившим себе псевдоним „Владислав Равич“, который поручил ему собрать людей и начать работу, заметив при этом, что до начала работы нужно заняться облегчением участи арестованных и их семейств путем оказания материальной помощи, и там же, на месте, передал Иваицевичу 5 рублей в пользу политических. Разговор окончился просьбою „Равича“ распространить прокламации в гор. Лодзи и Згерже, которые выйдут не позже 23 марта, а также спросил, где находится нелегальная литература, которую привез интеллигент „Лампа“. Полученные от „Равича“ деньги Иванцевич отдал столярам Бонавентуру Адамову Марциняку и Яну Станиславову Антецкому для передачи семействам арестованных. 19 марта „Равич“ посетил Иванцевича и дал ему в пользу арестованных еще 4 рубля и 4 рубашки, сказав, что в скором времени к партии Социал-демократов примкнет много интеллигентной молодежи; про обещанныя прокламации заметил, что они еще не готовы, несмотря на то, что он усердно работает их вдвоем с товарищем на гектографе. 27 марта „Равич“ посетил Иванцевича и оставил у него три блузки для арестованной Малецкой и три экземпляра газеты „Красный Штандар“, издаваемой Ф. Доманским, экземпляр брошюры „Независимость Польши“ и две квитанционные книжки для сбора денег на агитационный фонд; но Иванцевич отказался их принять, заявив, что квитанции не имеют печати партии, тогда „Равич“ поручил Иванцевичу отправиться к отцу арестованного Вацлава Сучины – Антону Сучине и взять у него печать. Действительно отец арестованного Антон Сучина достал печать из-под печки, заявив, что полиция потому по обыску не обнаружила печати, что она была спрятана его сыном в деревянной сапожной колодке. Во время посещения 28 марта „Равич“ передал Иванцевичу 10 рублей в пользу заключенных. 1 апреля „Владислав Равич“ принес Иванцевичу для распространения 65 экземпляров гектографированных прокламаций по поводу арестов в местной группе Социал-демократов (донесение от 2 апреля сего года за №2146/1468). Прокламации эти имели целью показать, что партия не разбита и что работа будет продолжаться с тою же энергией». В прокламациях также рассказывается о том, что русские рабочие показывают пример борьбы с самодержавием, принимая на себя главный удар «царских опричников». Подчеркивается, что без победы русских революционеров свобода Полыни невозможна. 3 апреля «Равич» посетил Иванцевича и вручил ему рукописный каталог русской и польской нелегальной литературы, которая – имеется в его распоряжении, и поручил Иванцевичу пойти на Владзевскую улицу, дом №41, дав указания, как найти квартиру, добавив, что там живет интеллигент, его заместитель, псевдоним которого «Бохен». Названный «Бохен» сказал Иванцевичу, что служащие на городской линии электрического трамвая требуют для себя особой прокламации, посла чего обещают присоединиться к местной группе Социал-демократов. Ранее чем написать просимую прокламацию, «Бохен», как он выразился, должен будет собрать сведения о их быте. 3-го же апреля «Равич» поручил Иванцевичу отправиться в дом №36 по Петроковской улице, для совещаний по поводу устройства демонстрации на 1 Мая, указав, как найти квартиру. Отправившись туда, Иванцевич там нашел молодую еврейку, которая заявила, что она сестра «Клары» («Клара» – Эйда Гиршфельд, арестованная по ликвидации 14 марта, именно на ее квартире была устроена засада, из которой ушел, как полагает агентура, упомянутый выше Ф. Доманский, заперши чинов охраны по их недомыслию в квартире арестованной). 29 апреля «Бохен» принес Иванцевичу 10 рублей в пользу жен политических арестованных. Принадлежащий к немецкой фракции Социал-демократов Юлиан Хеммер собрал 45 копеек на «Красный Крест» и вручил их 28 апреля Иванцевичу с просьбою, чтобы о получении этих денег было объявлено в журнале «Красный Штандар» за подписью «Купер». Деньги эти переданы через Иванцевича «Бохену», который отправит их в Комитет «Красного Креста» и сообщит в редакцию журнала «Червоны Штандар» для помещения их в отчет под рубрикой «Купер» (что, вероятно, есть какой-то особый знак для Ф. Домансного, смысл коего разгадать в настоящий момент не удалось. Вообще активность социал-демократов должна озаботить нас вопросом – что они затевают! Эта активность социал-демократии отнюдь не случайна). Путем негласного сыска установлено, что сестра арестованной «Клары» – Хана Гиршфельд; «Бохен» – Теодор Бреслауэр, занимавшийся частными уроками, именующий себя репетитором, связанный непосредственно с Ф. Доманским. Таким образом, совершенно очевидно, что, несмотря на аресты типографа Мацея Грыбаса и других деятелей социал-демократии, работа снова обретает исключительную активность. Во всем этом явно ощущается «рука» крепкого организатора, коим несомненно можно назвать Ф. Доманского, близкого к Р. Люксембург, А. Барскому и Л. Тышке. В ожидании указаний поручик А. Сушков».
(Указаний от Шевякова не последовало – он ждал; он верил в ловушку Гуровской. Хотел «прихлопнуть» не по частям, а всех, во главе с ним, с Дзержинским.)








