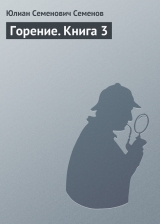
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 40 страниц)
День начинался ночью еще, в пять часов, когда зимняя бесснежная темень была особенно тревожной, непроглядной, затаенной. Дзержинский часто менял явки: польская и русская «черные сотни» орудовали вовсю, наравне с полицией – врывались в дома, бахали из наганов по спящим, пьяно громили квартиру, плескали керосином и бросали спичку. Через час приезжали городовые, чтобы составить акт о неосторожном обращении с огнем; трупы увозили сразу же на кладбище, без медицинского осмотра и вскрытия.
Когда Дзержинскому предложили комнату в доме присяжного поверенного Трожаньского, он отказался, хотя адрес был вполне надежен, рядом с казармами (там не искали, не хотели ссориться с армией).
– У Трожаньского четверо детей, – объяснил Дзержинский. – Нельзя подставлять его. Мы себе никогда не простим, если «черная сотня» перебьет из-за меня его семью. Единственно, к кому я мог бы пойти из юристов – это Мечислав Козловский, но его, увы, нет.
Поэтому ночевал Дзержинский в маленьких «меблирашках», выбирал такие, что стояли во дворе, с двумя выходами: Варшаву он знал отменно, уходил от слежки ловко, за что получил у филеров кличку «Бес».
Приходил он к себе поздно, вставал рано, без будильника, будто кто толкал острым локтем в бок, словно во время первой ссылки, на барже, когда еще продолжался этап. Спать тогда приходилось в трюме, «пирожком» – один к одному: если кто решит повернуться, так сразу все остальные тоже должны поворачиваться, иначе не шевельнешься.
Дзержинский, поднявшись, растирался жесткой щеткой, чтобы кожа сделалась красной, потом обливался холодной водой, вытирал тело сухим, грубой ткани, полотенцем докрасна и садился работать – до семи можно прочитать письма рабочих в газету, поправить стиль, самую только малость, никак не ломая дух писавшего, не навязывая ему своих формулировок, а тем более оборотов речи; ответить тем, кто обращался за советом в «Червоный Штандар», подобрать наиболее интересную выжимку для Главного правления партии, чтобы с первой же почтой отправить Розе, которая рвалась в Варшаву, несмотря на угрозу ареста и военно-полевого суда. Иногда, увлекшись письмами – а их приходило множество сотен, – Дзержинский начинал переписывать за авторов, потом ловил себя на этом, аккуратно стирал карандашную правку, признавался себе: «Страсть как хочется засесть за работу – писать и писать, сейчас надо писать каждый день, чтобы осталась героическая хроника революции».
Он подумал было разослать такую директиву в комитеты, но потом понял, что делать этого нельзя – готовые улики для полиции; в царский манифест, дарующий свободу, он, как и все здравомыслящие марксисты, не верил, не желал быть «токующим тетеревом», который подставляется под выстрел.
Впрочем, все воззвания, листовки, брошюры, трамвайные билеты, письма и записки, не носившие характера сугубо конспиративного – с кличками товарищей и адресами, – он переправлял в Краков, в партийный архив: будучи человеком убежденным, Дзержинский не сомневался в конечной победе революции, и думал он, что глумлением над памятью погибших во имя революции будет забывчивость. Надо все знать и всех помнить, только тогда идея будет передаваться через поколения; вне объективной, чуть даже – в силу своей отстраненности – холодноватой истории идея исчезает, растворяется в бытовщине и домыслах или же превращается в скучную, извне заданную схему, подобно тем, какие изобретены министерством просвещения для гимназий: Спартак – кровожадный гладиатор; Робеспьер – больной человек, одержимый жаждой крови; Пугачев – беглый каторжник; Чаадаев – безумец; Чернышевский – польский агент; о Желябове, Вере Засулич, Плеханове вообще молчали, будто и не было их на свете. Тем не менее даже длительное и умелое замалчивание правды оборачивается бумерангом против тех, кто тщится переписать историю, вычеркнуть имена, факты, события, даты – истину, одним словом.
Стук в дверь оторвал от работы. Дзержинский глянул на часы: было еще только шесть. «Странно, – подумал он, – кто бы это? »
Он подошел к двери, прильнул к глазку, сделанному тем же самым Вацлавом, который три года назад оборудовал безопасность Уншлихту. Не поверил себе: на площадке стояли сияющий Юзеф «Красный» с Якубом Ганецким и Иосифом Уншлихтом – в арестантской еще одежде, небритые, только вышли. Дзержинский распахнул дверь, обнял друзей, прижал к себе, ощутил цитадельный запах, недавно только оставивший его самого, затащил в комнату, снял башлыки, осмотрел похудевшие, заросшие бородой лица Иосифа и Якуба.
– Ну, здравствуйте, родные! Сейчас будем пить чай. С малиновым вареньем!
Чай с вареньем пить не пришлось: в дверь снова постучали. Дзержинский, возившийся с керосинкой за занавеской, в маленьком закутке, крикнул:
– Якуб, открой!
Ганецкий открыл дверь. В квартиру вошел Андрей Егорович Турчанинов, опустил воротник пальто, снял дымчатые очки в большой роговой оправе и спросил:
– Могу я переговорить с Феликсом Эдмундовичем?
Дзержинский, услыхав скрипучий, медленный голос Турчанинова, даже ложку уронил на столик, рассыпал чай, вышел из закутка, побледнев от волнения.
– Прежде чем мы начнем… – он помолчал, подыскивая слово, – наше объяснение, поручик, ответьте мне на один лишь вопрос: бегство мальчика, Анджея Штопаньского, вы организовали?
– У меня была санкция на побег с последующим расстрелянием только одного человека – на вас, Феликс Эдмундович. Побег Штопаньского я не готовил. По-моему, это не провокация. Видимо, мальчику искренне помогали люди из ППС, а кто им воспользовался из наших, не знаю.
– Кто поручил вам убрать меня?
– Глазов.
– Смысл?
– Боится вас.
– С моими друзьями вас надо знакомить? – спросил Дзержинский.
– Господа Уншлихт, Ганецкий и Ротштадт?
Все переглянулись, ничего не ответили – за них сказал Дзержинский:
– Раздевайтесь.
Повесив аккуратно пальто с чуть блестящими боками – долго, видимо, носил, – Турчанинов, огладив лысеющую голову, продолжил:
– Партийные клички угодно ли?
Ганецкий сказал:
– Это интересно. Пожалуйста.
– Господин Уншлихт, Иосиф Станиславович, тысяча восемьсот семьдесят девятого года рождения, из интеллигентов, окончил техническое училище в Варшаве, член партии с 1900 года. Клички «Техник» и «Юровский». Господин Ганецкий-Фюрстенберг, Якуб Станиславович, рожден в Варшаве, в том же году, отчислился из университета в связи с переходом на профессиональную революционную работу. Получил, тем не менее, высшее образование в Берлине, Гайдельберге и Цюрихе. Член партии с 1901 года. Два года отбыл в десятом павильоне Цитадели. Клички «Чеслав», «Куба», «Хенрик». О господине Ротштадте знаю меньше. Кличка – «Красный».
– Вот так, – сказал Дзержинский и оглядел друзей потемневшими глазами. – Так вот. Про Цадера вы тогда серьезно?
– Вполне, – ответил Турчанинов. – Он – наша «подметка».
Расселись, замолчали, рассматривали друг друга, напряженно наблюдая за тем, как Дзержинский не спеша доставал из шкафчика стаканы, блюдца и ложечки для варенья.
– Тебе помочь? – спросил Уншлихт.
– Возьми пару блюдцев, а то я разгрохаю, – ответил Дзержинский.
Турчанинов аккуратно кашлянул:
– Я могу выйти в коридор, Феликс Эдмундович, если вам надо переговорить с друзьями.
– Я бы сказал вам, коли нужда возникла. Не надо.
Первый стакан «липтоновского», со странным зеленоватым отливом чая выпили в молчании. Когда Дзержинский разлил по второму, Турчанинов, отказавшись от сахару, посмаковал варенье, даже глаза зажмурил:
– Альдона Эдмундовна прислала?
– Да, – ответил Дзержинский, вспомнив сразу же, что к баночке с малиновым вареньем была приложена записка сестры, шутливая, добрая. – Моя корреспонденция через вас проходит?
– Легальная – да.
– Кто еще освещает нас в охранке?
– Глазов так построил схему работы, что у меня в руках лишь люди из ППС и «анархо-коммунисты» – от них я черпаю данные про вас. Те, кто занимается ППС или эсерами, работают с агентурой, введенной в вашу партию, – меньше возможностей для утечки информации.
– Какова причина, толкнувшая вас прийти ко мне?
– Я отвечу вам, Феликс Эдмундович. После манифеста государя, после амнистии, я понял – все кончено. Теперь не спастись, теперь начнется отрицание всего и вся, кровь и ужас. Единственной силой, с моей точки зрения – нет, нет, не жандарма, а патриота России, – кто может удержать страну от гибели, от развала, словом, от исчезновения с карты мира, являетесь вы, социал-демократы, ибо у вас есть программа будущего. Другое дело, я с этим будущим не согласен, но ведь, в конечном-то счете, давайте жить по Тургеневу: «Россия может обойтись без любого из нас, но никто из нас не может жить без России». Преподавания в школе вы меня не лишите, думаю? Артиллерист – я могу учить детей математике. Словом, сейчас я пришел к вам с предложением: во-первых, я постараюсь выяснить имена всех «подметок», работающих среди вас, а во-вторых, сегодня вам надо поменять явки, сегодня же, – повторил Турчанинов, – практически – все. Не потому, что мы их знаем, мы – сейчас – бессильны предпринять что-либо серьезное, но оттого, что Глазов прислал шифровочку Егору Саввичу Храмову, нашему «Михаилу Архангелу»… Вас сегодня «народ» будет убивать, верные царевы слуги; в-третьих…
– Погодите, – перебил его Дзержинский, – а где штаб «Архангела»? Откуда они должны идти к нам?
– Штаб у них на Тамке, а где именно – не знаю.
– Узнать нельзя?
– Можно, однако это поставит меня под удар: в полиции не любят, когда кто-то лезет в чужую епархию.
– В чьей епархии «архангелы»?
– Они у подполковника Крахмальникова, а тот подчинен непосредственно Глазову; здешнее начальство к нему не рискует подлезать.
– «Подлезать»? – удивился Дзержинский. – Это как?
– На жандармском жаргоне «подлезать» – означает переманивать чужого агента более высокою платою и стараться узнать первым ту информацию, которую собирает коллега.
– Смешно. – Дзержинский вздохнул. – Охрана устоев построена по системе воровского притона.
– Советовал бы вам, Феликс Эдмундович, – медленно сказал Турчанинов, достав из кармана несколько листков бумаги, – обратить внимание на этот документ. Мне его по прочтении верните, он – секретный. Это мы перехватили, горяченькое это. «Сов. секретно. Копия документа, добытого агентурным путем. СРЕДИ ПРОГРЕССИВНОЙ ЧАСТИ РУССКОГО ОБЩЕСТВА В ЦАРСТВЕ ПОЛЬСКОМ СУЩЕСТВУЕТ ПОТРЕБНОСТЬ СПЛОТИТЬСЯ НА ПОЧВЕ СОЧУВСТВИЯ И СОДЕЙСТВИЯ ПОЛЬСКОМУ ОСВОБОДИТЕЛЬНОМУ ДВИЖЕНИЮ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УЖЕ ВПОЛНЕ ЯСНО НАЧИНАЕТ СКАЗЫВАТЬСЯ РАЗЛИЧИЕ ВО ВЗГЛЯДАХ И СТРЕМЛЕНИЯХ МЕЖДУ БУРЖУАЗНОЮ ЧАСТЬЮ ОБЩЕСТВА И ТРУДЯЩИМИСЯ КЛАССАМИ. В ТО ВРЕМЯ КАК ПЕРВАЯ, ДАЖЕ В ЛИЦЕ ЛУЧШИХ СВОИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, ОБНАРУЖИВАЕТ СКЛОННОСТЬ ВСТУПИТЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В ПЕРЕГОВОРЫ НА ПОЧВЕ ОБЕЩАНИИ БУМАЖНОЙ КОНСТИТУЦИИ 17-ГО ОКТЯБРЯ И ПОД УСЛОВИЕМ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОТОВА ДАЖЕ СОТРУДНИЧАТЬ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ В ЕГО РАБОТАХ ПО „УМИРОТВОРЕНИЮ“ СТРАНЫ, ДО БОРЬБЫ С „КРАЙНИМИ ПАРТИЯМИ“ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО, ТРУДЯЩИЕСЯ КЛАССЫ – РАБОЧИЕ И КРЕСТЬЯНЕ – ОТЧЕТЛИВО СОЗНАВАЯ, ЧТО ТОЛЬКО ПЕРЕХОД РЕАЛЬНОЙ СИЛЫ В РУКИ НАРОДА МОЖЕТ ОБЕСПЕЧИТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНУЮ КОНСТИТУЦИЮ, РЕШИЛИ ВЕСТИ БОРЬБУ ДО ПОЛНОЙ ПОБЕДЫ И НЕОБХОДИМЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ЭТОЙ ПОБЕДЫ ПРИЗНАЮТ СОЗЫВ УЧРЕДИТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ, КОТОРОЕ ОДНО КОМПЕТЕНТНО РЕШИТЬ ВОПРОС О ГОСУДАРСТВЕННОМ УСТРОЙСТВЕ ОБНОВЛЕННОЙ РОССИИ. НЕСОМНЕННО, ЧТО ТАМ, ГДЕ ВОЗНИКАЮТ ПОДОБНЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ, ПРОГРЕССИВНЫЙ СОЮЗ МОЖЕТ СТОЯТЬ ТОЛЬКО НА СТОРОНЕ ТРУДЯЩИХСЯ. НАМ, ЖИВУЩИМ В СТРАНЕ, ГДЕ ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СИЛОЮ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫДВИГАЮТСЯ НА ПЕРЕДНИЙ ПЛАН, НЕОБХОДИМО С ПОЛНОЙ ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ВЫЯСНИТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ К НАЦИОНАЛЬНОМУ ВОПРОСУ ВООБЩЕ И К ВОПРОСУ ОБ АВТОНОМИИ ПОЛЬШИ В ОСОБЕННОСТИ. СОЮЗ ПРИЗНАЕТ ПРИНЦИП НАЦИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ И ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ ПРОТИВ КАКИХ БЫ ТО НИ БЫЛО НАЦИОНАЛЬНЫХ И ВЕРОИСПОВЕДНЫХ ОГРАНИЧЕНИИ. ИСХОДЯ ИЗ ТОГО НРАВСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРИНЦИПА, ЧТО НИКАКОЕ НАСИЛИЕ ОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ НАД ДРУГОЙ НИЧЕМ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОПРАВДАНО; ЧТО НАСТОЯЩИЕ ОТНОШЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНОЙ РОССИИ К ПОЛЬШЕ ОСНОВАНЫ ИМЕННО НА ТАКОМ НАСИЛИИ: КОНСТАТИРУЯ ДАЛЕЕ ТОТ ФАКТ, ЧТО ПОЛЬСКИЙ НАРОД В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ПОМИМО ОБЩЕЙ С РУССКИМ НАРОДОМ БОРЬБЫ ЗА ПОЛИТИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ, ВЕДЕТ ОДНОВРЕМЕННО БОРЬБУ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СВОИХ ПРАВ И ПРЕДЪЯВЛЯЕТ ТРЕБОВАНИЕ ШИРОКОЙ КУЛЬТУРНОЙ, ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ПРАВОВОЙ АВТОНОМИИ, – СОЮЗ ПРИЗНАЕТ ЭТО ТРЕБОВАНИЕ БЕЗУСЛОВНО СПРАВЕДЛИВЫМ. ПО ПОРУЧЕНИЮ – Н. РОЗАНОВ, С. ПОНЦОВ».
– Интересно, – откликнулся Дзержинский и передал документ товарищам. – Видимо, инженерия?
– Да. И ученые. Вполне состоятельные люди, хороших семей, и – за вас. Это панику в охране вызвало, это – вне понимания: русские баре стали на защиту польских рабочих.
– Ученый не барин. Инженер – тоже.
– А полицейский?
– Полицейский есть полицейский. Это – однозначно.
– Значит, спасения не ждать?
– Если вы пришли с делом – будем думать… Как «архангелы» относятся к «прогрессистам»?
– Намечено бить.
– А национал-демократы? Наши черносотенцы?
– Те выжидают.
– Вам неизвестны отношения между руководителями эндеков и «архангелами»?
– Конкуренты. – Турчанинов усмехнулся. – Враждуют. За влияние сражаются. Ваша национал-демократия, конечно, поумней. Наши мясники – слепые фанатики.
– Кто бы мог узнать нам их адреса? – спросил Дзержинский, возвращая Турчанинову документ.
– Не знаю, – ответил тот. – Это – ваша забота.
– Узнаем, – сказал Дзержинский, посмотрев вопросительно на Ганецкого; тот чуть кивнул головой. Турчанинов заметил это.
– Да, разумно, – согласился он, – ваши боевые дружины смогут проследить «архангелов», когда они пойдут на сбор. В-третьих, после того, как я передам вам имена «подметок», вы поможете мне исчезнуть, бежать за границу, и станете там отвечать за мою безопасность.
– Андрей Егорович, если вам действительно дорога Россия, то путь вы избрали не самый легкий. Однако уходить за границу сейчас, когда ситуация так сложна, когда против нас выстраивается объединенный фронт, – никак негоже. Вы будете очень нужны России на своем посту. А место в самой хорошей гимназии – после революции – я вам гарантирую.
– Я даю обещание только в том случае, ежели могу его выполнить. Я не могу обещать вам, Феликс Эдмундович, продолжать работу в морге.
– Вы отказываете окончательно?
– Окончательно я не отказываю.
– Вы будете думать наедине с собою самим или решите проконсультироваться с кем-либо?
– Феликс Эдмундович, я не гетера: если я пришел к вам, то не оттого ведь, что адреса товарищей эсеров или ППС мне неизвестны. Я пришел к вам потому, что более не к кому идти. Сейчас – во всяком случае. Я должен подумать – единственно, что я могу повторить. Запомните, пожалуйста, мой телефон: 19-75. Как вы понимаете, девицы на телефонной станции обо всякого рода подозрительных разговорах сообщают нам. Когда вы смените квартиру, позвоните мне и скажите, что вы от Яна Яновича, привезли лекарство для моего отца, хотите передать немедленно; назовете адрес, я подойду. Жду вашего звонка через неделю.
Поднявшись, Турчанинов поклонился всем, в дверях уже задержался:
– Во время первомайской демонстрации, Феликс Эдмундович, среди шедших в первом ряду, рядом с вами, был глазовский агент. Кличка – «Прыщик». Однако агент этот о вашем выступлении четвертого мая, когда войска уже были бессильны, не знал. Или – не сообщил, не успел; так могло быть тоже.
Дзержинский легко вспомнил: Первого мая рядом с ним был Людвиг, Софья Тшедецка, покойный Генрих, Юзеф Красный и Вацлав, отвечающий в партии за безопасность явок…
Когда Турчанинов ушел, Дзержинский сказал:
– Иосиф, спать не придется, хотя – вижу, как ты устал. Срочно подыскивай запасные квартиры – это за тобою. Юзеф, установи – через комитеты – наблюдения за каждым шагом Турчанинова. Якуб налаживает контакт с боевиками: мы ударим по Тамке первыми. Надо встретиться с людьми из «Русского прогрессивного союза» – пригласим их к шельмованию «черных сотен»: это важно с точки зрения национальной политики. Вообще с ними завяжем связи: уж если русский – интеллигент, он до последней капли крови интеллигент, и стойкости ему не занимать.
– Я встречусь, – сказал Ганецкий.
– Успеешь?
– Да.
– Хорошо. А я беру на себя склад с оружием – надо раздать всем участникам налета наганы и бомбы; видимо, предстоит серьезный бой, причем провести его надо молниеносно, пока не подоспеет полиция.
В четыре часа в редакции легальной газеты, где Дзержинский порою бывал, ему передали записку: «Ф. Э.! Звонил из отеля Бристоль (Краковское предместье, 42-44) некий г. Николаев Кирилл Прок. Ожидает вашего ответа».
Дзержинский прикинул – до сбора боевиков оставалось три часа. Турчанинов сказал правду: разведка боевиков заметила на Тамке особое оживление: дворники, лотошники, купеческие сынки, обыватели, кто с достатком, тянулись к дому Ильинкова, счетовода мукомольной фабрики Егора Храмова. Показываться в тех местах, где собирались черносотенцы, нельзя, ненароком потащишь хвост – амнистия амнистией, а смотрят в оба; провалишь тогда и боевиков, которые законспирированы прекрасно, ни одного ареста еще не было, да и вся операция окажется под угрозой. На эту операцию Дзержинский возлагал серьезные надежды: во-первых, ликвидировать банду погромщиков, терроризирующих город, а во-вторых, делом доказать левым в ППС, которые все более и более отходили от практики Пилсудского и Плохацкого, что социал-демократы умеют не только агитировать за революцию, но – при необходимости – стать на ее защиту, и не шальным выстрелом в полицейского чина, а организованным вооруженным выступлением.
Напряжение было таким сильным, что Дзержинский сначала наново просчитал время, оставшееся до операции, а потом лишь еще раз перечитал записку, чтобы по-настоящему уяснить себе смысл содержащихся в ней слов.
«Какой Николаев? – раздраженно подумал он. – Или это Турчанинов играет?! Нет, подожди-ка, – остановил он сам себя, – это же Кирилл!»
Дзержинский позвонил Николаеву, сказал, что будет у него через полчаса, что очень рад его приезду и что везет ему подарок.
Он спустился на второй этаж, зашел к главному редактору:
– Пан Голомбек, мне нужна тысяча четыреста рублей.
– Господи, почему так много и зачем эдакая срочность?
– Вот расписка, Максимилиан, – сказал Дзержинский, – если я по каким-либо причинам завтра не смогу вернуть эти деньги в кассу – вернет Ганецкий.
Максимилиан Голомбек был «подставным» главным редактором. Не состоящий в рядах партии, но сочувствующий ей, он был человеком довольно состоятельным, сделавшим карьеру на книжной торговле.
«Мне хорошо при любом обществе, – любил он повторять, – кроме первобытного: там не было письменности. Пусти меня в рабовладельческое царство – я бы и там фараонам – с выгодой для себя – всучил Ожешко и Ежа с золотым обрезом».
В случае ареста Голомбек был бы выпущен под залог; золото (симпатии – симпатиями, а свои деньги за арест он платить намерен не был) в размере полутора тысяч рублей были внесены на его счет в банке– Главным правлением партии.
– Но у меня сейчас только пятьсот, – ответил Голомбек. – Больше нет.
– А в кассе?
– Тоже.
– А в твоем левом кармане?
– Семьсот.
– Триста тебе хватит на кутежи и все им сопутствующее, – заметил Дзержинский. – Ты же поляк, Максимилиан, ты должен понять: для меня эти проклятые деньги – вопрос чести.
– Играешь? Карты? Рулетка? – удивился Голомбек, доставая из кармана пиджака толстую пачку денег – тысячи полторы, не меньше. – Разве это не запрещено вашим пуританским кодексом?
– Запрещено. Я играю тайком. Я маньяк, понимаешь?
– Зачем же я даю тебе деньги? Меня погубит доброта, дети вступят в вашу партию, оттого что им нечего будет есть, мать умрет в приюте, а жена отправится на панель. Иди в кассу, я позвоню Рышарду. Расписку оставь ему.
… Дзержинский посмотрел на пачку денег, пересчитанных Рышардом, обслюненных им, перепеленатых разноцветными бумажками нежно и требовательно (кассир обращался с купюрами с таким же отрешенным, втуне сокрытым чувством горделивой собственности, как мать – с ребенком; именно так, подумал Дзержинский, Альдона купает детей – у нее такие же властные, но в то же время трепетные движения рук).
– Пересчитайте, – попросил кассир.
– Я верю вам.
– Вы не следили, когда я считал, – я же видел.
– Я вам верю, Рышард, – повторил Дзержинский и начал рассовывать деньги по карманам. – Это, по-моему, унизительно – перепроверять работу.
– Да, но я мог ошибиться ненароком, пан Юзеф. А при моем заработке
– это катастрофа: в том случае, коли я ошибся в вашу пользу.
– Я верну, если вы ошиблись.
– Можно уследить за любовницей, правительством, шулером – за деньгами уследить нельзя, пан Юзеф, они тают, как снег под солнцем, особенно коли несчитанные да к тому еще сразу обрушились.
Дзержинский, сдерживая нетерпение – минуты, казалось, жили в нем сами по себе, реализуясь в обостренное, незнакомое ему ранее ощущение «толчков ушедшего», пересчитал деньги, заметил алчущий взгляд кассира, протянул ему рубль и, не слушая почтительной благодарности, выскочил на улицу, зашел в первое же почтовое отделение, быстро заполнил бланк телеграммы: «ФРИЦ ЗАЙДЕЛЬ НИБЕЛУНГЕНШТРАССЕ 27 БЕРЛИН. ПРОШУ ПРИЕХАТЬ ВАРШАВУ ЗВОНИ ТЕЛЕФОНУ 41-65 ПРОФЕССОРУ КРАСОВСКОМУ НЕОБХОДИМА ТВОЯ ПОМОЩЬ ЮЗЕФ».
(Зайдель проведет работу по выяснению истинности намерений Турчанинова – сегодняшняя операция лишь первый шаг; если поручик сказал правду, тогда от его содействия будет зависеть многое – во всяком случае, возможность провокации уменьшится в значительной мере.)
В книжном магазине Вульфа, на Новом Святе, Дзержинский подошел к полке антиквариата, где стояли два заветных тома: «История французской революции». Дзержинский в свое время просидел на этой стремянке много часов, делая выписки. Купить, конечно, книги не мог, не по карману: семь рублей; четвертая часть тех средств, которые партия отпускала ему на жизнь. Еще до ареста, правда, Главное правление прислало шифрованное письмо – сообщало, что после того, как в кассу партии стали поступать значительные денежные средства, поскольку раскупают литературу, издаваемую социал-демократами, – представляется возможным увеличить оплату его расходов на пять рублей; разрешалось также постоянно снимать в пансионате вторую комнату, на случай провала основной явки. Дзержинский от пяти рублей отказался, приняв с благодарностью санкцию на найм дополнительной, подстраховочной квартиры, – это было необходимо сейчас, ибо возрос объем работы; странное, «подвешенное», полулегальное положение заставляло жить иначе, не так, как раньше; расширился круг знакомых; встречи порой приходилось проводить в библиотеках и редакциях; полиции было велено удерживать, но привычных санкций «дадено» не было, поэтому царила неразбериха полнейшая: сажали в цитадель только в том случае, если было оружие; за слово сажать перестали. Дзержинский понимал, что эта «весна либерализма» – явление временное, и пользовался каждым днем, чтобы узнать как можно большее количество людей, представляющих разные социальные прослойки общества; нельзя понять развитие, основываясь в своих умопостроениях лишь на воле одного класса, ибо изолированность мнений, надежд, неприятий чревата перекосом, несет в себе порок замкнутости и эгоистической ограниченности – рабочий народ невозможно рассматривать вне положения крестьянства, как и недопустимо игнорировать тех, кто организует производство – инженеров; готовит кадры – учительства и профессуры; лечит народ – докторов; пытается барахтаться в нитях царского «права» – присяжных поверенных; вносящих лепту в сокровищницу мировой культуры – художников, литераторов, актеров.
– Ну что, пан Эдмунд, доставать стремянку? – спросил Адам Вольф, увидав Дзержинского. – Засядете читать?
– Стремянку достать придется – читать, увы, нет.
– Хотите купить? Правильно поступите. Лучшее вложение денег – книги и майсенский фарфор. Большинство несчастных мечтают надеть новые боретки или шляпку. Это же тлен, это подвластно моли! Мебель? Ее пожрет тля. Бриллианты? Их проглотит ваш сын и прокакает в канализацию. Золото? Во время войны хлеб будет стоить дороже золота. А вот книга хранит в себе знание, за которое платят. Пусть кладут золоторублевики в миску из Майсена – мысль нуждается в том золоте, которое можно обратить в хлеб и кислое вино. А что еще нужно мыслителю, пан Эдмунд?
– Мыслителям всегда недоставало времени, – ответил Дзержинский, отсчитывая семь рублей, – и любви.
– Чьи это слова? – поинтересовался Вульф на стремянке. – Ларошфуко или Монтень?
– Мои, – сказал Дзержинский и отчего-то устыдился своего ответа: ему показалось, что в этом есть доля нескромности.
«Впрочем, – возразил он себе, – ложная скромность опаснее, потому что в ее недрах сокрыто испепеляющее тщеславие, которое может быть кровавым, когда решит утвердить себя, назвав то, что ему не принадлежит, своим. Лучше сразу расставить все точки над „и“. Стыдно чужое приписывать себе, да и невозможно в общем-то – вскроется рано или поздно; сказать про твою мысль, что она – твоя, не есть нескромность; поднимая руку на себя, я замахиваюсь на достоинство писателя или философа».
Дзержинский посмотрел на большие часы, прикрепленные к стене, под портретом государя: до начала операции на Тамке оставалось еще два часа.
– Ах, какая красота, Феликс, родной, спасибо вам, – пророкотал Николаев, любовно осматривая книги, – чудо что за издание. Про содержание не говорю – смысл вашего подарка понял, принял, прочувствовал сердцем.
– Вы – умный, я рассчитывал, что вы все сразу поймете. – Достал ассигнации из кармана. – Вот мой долг, Кирилл.
– Какой долг? – Николаев удивился искренне. Почувствовав эту его искренность, Дзержинский не обиделся: вообще-то рассеянность миллионеров оскорбительна.
– Вы одалживали мне деньги на газету, Кирилл. В Берлине.
– Ах, да, да, да! Спасибо большое, Феликс.
– Это вам спасибо.
– Нет, вам, – серьезно ответил Николаев. – У меня теперь своя газета, эти деньги пойдут в нашу кассу.
– Вы с конституционными демократами?
– Нет. С октябристами.
– Странно, – искренне удивился Дзержинский, – я был убежден, что вы умеете видеть перспективу.
– Именно поэтому я с ними. Кооптирован в Московский комитет.
– Странно, – повторил Дзержинский. – Мне казалось, что вы ближе к кадетам.
– Они ж только говорят, Феликс, за ними нет реального интереса. Они представляют русских рантьеров, а кто позволяет рантьеру стричь купоны? Производители – то есть рабочие, и организаторы – сиречь мы, финансисты.
– Тут надо уточнить, Кирилл. Такого рода соседство взрывоопасно, если стереть помаду: есть рабочие, то есть эксплуатируемые, и финансисты, то есть эксплуататоры.
– Вы опустили мое слово, Феликс, – с живостью возразил Николаев, – вы произвольно опустили слово «организаторы», и весь смысл моего заключения поменялся, сделался иным.
– Вы организуете систему, которая эксплуатирует, Кирилл. Мы хотим организовать такую систему, где эксплуатации не будет, то есть не будет произвольного, вами устанавливаемого, распределения продукта.
– Лет через пятьдесят мы к этой проблеме в России придем, Феликс; вы – раньше, вы, поляки, ближе к Западу, к их организации, вы открыты ветрам прогресса более, чем мы, русские, от вас «Фарбен» и «Крупп» в пятистах верстах работают. Вообще в Польше более тяготеют к Европе, к немецкой индустриальной модели, разве нет?
– Смотря кто. Рабочие тяготеют к русским товарищам, и это понятно, потому что русские рабочие сейчас формулируют свои социальные требования самым революционным образом; ваши коллеги, польские заводчики и финансисты, понятно, глядят на Берлин или Париж. Пожалуй, на Париж больше – Берлин они считают агрессором, оттяпавшим половину Польши.
– Значит, если мы посулим им помощь в борьбе за возвращение этих земель – они станут поддерживать нас?
– Мы постараемся не позволить, – ответил Дзержинский. – Финансы, не подтвержденные мускульной силою, мало что значат. Подкармливать химеру национализма – преступно, это к крови ведет.
– Значит, будете продолжать стачки?
– Обязательно. До тех пор, пока не удовлетворят наши требования.
– Это ведь не наша прерогатива, Феликс, это обязанности правительства – удовлетворить ваши экономические требования.
– Что Витте без вас может?
– Мы постоянно подвергаем его критике.
– Мы тоже.
– Значит, есть поле для переговоров.
– Нет. Вы требуете от него линии, которая бы активнее защищала ваши интересы, а мы жмем слева – совершенно разные вещи.
– Дайте нам привести в Зимний серьезное, по-настоящему ответственное министерство – мы сразу же вдохнем жизнь в промышленность… Каковы будут ваши требования, Феликс, если мы сможем поставить на место Витте мудрого политика?
– Восьмичасовой рабочий день, социальное страхование, свобода для профессиональных союзов, повышение заработной платы.
– До какого предела?
– До такого предела, чтобы дети не пухли с голода. До такого предела, чтобы семья из пяти человек могла иметь хотя бы две комнаты. Вы губите поколения, заставляя спать на нарах, в одной конуре, бабку, мать с отцом и двух детей, вы поколение развращаете и калечите с малолетства, Кирилл.
– Согласен, но мы же не можем все дать! Государство подобно живому организму, тут иллюзии невозможны! Мы хотим дать, очень хотим!
– Что именно? – Дзержинский подался вперед. – Что? Вы сможете отдать лишь то, что мы вынудим, Кирилл: я не вас лично имею в виду, но поймите – среди рабов нельзя жить свободным, вы не можете существовать отдельно от того класса, представителем которого являетесь, – свои же сомнут.
– Феликс, забастовки разрушают не царский строй, а страну. Чем больше бастующих, тем меньше продукта, чем меньше продукта, тем беднее государство. О каком удовлетворении требовании может идти речь, когда в банках денег нет из-за ваших страйков?!
– Денег нет из-за того, что все средства шли на войну, на двор, на полицию!
– Не мы эту войну начали.
– А кто же? Мы?
– История неуправляема, Феликс.
– Зачем же тогда хотите взять власть, если не верите в управляемость истории? Это очень легко и удобно – уповать на фатум.
– Не фатум, нет… Уповать надо на дело, на его всемирную общность.
– О какой всемирной общности может идти речь, если английский рабочий получает в двенадцать раз больше русского! Вашими методами постепенности Россию с мертвой точки не сдвинешь. Вас засосет та же бюрократия, которую вы так бранили раньше.
– Мы ограничим права бюрократии. Это в наших силах.
– Кирилл, мы не сговоримся с вами.
– Значит, раньше, когда бежали из Сибири, могли сговариваться, а сейчас, когда набираете силу, не сможем?
– Силу набираем не только мы – вы тоже. В этом – суть. Происходит поляризация сил, Кирилл, и это – логично, это развитие, против этого мы с вами бессильны.








