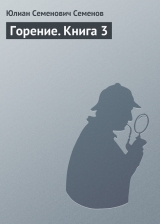
Текст книги "Горение. Книга 1"
Автор книги: Юлиан Семенов
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 40 страниц)
Товарищи! Сегодня раздался первый залп по варшавскому люду, не со стороны облеченных в мундиры царских живодеров, но со стороны Польской национал-демократии. Вооруженные босяки из национал-демократии, без предупреждения, без холостых выстрелов – как делают это иногда царские войска – открыли стрельбу по демонстрантам. Не привыкшая к мысли, что «польские патриоты» в состоянии убивать безоружный польский народ, толпа разбежалась в панике, а на поле национал-демократической славы осталось несколько тяжело раненных жертв из польского люда и в том числе старец и женщина. На Кавказе царское правительство отобрало оружие у армян и разрешило вооружаться татарам; у нас правительство преследует всякого рода оружие у польских революционеров и заведомо позволяет вооружать живодеров из национал-демократии. Граждане! Мы еще раз подтверждаем, что со времени железнодорожной забастовки со стороны солдат не последовало ни одного залпа в народ. Национал-демократия заменила царское правительство. Итак, положение теперь ясно для каждого. На сторону царских палачей стала национал-демократия, заступая правительство в убийствах беззащитного люда. Отныне уже никому не разрешается делать различия между правительством и черносотенной национал-демократией. Пролитая польская кровь будет отомщена! Смерть палачам национал-демократам. Да здравствует революция! Социал-демократия Королевства Польского и Литвы.
Егор Саввич Храмов собрал друзей, дружинников «Союза русских людей» за полночь, сразу, как только вернулся из Санкт-Петербурга.
Встреча с Александром Ивановичем Дубровиным, председателем Главного штаба «Союза», долгая беседа с Треповым, отчет, представленный Глазовым о том, какие партии поддерживаются министерством внутренних дел, какие наблюдаются, каким не верят, против каких ведут борьбу, каковы программы «кадюков» и «октябристов»
– живчики, эти «октябристы», хотят утвердить свою власть в деле с Европой, торговлю хотят в свои руки забрать, позволяют себе дружбу с полячишками, жидовней не брезгуют, норовят подчинить своим интересам трон, желают вертеть Верховной властью в своих корыстных целях; для них Россия, дух ее – вторичен, они на Запад смотрят, они даже социалистов согласны в думу допустить – не то что милюковских «кадюков», все это Храмова ожесточило, заставило подобраться – власть обмякла, в либералов играют; пирушки с друзьями прекратил, не до застолий – каждый день чреват всеобщим крахом.
«Кнут надобен на всех, кто болтает социалистическую гадость, – задумчиво говорил Храмову Дубровин, – без кнута нельзя, не готовы мы к тому, чтобы каждый по своей воле жил; только если сообща будем – удержим в руках. А чтобы стада на сочные поля вывести, нагул им дать, пастух щелкать должен кнутом-то… Наш пастух не щелкает – молчит себе да слушает. Время подошло нам, истинно русским патриотам, себя заявлять – громко, во весь голос».
Медик Дубровин, суматошно отслужив армейскую лекарскую службу – часто менял полки, не хотел отрываться от Петербурга, да и в Болгарию боялся попасть: Шипкой, конечно, восторгался, однако воевать не воевал, трижды избежал отправки, сказывался больным, – решил было пойти в науку, стать адъюнктом, однако на экзаменах срезался. Жена профессора Устьина, который гонял по анатомии, была дочкой выкреста. Тогда Дубровина и стукнуло – евреи его не пускают в адъюнктуру, порхачи горбоносые. Шок был столь силен, что выразился постепенно в манию, в навязчивую идею.
Однако говорил Дубровин прекрасно, любил сирых и убогих, помогал им – наследство, полученное от родителей, и приданое жены позволяли; знал историю России, был фанатично религиозен, великолепно пел на клиросе и постепенно стал известен в кругах тех, кто требовал чистоты крови. Конкурентная борьба среди купцов принимала любой вороток – лишь бы повалить соперника в деле. А соперники – еврейские буржуа, гнойно процветавшие в ссудных кассах, польские фабриканты и финские помещики
– Дубровина не страшились, жили под защитою жандармерии, детей учили в университетах, отдыхали в Ницце. Вся дубровинская кровожадность, таким образом, обрушивалась на головы польских рабочих, финских крестьян и еврейской бедноты, затиснутой за унизительную черту оседлости.
– Надобно поворачивать Царское Село к нагайке, – повторял Дубровин, – надо выжигать инородцев каленым железом, они все заговор против русского духа плетут, они Варфоломееву ночь готовят. Надобно, чтобы государь дозволил – мы сделаем. Не дозволит – партизанить станем, не перевелись еще на Руси Пожарские.
Трепов, слушая Дубровина, раздраженно перекладывал на столе бумажки – согласный во всем с позицией маньяка, он, тем не менее, обязан был отстаивать официальную позицию Царского Села. Поэтому санкт-петербургский диктатор Дубровину и Храмову отвечал уклончиво:
– Чего вы хотите? Все говорят, бранятся, прожектерствуют, а предложений реальных никто не вносит. Есть у вас план? Не партизанский, а точный, реальный, до мелочей рассчитанный? – Словно бы испугавшись, что Дубровин на его вопрос ответит утвердительно, Трепов быстро продолжил: – Нет ни у кого планов, базирующихся на истинной государевой воле: народу – закон, ласка, убеждение; врагу – беспощадность. Думайте, господа, думайте и болтайте поменьше…
Сейчас, в кругу единомышленников, Храмов дал волю.
– Вот что, – сказал он грозно, словно бы продолжая крутую беседу с кем-то другим, – хватит нам тут всем баклуши бить да манифестации с хоругвиями выхаживать: время действия приспело. Власть хочет, видишь ли ты, и рыбку съесть и сытым сесть, то одним поклонится, то другим. Коли мы себя не спасем – никто не спасет. Словом, собирайте дружинников, на Тамке собирайте, место там тихое, хорошее; списки заранее составьте: где кто из социалистов и кадетов живет, куда захаживает – дворники в этом помогут, и в полиции у нас симпатиков довольно. Один налет – часа в два-три надо уложиться – всем головы посворачиваем. Полиция прибудет, когда все будет кончено, и наши люди успевают скрыться. Дознание пустим по такому руслу, что ссохнется оно, захиреет. Во время налета – никаких церемоний или там разговоров – пулю в лоб, и точка. Дзержинский, Ганецкий, Сонька-модистка, – этих в первую очередь, с их и начинать. Людям нашим объясните: полячишки, жидовня, предавшиеся им русские социалисты – твари, нехристи, японские агенты, коли их сейчас пощадим, они нам потом головы посымают. Объясните: изничтожая их – спасаем православный дух наш. Возражать кто станет? Может, предложения будут иные? А? Может, кто думает по-другому? Можно ведь и по новому, октябрьскому закону жить – тихо можно жить, затаенно…
Храмов оглядел собравшихся, глаза его потеплели: дружинники – по глазам ясно – по-новому жить не хотели, как привычно хотели.
– Водки не жалеть. У нас на Руси не только «веселие есть пити», но и ратная схватка тоже подогрета должна быть, хорошим хлебным вином подогрета…
День был трудный – в Комитете пекарей один из новых товарищей, размахивая над головой газетой, в которой упоминались имена Сенкевича, Пруса и Жеромского, принявших участие в собрании «Лиги Народовой» и национал-демократов, требовал разгромить «штаб мерзавцев», а всех интеллигентов подвергнуть публичному шельмованию в прокламациях, как изменников и врагов.
Дзержинскому новый товарищ не понравился – говорил как по заученному, красовался своим гневом, был к тому же несколько истеричен.
Дзержинский выступил против.
– Интеллигент кроет интеллигента! – крикнул пекарь. – Товарищи, они ж друг дружку всегда покроют!
На парня зашикали, но не все – было много неизвестных, видно только-только вступивших в кружок; Дзержинского не знали.
«Парень странный, – думал Дзержинский после выступления. – Что-то в нем есть чужое. Но он говорит о больном, ему могут поверить. Это тревожно».
Кружок он повел за собой, но осадок чего-то нечистого в душе остался.
– Зачем это тебе? – спросил Генрих – шахтер, что некогда выступал против Дзержинского в Домброве. – Я не понимаю, Юзеф.
– He мне. Тебе. Детям. Внукам.
Генрих пожал плечами:
– Веселовский связан с национал-демократами!
– Неверно. Это они стараются привязать его к себе.
– Что он, слепой? Почему позволяет себя трогать?
Они шли по ночной Варшаве; свет газовых фонарей делал их лица неживыми; стены домов казались задниками декораций – сказочный андерсеновский город. Дзержинский подумал вдруг: «А ведь мы живем в сказочное время. Поэтому мне так дорога эта тишина, безлюдье, эти потеки на стенах, эти черепичные крыши, перезвон колоколов в костелах. Сказочное время – революция».
– Пусть бы они ко мне пришли, – продолжал Генрих. – Я бы показал им, откуда ноги растут.
– Года три назад я бы согласился с тобою, а сейчас не могу.
– Почему?
– Три года назад мы были слабы. Теперь сильны. Теперь поэтому надо думать о будущем.
– Тащить в будущее рухлядь?
– По-твоему, писатель Веселовский – рухлядь?
– Так он же не с нами! Вокруг него черт знает кто!
– Видишь ли, Генрих, писатель, если он истинный, по-детски наивен, увлекается, он человек мига, он доверчив особой доверчивостью, – словно бы продолжая с кем-то спор, заключил Дзержинский. – Таким людям нужны особые мерки. Их дар угадывать не познанное, они идут не от анализа, но от чувства, но они подчас ощущают истину точнее, чем все остальные.
– Точнее нас?
– Иногда. Мицкевич ведь не был членом партии, – улыбнулся Дзержинский.
– А что, его стихи спасли народ от горя? Давали еду голодающим? Учили грамоте? Он писал для тех, кто был сыт, Юзеф. Я-то вырос без Мицкевича, я его прочитал только после того, как в кружок начал ходить.
– Значит, на свалку?
– Тех, кто пишет про нас, – можно сохранить.
– Кого, например?
– Я их фамилии плохо запоминаю… В «Курьере» один писал про жизнь бедняков… Образно… С продолжением.
Дзержинский зябко передернул плечами; сдержался – хотел ответить резко.
«Нельзя. Он еще ребенок. Он только начал путь знания. Нельзя его обрывать. Следует объяснять спокойно, не обижая своим превосходством».
– А как быть с Шекспиром? – спросил Дзержинский.
– С кем?
– Ты не читал Шекспира?
– Кто это?
– Я тебе расскажу одну историю… Жил-был король. У него были три дочери…
– В Польше?
Дзержинский не понял, удивленно посмотрел на Генриха.
– Я говорю, польский был король-то?
– Нет, нет… Английский… Король Лир.
– После разгрома станков правил?
– Ты погоди, – улыбнулся Дзержинский. – Тот король не был эксплуататором.
– Сказка, что ль?
– Да.
– Так бы и сказал.
– Итак, у короля было три дочери. Две расточали елей, постоянно восхваляли отца на людях, а на самом деле задумали против него зло…
– Национал-демократки, курвы!
Дзержинский остановился, опустился на корточки, ухватился рукой за стену дома – смеялся до слез.
– Ладно, Генрих… Все тебе можно – только с писателями говорить нельзя. Мы пришли, спасибо тебе. Отправляйся домой.
– Я тебя не оставлю, я здесь подожду.
– За нами никто не топал, Генрих. Мы чистые. Разговор у меня будет долгий, иди домой. Генрих заглянул в подъезд.
– Толкуй себе спокойно, я у радиаторов посплю – теплынь, как в раю.
Дзержинского ждал Болеслав Веселовский – известный литератор. Генрих, подумал Дзержинский, будет наверняка сверлить писателя грозным взглядом, пугать своими заключениями, а разговор должен быть важным, очень важным.
«Революция – пик талантливости народа, – говорил Дзержинский товарищам, – нельзя допустить, чтобы мы потеряли хоть единый гран таланта. Не важно – во всем ли согласен сейчас с нами человек или нет, но он хранит в себе Слово, которое объединяет людскую общность. Время все поставит на свои места».
– Я буду сидеть в комнатах, а ты здесь, – сказал Дзержинский. – Так не годится.
Генрих сел к радиатору, поднял воротник, вытянул ноги и блаженно зевнул:
– Сказать шахтерам, что ты такой чувствительный – не поверят. О тебе как о Костюшке говорят. «Кремень», говорят, «дамасская сталь». Иди, не мешай, я сплю.
– Но вы еще того не поняли в литераторе, – задумчиво продолжал Веселовский, – что сплошь и рядом он пишет для того, чтобы отплатить за пережитое им унижение, за муку, за неведомую тайну, за постыдность. Иногда хочешь вырвать из головы память – она ведь страшная у пишущего, она обнажает, пепелит, унижает, а – не выходит. Память хватает пятерней за фалды чистого идеализма, и носом – в дерьмо. Сочинять легко – писать трудно, пан Юзеф.
– Я однажды думал о разнице менаду хорошей и великой литературой,
– заметил Дзержинский, грея пальцы о горячий, высокий стакан с темным, крепкой заварки, чаем.
– Какова ж разница?
– Хорошая литература пишет о хорошем, великая – о трагическом.
Веселовский посмотрел на Дзержинского с изумлением; глаза его увлажнились:
– Прекрасно сказано.
Веселовский поднялся, прошелся по комнате, забросив руки за спину.
– Когда думаешь о великих, невольно примеряешь мысль на себя – это болезнь каждого писателя. Вываляешься в грязи, она угодна тебе, она потребна, как разрядка, как предтеча чистоты, а потом поманит тебя святым, ты этому отдашь свое Слово, и доверчивый народ зовет уж тебя борцом и праведником, а ты снова опускаешься, и снова сердце разрывает тоска, и снова раздвоенность, и нет силы вырваться из этого заколдованного круга, потому что никто, кроме пишущего, так горько не сознает собственного несовершенства. Правда обо всех – это когда из себя, из собственного мрака исходишь, про себя пишешь, себя раздаешь героям, со всей своей грязью отдаешь… Обратная связь страшна, пан Юзеф: от деяния – к человеку, от замысла – к исполнению, от побудительного мотива – к общественному выявлению… А в подоплеке – я. А мне ничто человеческое не чуждо… Постоянная внутренняя боль, раздвоенность лучше не делает – глубже, быть может… Ты сам не знаешь, что принесет тебе, как личности, новая книга, – она может изменить весь строй твоих прежних убеждений, из революционера сделать ретроградом или, наоборот, из консерватора – анархистом…
– Консерватор и анархист? Две стороны одной медали.
– Вы хотите навязать однозначность. А это погибель для интеллигента.
– Человек, который, как консерватор, зовет сохранить произвол, и человек, разрешающий грабеж, – разве это не одно и то же?
– Консерватор охраняет подлое – согласен. Но анархист с этим подлым борется… Да, верно, глупыми, крикливыми, подчас подлыми методами, но разве они синонимы?
– Это казуистика. Правы мы. Анархисты, кстати говоря, и в тюрьме себя ведут плохо, легко поддаются на вербовку, имена товарищей открывают. Это всегда бывает, когда побудитель борьбы – внешний, когда он на поверхности…
– Сидели в тюрьме?
– Трижды. Не в этом суть. Я вижу – вы ищете, пан Болеслав, но ищете вы не с теми и не то. Хорошо, что вас считают – по вашим книгам
– праведником. Никто не вправе копать, как вы к этому приходите. Я вправе перефразировать: «сквозь тернии – в небо» – «через грязь – к чистоте».
– Это понимаете вы, интеллигент. Ваши ученики не принимают того, без чего для нас нет жизни, пан Юзеф. Да, мы непоследовательны, мечемся, да, у нас нет постоянной линии, мы не знаем, как надо, но мы очень ясно понимаем, что не надо.
– Стрелять в демонстрантов не надо?
– Я выступал против этого в печати.
– Когда стреляли русские солдаты – все выступали. А когда стреляют эндеки?
Дзержинский испугался, что Веселовский ответит резко и разговор нельзя будет продолжать, и он поэтому торопливо добавил:
– Я прошу вас об одном, пан Болеслав, – не поддерживайте нашу «черную сотню». Тогда будет очень трудно спасти ваше имя для будущего.
– И это было, – слабо улыбнулся Веселовский. – И это я где-то читал.
– Может быть, – согласился Дзержинский. – Я не претендую на то, чтобы говорить такое новое, которого раньше не было, – пророки повторяли Иисуса, а он хорошо знал науку жрецов, а что знали те – неведомо. Пан Болеслав, людям требовательным и честным кажется порой, что весь запас знаемого, весь резерв опыта исчерпан, все слышано раньше, все видено. Это перед началом новой работы, поверьте. Это пройдет у вас… Говорить о добре – безделица, добро нужно творить.
Веселовский отхлебнул чая, закурил.
– Вы хотите сказать мне главное и не решаетесь сделать это. Я прав?
– Угадали. По глазам видно?
– По всему видно. Вы слишком мягкий человек для того, чтобы говорить горькие слова.
– Пан Болеслав, я остановил печатание прокламации, направленной против вас.
– Чем я прогневал революционеров?
– Тем, что не выступаете против наших национал-демократических негодяев, против тех, кто аплодирует думе.
– Они предлагают бороться за свободу Польши парламентским путем – что в этом преступного? Дзержинский усмехнулся:
– Я всегда считал, что умный человек не может быть плохим писателем. Странно, возможна, оказывается, обратная связь.
– То есть?
– Талантливым писателем может быть человек с полным сумбуром в голове.
– Значит, я – талантливый болван? И на том спасибо. Хуже было бы наоборот. А может, лучше… Все сказано до меня – нечего колготиться. Читаешь порой древнего, и – удивительно: ищешь в его работах ответы на сегодняшние проблемы. А как древние могут ответить? Они ж метрополитена не видали! Электричества! Представьте, что Геродот или Цицерон увидали летательный аппарат! Они бы с ума свернули. А мы у них ищем ответа на вопрос – «как жить»!
– Плохо вам? – спросил Дзержинский. – Совсем плохо, да?
– А вам хорошо?
– Да.
– Вы не писатель, слава богу – врать не умеете. Хотя есть, увы, писатели, которые не умеют врать – в правдолюбцах ходят. Читать их не читают – скучно, вот они и прут в политику, ниспровергают. А я люблю лгать – поэтому пишу.
– Ну и лгите, – улыбнулся Дзержинский. – Лгите. Я об этом только вас и прошу. Ваша ложь так правдива.
– Не могу взять в толк: неужели только для того, чтобы сказать о прокламации, направленной против меня, вы пришли сюда?
– Вы же Болеслав Веселовский.
– Ах, боже ты мой! Веселовский! Часто я думаю о себе как о человеке, который убедился в том, что ему не совладать с обычной, простой, человеческой задачей – быть инженером, отцом, лекарем, – и замахнулся на великое… Вот и пописываю… Как это у русских?
– «Писатель пописывает, читатель почитывает».
– Да, да. Верно.
– Самобичеванием-то не надо бы заниматься, пан Болеслав. Я ведь пришел к Веселовскому. Это хорошо, что вы не знаете себе цену. Мы – знаем. Поэтому и любим. Вы же Веселовский, пан Болеслав. Веселовский!
(Вспомнил лицо Юлии отчего-то. Зажмурился – сердце защемило.)
– Вы не должны на меня сердиться, пан Юзеф, – сказал Веселовский.
– Пожалуйста, не сердитесь. Как на исповеди: не знаю, куда идти и что писать. Понимаете? Не знаю.
– К нам идите, – сказал Дзержинский, поднимаясь.
– Я никогда не перестану преклоняться перед моими учителями, пан Юзеф. Перед Крашевским, Сенкевичем, Томашем Ежом. А ведь Еж был основателем «Лиги Народовой», и сражался на баррикадах шестьдесят третьего года, и выбрал горький хлеб эмиграции; нищету предпочел сытому позору. И вы хотите, чтобы я отрекся от него только потому, что он не социал-демократ? Всякий, кто выступает против деспотизма, честен. Отчего вы берете себе право на абсолютную правоту? Пусть Сенкевич выступает по-своему, Жеромский по-своему, но ведь они не кадят елей царизму! Они ведь против!
– Можно богохульствовать, а нужно-то все же быть Галилеем…
– Ах, бог мой! Это все верно! Но вы предлагаете мне лечь в деревянное ложе истины! А истины нет. Единственно, что постоянно в мире, – это тайна, это то, что неведомо, пан Юзеф!
– Не сердитесь. Я ведь ничего от вас не прошу, кроме того, чтобы вы не были с национал-демократами.
– Кто сказал вам, что я с ними? Я со всеми! Иначе я не смогу писать, если я стану смотреть на мир из одного угла. Правда – материальна, ее щупать надо, тогда только поймешь. А когда поймешь, тогда наступит самое страшное – я должен буду писать против друзей, и я буду ужасаться, когда их слова станут ложиться на бумагу, и я перестану спать из-за того, что должен буду – во имя познания правды – отсекать тех, кто дорог мне, кому я обязан молодостью своей, кто делил со мною горе и отверженность! Литература – более жестока, чем политика, пан Юзеф, потому что она чувствует, она – женщина!
Где-то рядом грохнул выстрел. Потом второй и третий. Дзержинский хотел возразить Веселовскому, но потом вдруг – молчком – бросился к двери, скатился по лестнице.
Генрих лежал под радиатором. Руки его были подломлены, как у той девочки, убитой во время демонстрации, и ноги так же выворочены, а из виска, пульсируя еще, текла черная, густая кровь. На полу валялся листок бумаги: «Смерть москальским наймитам!»
Дзержинский выскочил из парадного подъезда – улица была пуста; фонари светили голубым, мертвенным светом.
– Но он же спал! – крикнул Дзержинский. – Он пригрелся у радиатора! Спал он! Он же спал!
Руки Веселовского были холодными и сильными. Дзержинский яростно сбросил его руки с шеи, продолжая кричать что-то. Фонари растекались в его глазах звездами, снег казался черным, буро-черным.
– Юзеф, Юзеф, – шептал Веселовский, – Юзеф, дружочек мой, Юзеф, ну, пожалуйста, Юзеф…
Дзержинский обернулся к Веселовскому и заплакал, повторяя:
– Он же спал, понимаете?! Он пригрелся и уснул! У вас так тепло в парадном, а он все дни на улицах и вокзалах. Он спал, ему было тепло…








