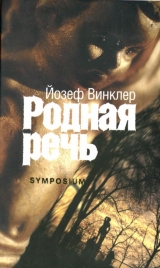
Текст книги "Родная речь"
Автор книги: Йозеф Винклер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 16 страниц)
В лугах я сплетал большие и маленькие терновые венцы и пришпиливал их к головам мертвых карпов и щук. Однажды я положил такой венец на каравай хлеба. А мать, прежде чем убрать мою поделку, чтобы разделить хлеб, подняла его и стала рассматривать увенчанный терном каравай. Она ничего не сказала, только взглянула на меня и хмыкнула. «Хлеб наш насущный даждь нам днесь», – пробормотал я. Когда мы с Михелем колесили по полю и разбрасывали навоз, я случайно поранил ладонь брата, травма была тяжелая, мать вскинула руки и застонала, но я не услышал ни одного внятного слова. И пока не приехал на своей машине Адам Кристебауэр, чтобы отвезти Михеля в больницу, она, сидя возле него, перевязывала раненую руку платком и гладила голову своего ребенка, который вскоре затих, впав в полуобморочное состояние. Отец поглаживает живот матери, и я начинаю постепенно успокаиваться. У меня еще не выходят из головы уловки торговца распятиями, я морщу свой эмбриональный лобик, сжимаю в кулаки свои липкие ручонки, стискиваю губы, и из уголка рта сочится кровь крестоторговца, я сплевываю ее на голые ноги и мечтательно наблюдаю, как нить красной слюны тянется в глубину материнской утробы. Рука отца удаляется и уползает под одеяло. Я часто просыпаюсь, поскольку сон у матери нездоровый, она усыпляет себя таблетками, но я не хочу причинять ей боль и, проснувшись, веду себя как можно тише, ведь я люблю ее, но иногда делаю ей больно именно потому, что люблю. Я не раз видел капельки пота, сверкавшие у нее на животе и на бедрах, и следил за ее вспотевшими руками, когда она метала сено и когда вела под уздцы лошадь по выгону, отгоняя мух и слепней от себя и от лошадиной морды. Когда она навещала своего отца, я стучал ей в диафрагму, пытался дотянуться до сердца и сказать, что я хочу на волю, будь там снегопад или буря, будь там темно от туч, будь смута на всей земле, я во что бы то ни стало хотел увидеть павлина на дворе Айххольцеров, и как он склевывает кукурузные зерна. Я всегда любовался его золотой короной на дискообразной головке. Я упирался ручонками в брюшную стенку, давил на пупок, я причинял матери боль, когда она сидела перед дедом Айххольцером и рассказывала ему истории из своей теперешней жизни, говорила что-то про Марту, Зиге и Густля. Ну и, конечно, не забывала поведать о родителях мужа, прежде всего – о свекрови. Бабушка Энц то и дело порывалась поучать мою будущую мать, говорила, как надо готовить лапшу, как выглядит настоящий карп, когда домашних следует кормить кукурузной кашей, а когда нет, сколько литров молока отправлять на молочный комбинат Верхней Каринтии, а сколько отпускать безземельным крестьянам, которые по утрам или вечерам приходили к нам с бидонами. Иногда отец, гогоча, стрелял струйкой молока из коровьего вымени в лицо какой-нибудь бедной клиентке. Я замирал от удивления в своем материнском убежище, глядя на плясавшие в воздухе грязные хвосты коров и телят. Я смотрел на коровьи сосцы и дивился тому, как ловко отец или Пина выжимают из них тугие белые струи. Мне хотелось добраться до груди матери и напиться молока, ведь его дают даже бедной крестьянке. Почему же я не могу хлебнуть свежего материнского молока? Я хочу его уже сейчас. И я тянул свои крошечные ручки вверх, к соскам матери, я пытался пробить свою плодную оболочку и по материнскому позвоночнику вскарабкаться на высоту груди, но ничего не получалось. Я с завистью наблюдал и слушал, как звонко молочная струя бьет по дну и стенкам чужого бидона и как она становится бесшумной, когда бидон наполняется наполовину. Мать все выкладывала своему отцу, и дед Айххольцер обещал поговорить с моим, вернее, с тем, кто им скоро станет, как-никак старый Айххольцер наряду со священником пользовался большим уважением в деревне. На войне он дослужился до офицерского звания, был строг, но справедлив, так он сам о себе отзывался, и это при каждом удобном случае подтверждали мать и ее братья и сестры. Он был одним из самых порядочных и доброжелательных односельчан, недаром моя сестра, родившаяся на четыре года раньше меня, любила отца матери больше, чем своего собственного. Мать изливала деду Айххольцеру свои горести, а я продолжал давить ослизлыми кулачками на ее диафрагму, я хотел переместиться вместе с ней во двор через дверь черного хода, мне не терпелось увидеть, как в тени сливы павлин роняет свое окровавленное перо, мне бы поднять это перо, но я был пленником материнской утробы и мог только кричать, когда она прошла мимо, не подобрав пера, она не принесла его домой, в родительскую спальню, где я по ночам мечтал сбросить одеяло, чтобы видеть синие глаза на павлиньих перьях и мерцавшее зелеными искрами распятие. Я колотил кулачками и кричал: «Мама, подбери перо, возьми его с собой, ну пожалуйста, я буду коллекционировать павлиньи перья, как некоторые из односельчан собирают почтовые марки и переводные картинки». Мать не слышала меня, возможно, она чувствовала, что ее что-то беспокоит внутри, но винила в этом свое недужное тело, как бы то ни было, перо осталось позади. Я обернулся и под стеклянной спиной разглядел сначала вздымавшиеся и опадавшие бугры ягодиц, а потом – перо на земле. Обзору мешал позвоночник, поскольку сквозь костную ткань, будь то позвонки, тазовые кости или лопатки, я ничего видеть не мог, мой взгляд пронизывал лишь мягкую плоть и одежду. Когда она двинулась вверх по деревенской улице, мимо фыркавшей лошади, которая нетерпеливо копытила землю, я оглянулся вновь. Она поравнялась с зеленым островком многолетника, подняла руку, ласково тронула цветы, завернула за угол и начала подниматься к нашему дому, минуя большое, в человеческий рост, распятие, перед которым всякий прохожий снимает шляпу и чертит в воздухе зигзаги крестного знамения. Я тоже перекрестился, увидев, как мать воздела руку и осенила крестом лоб, затем – губы, а третий крест кончиком большого пальца изобразила перед грудью. Я поднял свою крохотную мокрую ладошку, пока еще без ноготков, и осенил крестом свой неокрепший лоб, посмотрел направо, в сторону большого распятия, и перекрестил кончиком большого пальца грудь и губы. Мать двинулась дальше, мимо школьного здания, и я, повернув голову направо, вижу красную надпись ШКОЛА и уже знаю, догадываюсь по рассказам матери о своих детских годах, что придет и мое время держать в руках карандаш, брать в уже не беспомощные руки влажную губку и стирать с доски меловые знаки. Над черной доской я увижу распятие, а сбоку – портрет президента республики. Тогда это была дешевая репродукция с изображением Адольфа Шерфа, ей полагалось висеть в каждом классе, наряду с распятием. Хочешь – выбирай, на кого смотреть: на распятие или на федерального президента, когда все складывают ладони и молятся за полезное и радостное учение. На уроках закона Божия мы уже видели перед собой не президента, а только распятие. Уповаю на то, что когда-нибудь меня побьют камнями, уповаю на муки, когда железными палками насадят мне на голову терновый венец; с надеждой жду предательства Иуды, моего младшего брата, который донесет матери, что я украл у нее деньги на лакомства; надеюсь, белобрысый Фридль Айххольцер оттяпает ему ухо; надеюсь, брат повесится, расплачиваясь за то, что предал Иисуса, которого пригвоздили к кресту римляне и кельты нашего отечества. На уроках истории учитель то и дело толковал нам про дожившие до сей поры дороги, проложенные кельтами на нашей земле. «Они укладывали камень за камнем, – говорил учитель, – таким тяжелым трудом никто уже не занимается, зато эти дороги служат нам уже многие столетия, а современные асфальтовые приходится подновлять каждые два-три года, их разбивают массивные трактора, и тогда снова надо привлекать технику и рабочие руки, черные от гудрона, и от этой ужасной, марающей человеческое достоинство смолы задыхается вся деревня». Дети окружают рабочих в заляпанных черными комьями комбинезонах, дети смотрят на горячую дымящуюся лаву, наблюдают, как она стекает по лопатам, как ее вываливают из обросших коркой ведер, они видят темные потные лица дорожников, и какой-нибудь замученный школой ребенок воображает себя в будущем таким же, как эти люди, ведь они пришли в деревню, чтобы покрыть асфальтом вертикальную балку распятия, главную улицу деревни. Я надеюсь, что меня свяжут пропахшими навозом веревками, что мою спину серыми молниями обожгут удары сыромятных бичей. Надеюсь, что этими бичами меня с крестом на горбу погонят от головы распятия вдоль по улице, по ее свежему асфальтовому полотну, вниз, к деревенскому кладбищу, и втолкнут в церковь, где мы со священником в Страстную пятницу обходим все образа с изображением остановок Спасителя на Крестном пути. Я держу в руках кропило и бронзовый сосуд со святой водой или размахиваю кадилом, время от времени наполняя воздух клубами ладана. Надеюсь, меня поведут на Голгофу, и весь деревенский люд, шагающий у меня за спиной, будет хором кричать: «Распни его! Распни его!» И вновь серая молния бича ударила мне в спину. Я заревел, как животное, которое ведут на бойню, но ведь я сам хочу, чтобы меня били. Мария Магдалина, моя сестра, идет за мной и помогает подняться, когда крест вместе со мной падает на землю, и тогда ее тоже наказывают бичом. Адам Кристебауэр, который был когда-то самым страшным Крампусом в нашей деревне и, как водится, с прутом в руке сопровождал в сочельник св. Николая, тот самый Адам, что двадцать лет спустя вытащит из удавок мертвых Якоба и Роберта, самый сильный человек в округе, заклятый враг моего отца, бугай, презирающий слабых, он следует за мной по пятам и стегает кожаным бичом мою кровоточащую спину. Я глотаю воздух и, обжигая ноздри, выдыхаю его, иногда озираюсь и смотрю в глаза заике Карлу Бергеру: «Стало быть, и ты среди моих истязателей, ты один из тех, кто всю жизнь будет замаливать свой грех». Только Вернигеман и Фридль Айххольцер не хотят моей смерти на кресте, но куда им тягаться со всей деревней. Крестное шествие проходит мимо пасеки Кройцбауэра, где я всегда с удивлением разглядывал крошечные гробики в сотах и часами ждал появления пчелиной матки. Про нее нам рассказывал учитель, а мы просто смотрели в окно класса и видели ульи, а в летнюю пору, когда окна были открыты, слышали гудение пчел. Многие залетали в классную комнату и садились на чашечки цветов, стоявших на учительском столе, и я все время задавался вопросом: нет ли среди них пчелиной матки, королевы роя? Я поднимался и шел к столу, учитель был прямо-таки ошарашен: «Как ты посмел встать без спросу? Кто тебя вызвал к доске?» Но я и не думал отступать, я шел вперед, чтобы рассмотреть каждую пчелу на цветах и выяснить: нет ли в их числе такой, что увенчана короной. Мы идем мимо открытых дверей школы, я вижу, как из них высыпают дети. Уразумев, что перед ними ведут человека, обреченного на распятие, они мгновенно застывают на месте и молитвенно складывают ладони, точно так же они выбегали из школы и замирали, сложив ладони, когда мимо проходила похоронная процессия. Я поднимаю голову, смотрю на школьников, и на меня вновь обрушивается бич Адама Кристебауэра, у которого на голове шлем. Я вижу ребенка в рваных, латаных-перелатаных штанах, он такой же бледный, как и я в детстве, он больше похож на мать, чем на отца, он так напоминает мою сестру, хоть у нее и длинные-предлинные косы, и, приглядевшись получше, я вижу, что этот ребенок в толпе школьников – не кто иной, как я сам, и я с улыбкой киваю ему. Другие дети – у каждого в руках школьный завтрак, который пахнет больше хлебом и смальцем, чем мясом, – устремляют взгляды на того, кем был я, и я продолжаю свой путь с крестом на плече и надеюсь, что Крампус еще не раз обожжет меня своей серой молнией, и в это же самое время я, стоя в толпе школьников и тоже с бутербродом в руке, слышу свой собственный крик: «Распни его! Распни его!» и мне кажется, что меня опять полоснули бичом, но это был не удар бича, это были слова: «Распни его! Распни его!» произнесенные моими же детскими устами. Дети побегут на школьный двор и станут водить хороводы, начнут гонять золотой мяч, который бросит им из пруда лягушачий король, они будут угощать бутербродами самых бедных из сельской детворы – Грету, Ханса и Зигфрида Энгельмайеров, которые и говорить-то толком не умеют, а потом каждый маленький доброхот побежит домой и скажет матери: «Дай мне еще ломтик, я уже все съел». И никто не признается, что отдал свой хлеб бедным детям. И они начнут штурм орехового дерева, вставая на плечи друг другу, а девочки будут восхищаться смелыми мальчишками, а те станут еще смелее и бесшабашнее, когда почувствуют на себе восхищенные девичьи взгляды. А потом они спрыгнут с дерева, и никто не сломает себе ногу, но по домам разойдутся с синяками и вывихами, которые мы обнаруживаем каждый вечер, ощупывая свои ноги, и все это произойдет до того, как процессия достигнет места крестной казни. Временами я поднимаю голову и возношу к небу глухой вопль, комок слипшихся слов, непонятных мне самому из-за страшной боли, ведь я в лихорадочном жару разговариваю с сущим во мне эмбрионом, который смотрит на мир из стеклянного живота матери, словно космонавт из капсулы своего корабля, и вы знаете, в своем эмбриональном животе я ношу мертвого, состарившегося Зеппля Энца, как моя мать – недозревшего ребенка, а его – Зеппль Энц на протяжении своего детства и… будет таскать с собой, когда вырастет и станет таковым. А процессия все тянется, мимо острых кольев школьной ограды, приближаясь к большому, в человеческий рост, распятию, у которого все еще стоит мать с крестящимся ребенком в стеклянной утробе. И его ослизлые ручонки мгновенно цепенеют, когда он видит распинаемого и понимает, что это – он сам, и тут он откидывается назад, в самую глубину стеклянного чрева: «Не хочу видеть свое распятое "я"! – раздается мой внутриутробный крик. – Не хочу видеть, что со мной будет!» И я начинаю снова стучать кулачками по материнской брюшине, пока из нее не брызнет кровь и мать не почувствует боль под сердцем. Мать думает, что это знак, повелевающий ей немедленно пасть на колени перед распятием, с которого она еще в детстве сметала паутину, а паука либо убивала, либо изгоняла из укрытия в каменном изваянии, она вынимала из ваз увядшие цветы и возлагала к пронзенным гвоздями ногам свежие букеты, глядя налакированные ногти Спасителя, и вот она встала и отступила на шаг, теперь она собирается прочитать молитву перед большим распятием, и так же, как она молилась за своих Зиге, Густля и Марту, когда те еще ворочались в ее чреве, она сейчас молится за меня и себя, шепчет «Отче наш» и «Пресвятая Владычица наша». Как бы хотелось мне закрыть глаза, чтобы не видеть, кем я стал и что со мною сталось, но у меня еще не выросли веки, и я вновь начинаю кричать: «Не хочу видеть этого страстотерпца с терновым венцом на голове! Убери его с глаз долой! На нем маска моего будущего лица! Ступай домой, мама!» Я не желаю, чтобы этот Иисус смотрел моими постаревшими глазами в мои зачаточные глаза, когда Адам Кристебауэр продолжает со свистом стегать его по спине бичом и криками «Вперед! Пошел!» подгонять к Голгофе. И, проходя мимо нас, Иисус смотрит на живот моей матери и в мое еще почти бесформенное лицо. Я киваю своей эмбриональной головкой, говорю: «Добрый день» и, чуть растянув в улыбке губы, сжимаю кулачки, я вижу ручейки крови на его, как всегда, бледном лице, я вижу черные битловские патлы Христа. Он идет мимо, теперь я могу видеть только его профиль, и, раскачивая прутья грудной клетки моей матери, я кричу: «Распни его! Распни его!» Мне бы эти длинные ногти, я бы разорвал плодную оболочку, выпал бы на теплый асфальт дороги, проложенной римлянами и кельтами, подошел бы к Адаму Кристебауэру и вырвал бы у него из рук бич, чтобы стегать себя по спине: «Вперед! Распни себя!» И каждый удар еще глубже всаживает терновые шипы в тело истязаемого. «Вперед!» – кричу я и шагаю дальше с римским шлемом на неотвердевшей голове, мать волочится за мной, как прицеп, привязанный ко мне пуповиной. «Вперед!» Я вновь стегаю Христа по спине, но тут подбегает Адам Кристебауэр, он отталкивает нас с матерью, вырывает у меня бич и заносит надо мной руку. Но тут к нему подходит заика – Карлуша Бергер, он вырывает бич из руки Адама, замахивается и кое-как выдавливает из себя крик: «Распни его! Распни его!» И я чувствую, как снова падаю, теперь уже перед Бергером, и учу его основам немецкого языка, но Адам Кристебауэр отнимает у Карлуши бич, ведь Адам всегда был и остается самым сильным человеком в деревне, более чем через двадцать лет он вытащил из петли сцепившихся в последнем объятии Роберта и Якоба и отбросил трехметровую веревку, связавшую их на веки вечные. Впервые за несколько лет он вскрикнул от боли, вызволяя из удавки обоих мертвых парней. Мать Якоба с воплем, застрявшим в горле, упала без чувств, когда узнала, что Якоб и Роберт повесились. Брат Якоба, его отец, сестра и дед воздели руки к лику Распятого и возопили: «За что ты так покарал нас? Почему?» Все животные повернули головы, уставясь в красный угол хлева, когда натянулась веревка. Облатки в дарохранительнице начали кровоточить. Одуванчики сомкнули свои лепестки. Другие веревки, лежавшие и висевшие в хлеву, обратились гадюками и, брызжа ядом, уползали с подворья. Самоубийцы под гробовыми досками хлопали в ладоши, но никто не мог этого слышать. Той самой ночью моя душа, точно гребной винт, закрутилась в теле. Распятый направился к Папе Иоанну Павлу I, чтобы пасть перед ним на колени и целовать ему ноги. Две молнии над деревней свились в веревку. Распятие из двух деревенских улиц подняло правую руку и осенило крестом свой лоб, где висели Якоб и Роберт, затем – свои уста и грудь, где стоит дом моих родителей, а потом перекрестило лоб моей спящей матери. Сердца всех покойников нашей деревни лежали на куче за кладбищенской стеной и стучали в унисон так, что казалось, будто деревню сотрясает биение какого-то громового сердца. Заспанные лица отрывались от белых и узорчатых подушек и вглядывались в темноту. Моя мать посмотрела в лицо мерцавшему зеленым фосфором Распятому, выпростала из-под одеяла руку и перекрестила себе лоб, уста и грудь. Павлин распустил хвост и горделиво блеснул оперением. Адам Кристебауэр в стальном шлеме на голове и с бичом в руке злорадно кричит: «Да здравствует Иисус!» а мою спину опаляет серая молния, я откидываю в сторону свою крохотную черепушку, цепляюсь за скобы материнских ребер и смотрю на свои ладошки. У меня пока еще нет ногтей, и я не могу разорвать плодную оболочку, но если через несколько месяцев по асфальтированной улице вновь двинется процессия с обреченным на распятие и если его опять будут стегать бичом, мой ноготь, точно бритва, рассечет облегающую меня пленку.
У меня начинают дрожать клейкие от слизи руки, когда за спиной у матери, стоявшей перед распятием, я вижу, как мимо нас шагает лошадь, запряженная в телегу с сеном. Я смотрю на кивающую морду, на гриву, на лоснящиеся лопатки и бока, на пышный черный хвост и жмурюсь, когда на солнце серебром сверкают подковы. Я приподнимаю свою эмбриональную голову и вижу, как из зеленой пластмассовой лейки струится вода, до краев наполняя цветочный горшок. Теперь он как бы накрыт мутноватым зеркалом, в котором я пытаюсь разглядеть свое лицо, но мать быстро переходит от горшка к горшку, покуда не напоит все цветы. Мне интересно знать, может ли горицвет (у нас его называют еще и мясоглотом), который цветет под ногами распятого, на кладбище и в усадьбе родителей, выжить без свинины и телятины, чем охотно питаются мои старшие, ведь на одной воде – в этом я не сомневаюсь – никто долго не протянет. Я бы умер с голоду, если бы мать ничего не ела, а только пила бы воду, и это было бы вовсе не плохо для начала моей жизни. «Всем, кто из плоти и крови, требуется мясо, чтобы выжить!» – кричу я, расшатывая грудную клетку матери так, что у нее сердце заходится, но она не слышит меня, она ни разу не вняла мне, когда я заявлял о своих желаниях, томлениях и мечтах. Через несколько часов после поливки она ходит по комнатам, осматривая все цветы, наблюдая, как они дышат, увядают, как умирают и распускаются, она вдыхает аромат цветов, и я пытаюсь вытянуть немощную шею, мне тоже хочется почувствовать запах горицвета, плюща и лилий, но приходится нюхать лишь плоть и кровь и смрадные внутренности матери. Но, допустим, она склоняется над цветком лилии и удивленно открывает рот, услышав неожиданное приветствие беременной соседки, у которой тоже прозрачное чрево. А когда открыт рот, запах влажной лилии проникает в глотку. Отвечая же на приветствие, мать сжимает и разжимает губы, поэтому аромат поступает ко мне неравномерно. Мать обычно улыбается, здороваясь с кем-нибудь, и тогда я тоже улыбаюсь из сердечного сочувствия матери. Мертвого старика Зеппля Энца, которого я ношу в своем эмбриональном животе, мне уже не рассмешить, у него совершенно отстраненный взгляд, он не говорит ни слова, он просто лежит, как заморенный, у меня внутри, сложив на груди руки, обвитые четками. Когда у меня вырастут ногти, я почувствую укол в сердце, и мне станет страшно при мысли, что он только с виду мертвый, что он проснется во мне до того, как мать произведет меня на свет. Больше всего мать любит постоять рядом с распускающейся лилией, она прикладывает руку к чашечке цветка так же нежно, как прикасается ко лбу кого-нибудь из моих братьев, когда он с высокой температурой лежит в постели. Она долго сидит у кровати и смотрит на маленькое тело ребенка, на влажный лобик Густля, на подрагивающие ноздри Зиге; совсем маленькая Марта сидит у нее на коленях, а я – еще в животе, но и я поглядываю на покрытый испариной лоб своего брата. Я тоже устал, и мне хочется спать, но мать снова встанет, начнет гоношиться и разбудит меня, ей надо больше спать и меньше работать, а она со своим животом, в котором я расту, поглощая ее соки, шастает вниз, к поросятам и добавляет йод в горячую картошку, чтобы у них было здоровое питание и они не болели. Она возится с коровами, она кормит кур, она топает по полю мимо подсолнухов, вороньих гнезд и огородных пугал. Я поворачиваю голову, дивясь на подсолнухи. Мне ближе растения, чем люди, ведь я еще только начал расти, мои корни пронизывают мать, я питаюсь ее плотью и кровью, как подсолнух сосет корнями землю. Я на все смотрю глазами человеческого ростка. Однажды я был свидетелем, как оборвалась нить, привязанная к шее марионетки, голова Петрушки моментально свалилась на грудь, дети в зале подняли крик, повскакивали с кресел, опустился занавес, и кто-то невидимый объявил небольшой перерыв, сообщив, что Петрушка получил травму и скоро прибудет машина скорой помощи. Нечто подобное случилось бы и со мной, если бы порвалась пуповина, я не смог бы сказать ни слова, а уж тем более крикнуть матери: «Вызови "скорую помощь", пуповина лопнула!» Я бы сгнил в чреве матери и отравил ее трупным ядом. В таком случае у меня лишь одно пожелание – чтобы меня потом извлекли путем оперативного вмешательства. Я хочу, чтобы меня похоронили не в утробе матери, а рядом с ней. Пусть сколотят крохотный гробик, да, пусть он будет ненамного крупнее гробовидного пчелиного сота. И каким бы он ни был крошечным, мне бы хотелось, чтобы и его положили на устланную сеном повозку и покрыли веночками и лентами с подобающими надписями: «Мы любили тебя еще до твоего появления на свет», – и чтоб все говорили: «И вот сейчас, когда ты пришел в сей мир мертвым, мы несем тебя к могиле на наших карликовых плечах». В маленький возок впрягите двух белых овечек. Я хорошо помню такие повозки, никаких резиновых шин, деревянные колеса с железными ободьями, и пучки сена торчали с обеих сторон из решетчатых бортиков, словно детские руки, протянутые сквозь решетку кровати, чтобы ухватить за хвост кошку или прикоснуться к толстым, как столбы, ногам матери. Да, впрягите в возок овечек, тех самых, что мы тогда пригнали с клеверного поля в хлев Кройцбауэров. Михель стоял на южном, а я на северном углу дома, в руках у нас были ореховые прутья, и мы следили за тем, чтобы ни одна из этих блеющих животин не рванула вверх или вниз по улице, всех надо было загнать в ворота хлева. Густлю приходится, сидя верхом на овце и держа в руках поводья, терпеливо понукать своего скакуна. Когда овца артачится, когда прет на обочину за сочной травкой, Густлю надлежит все время направлять ее вперед, похоронная процессия не должна терять ритма. Мы будем слушать «Времена года» Вивальди, весна порадует нас цветами, лето клевером, осень виноградом, зима снегом, а овечки, ножками тук-тук-тук, потянут возок вниз на кладбище, а рядом со мной будет двигаться повозка побольше с телом моей матери, влекомая черной лошадью, нашей Онгой в пышном убранстве из пшеничных и ржаных колосьев, в позолоте овса и подсолнухов, и она будет кивать, покорно принимая удары бича, которым ее подгоняет верховой – мой брат Зигфрид. Между овечками и лошадью может шествовать траурная колонна в ритме, задаваемом Онгой. За мужчинами, несущими распятие, должны следовать дети из беднейших семей деревни. Посередке – женщины в черном и белом. А позади всех – мужская часть процессии. В черных одеждах – те, кто пришел оплакать мою мать, в белом – скорбящие обо мне. На обоих плечах священника должны сидеть сычи Духа Святого. Один, поочередно поднимая крылья, будет почесывать когтями свои бока, другой неподвижно, словно статуя птицы, смотреть вперед на мой белый гробик. Иногда он будет издавать крик и ловить на себе удивленные взгляды людей. Во время похорон у меня изо рта и ноздрей потечет мед. Бывало, тот из нас, братьев, кого поцеловала своим жалом пчела, садился на край колодца и целыми часами прижимал к месту укуса холодный гладкий камешек, смачивал кожу водой, по мере того как уставала рука, перекладывал камешек в другую и вновь пытался угасить боль студеной влагой, покуда не спадала опухоль, а потом бросал голыш в воду, наблюдая, как он исчезает в глубине, как поднимает песчаную муть, вспугивая сновавших вокруг форелей, и как вода снова становится спокойной и прозрачной. А потом ужаленный с заплывшими глазами шел домой, к матери, которая еще и пользовала его своей слюной и утешала: «Сейчас пройдет, вот увидишь, боль как рукой снимет». Порой создавалось впечатление, что она не обращалась к ребенку, а заговаривала рану или хворь, словно молила Бога, предлагая ему свою жизнь взамен страданий детей. Время от времени будет ржать лошадь, везущая гроб с моей матерью, будут блеять овцы, топоча копытцами, а я нет-нет да подниму головку, чтобы оглядеть стены домов и придорожные ели. Я знаю каждую из них и каждой дал имя, как мой отец – всякой четвероногой твари в хлеву. Мать не имела такой привычки, она не могла окликать по именам, как своих детей, ни поросят, ни кур, зато отец придумывал десятки кличек для своих коров, телят, волов и быков. Меня он, когда был не в духе, звал Зеппом, а в хорошем настроении – Зепплем. Заслышав это ласковое Зеппль, я тут же открывал дверь своей комнаты, изъявляя готовность выполнить очередное поручение отца. А когда в доме три-четыре раза гремело Зепп с нарастающей силой и злобой, я забивался под кровать и на протяжении нескольких часов не смел шелохнуться. Сколько раз я прятался от его гнева либо в копне сена под крышей коровника, либо в лесу, где, распластавшись на влажном мху, созерцал муравьев и жуков, а иногда в поле, и находил убежище в облюбованной нами халупе Энгельмайера, это был полусгнивший сенной сарай, где валялись остовы старых сельскохозяйственных машин, а на чердаке истлевали солома и сено, там я и устраивался, прихватив с собой книжку Карла Мая и обозревая полевой простор сквозь щели в дощатых стенах. Повсюду торчали пугала – и на полях под паром, и на свежевспаханных участках. Порой здесь появлялся Якоб Кройцбауэр со своей пневматической винтовкой, он шел междурядьями в густых кукурузных зарослях, а приближаясь к прогалине, переходил на крадущийся, кошачий шаг, прицеливался, и через секунду-другую можно было услышать хлопок и звук шмякнувшейся на землю добычи. Однажды он отстрелил лапу какой-то птице. Хромая и истекая кровью, она все-таки поднялась в воздух. Если ей придется вновь опуститься на землю, она, стоя на одной ноге, будет уже иначе смотреть на это крестьянское царство, но, скорее всего, птица обагрила кровью какой-нибудь провод на линии электропередач и замертво упала в траву. Из норок вылезают мыши и крысы, и от птичьего трупа остаются только перья. Однажды я видел канюка. Неподвижно зависнув в небе, он издавал протяжные жалобные крики, а потом вдруг сиганул вниз, шумно захлопал тяжелыми крыльями и пропал из виду. В этой энгельмайеровской халупе я мог хорониться часами, а то и целыми днями, и никто не знал, где меня искать.
Дяде Раймунду – он работал каменщиком – отец каждый год поручал белить кухню, раз в два-три года – сени и раз в десять лет – нашу детскую спальню. Здесь он покрывал стены паучьим узором. Тысячи сцепившихся лапками пауков усеивали все стены, только потолок оставался совершенно белым. Так мы с братом и жили в окружении пауков, облепивших стены. Мне все время казалось, что они могут оторваться от стены и сползти вниз, подобно тому как святые в моем воображении могли сойти с икон и наброситься на нас. Было такое ощущение, что мы качаемся в гамаке из паутины, когда, встав на кровать, мы с Михелем подпрыгивали на упругом матраце, но так, чтобы не задевать головами абажур наверху. Но чтобы не привлекать внимания пауков, нам бы следовало вести себя поспокойнее. Заметив паука у нас над головами, я озадаченно переводил взгляд на паучий узор и никак не мог понять, то ли это живое насекомое из плоти и крови и с четырьмя парами глаз, узнавшее в рисунке на стене своих братьев и сестер, или ожило и вышло погулять нарисованное. «Тут есть один живой, – говорил я Михелю. – Ты не зевай, он будет спускаться каждую ночь. Месяца через два их станет уже шестьдесят, они будут забираться в нашу постель, щекотать наши лбы, и нам придется убивать их, как крыс, или выметать веником». Итак, я стоял у дощатой двери чердачной комнаты и ждал, когда бабушка закончит свою исповедь. С интервалом в пять или десять минут – иногда раньше, иногда позже – священник, не говоря ни слова, открывал дверь бабушкиной спальни и вновь присаживался на стул возле кровати. Открытая дверь означала, что я могу войти и тоже послушать. Временами я действительно вникал в то, что говорила бабушка, но порой отвлекался, глядя в окно на южной стороне дома, и наблюдал, как маленький Энгельмайер в своей рваной одежонке возится во дворе. Я видел Терезу Энгельмайер, она подхватывала ребенка и, точно деревянную куклу, уносила его в дом. Из дома с ревом выбегали дети, в основном девочки, превращенные в рабочую скотину, они в ужасе прикрывали ладонями попки, по которым норовила погулять палка их матери. Я слышал, как, ударив одну из девчонок, развопился Фрид Энгельмайер: «Свалишь сено, принесешь дров, накормишь корову!» А она ему в ответ: «Сам свалишь сено, сам принесешь дров, сам накормишь корову!» Однако девчонка сделала все, что было велено, и в награду получила пару затрещин. На втором году обучения в торговом училище, перебравшись в спальню покойных деда и бабушки и обустроив свой угол в крестьянском доме, я повесил на северную стену зеркало, обращенное к открытому, как правило, окну. Отрываясь от бумаг, разложенных на письменном столе, я видел в зеркале все, что происходит на соседнем дворе. Отец семейства, приподнявшись на сиденье трактора, вытягивал шею вперед и поворачивал голову то вправо, то влево, чтобы перед выездом на проезжую часть улицы убедиться, что путь свободен. С учащенно бьющимся сердцем я наблюдал через зеркало, как одна девчушка уселась на бортик повозки, как ее ноги съехали вниз на бревна и при этом деревянная кругляшка уперлась ей в пах. Я видел: девица все сильнее налегает ногами на бревно, взгляд ее становится беспокойнее, и она вздрагивает, когда открывается дверь дома. Я видел в зеркале, как жеребец, приплясывая на задних ногах, взгромождается на кобылу, как его красный, величиной с детскую руку член исчезает между кобыльих ляжек и вскоре выпрастывается, как жеребец снова копытит землю всеми четырьмя ногами и еще раз встает на дыбы, надвигаясь на кобылу, и тут – спасайся кто может! – брызги его спермы летят во все стороны. Я видел в зеркале подъезжавшие и удалявшиеся машины, девиц, седлающих свои велосипеды, а когда они поднимали ноги – волосатые лобки и пышные бедра. Я вставал у окна и смотрел на девицу, которая, сверкая голым задом, поднималась на велосипеде по вертикали креста деревенских улиц. Я живо представлял себе, как она начинает потеть, как трется влагалищем о кожаное седло драндулета, как у нас именовали велосипед, когда, проезжая по проселкам мимо ржаных, пшеничных и овсяных нив, она приближается к полю, где растут подсолнухи. Это зеркало показывало мне картины забоя скота на соседнем дворе, когда девчонки таскали в дом или в хлев целые тазы крови, видел, как Фрид и Ханс Энгельмайеры смеялись, держа за уши отрубленную свиную голову, как собака, почуявшая запах крови, пыталась сорваться с цепи, и – о, какое блаженство испытали бы братцы-садисты, если бы один из них, как маску, надел свиное рыло на голову Кристы Энгельмайер. Никто из моих братьев никогда не бил нашу сестру, а теперь мне приходится наблюдать, как Фрид Энгельмайер дубасит Кристу и ботинком, подбитым гвоздями, дает ей пинка под зад. С этой несчастной и презираемой сотнями односельчан девчушкой-скотницей мы однажды оказались рядом на берегу ручья под елями, я стянул с ее ног ветхую обувь и грязные чулки. За водопадом, неподалеку от белой статуи Девы Марии, мы прижались друг к другу обнаженными телами. И хотя ей было тогда лет пятнадцать или шестнадцать, ее разбитые работой морщинистые руки казались просто старческими. По этим морщинам и трещинам нетрудно и ныне догадаться об искалеченном детстве и отрочестве. Ухватив за уши окровавленную свиную голову, Фрид и Ханс Энгельмайеры пересекли двор. Их отец выгребал потроха из вспоротой туши. Дымящаяся масса кишок вулканической лавой извергалась из свиного нутра и перетекала в подставленное корыто.








