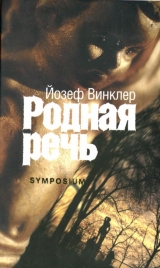
Текст книги "Родная речь"
Автор книги: Йозеф Винклер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Был вечер, на деревню нахлынула тишина, стихло мычание голодных коров и нетерпеливое хрюканье свиней, все были накормлены, даже дети. Мать пошатывается от усталости, у нее на плечах груз дневных трудов. Она ждет, когда отец вернется из хлева, выключит везде свет, запрет входные двери по обеим сторонам дома и вслед за ней поднимется по лестнице в спальню. Перед сном отец совершает контрольный обход хлева, поглаживает морду какой-нибудь любимой скотинке, осматривает водопроводные трубы над головами коров, унизанные гирляндами капель, которые время от времени сливаются и падают на солому или коровьи лепешки. На трубах устроились три или четыре летучие мыши. Их, наряду с сычом домовым, деревенские считают самыми страшными тварями. Я никогда не видел сыча, но всякий раз, когда дрогнет ветка на дереве, мне кажется, что с нее только что сорвалась и взлетела эта птица смерти. Заходя по вечерам в хлев помочиться на дерьмо и ноги скотины, я бросал взгляд на трубы и видел неподвижные силуэты летучих мышей. Ночью они будут кружить над крышей, нам с братом приходится закрывать окно в нашей комнате, ведь говорят, летучие мыши – вампиры и могут, как пиявки в озерах поймы Дравы, запросто высосать из нас, детей, всю кровь. Когда отец запирает хлев, они вылетают наружу через окошки с разбитыми стеклами. Ночью летучая мышь, чего доброго, припадет к моей тонкой шее и с каждой каплей высосанной крови будет поднимать и опускать крылья, и, встав поутру, я буду бледнее, чем при любой болезни, а может, вообще не проснусь, и летучая мышь с раздувшимся животом будет сидеть у меня на груди. Утром мать, возможно, застанет меня уже мертвым, а в праздничный день может и вовсе не прийти, чтобы, как обычно, разбудить меня, пусть, мол, поспит до обеда, она решит, что я набираюсь во сне сил, а в это время летучая мышь, присосавшись к детской груди, будет допивать мою кровь. Когда проснутся братья, она спрячется за икону и просидит там до тех пор, пока братья не покинут комнату, один пойдет в хлев, другой – за дровами, он будет помогать матери таскать в свинарник ведра с картошкой и помоями, а летучая мышь тем временем снова прилепится к моей шее и отыщет своими зубками уже прогрызенную рану. Мать поставит на комод пустой кофейник, а масло и хлеб отнесет в кладовку, прихватив и шмат сала, оставшийся на отцовской тарелке. Она запирает дверь кладовки и по каменным плитам кухни идет к другой двери, еще раз смотрит на часы и выключает свет. Потом понадежнее запирает входную дверь, идет в большую комнату, обходит стол, на котором стоит ваза с пшеничными колосьями, закрывает окно, обычно распахнутое в дневное время, затем по коридору шаркает к черному ходу и открывает заднюю дверь. Мать видит, что в хлеву еще горит свет, стало быть, отец до сих пор оглаживает своих коров. Окутанная ночной тьмой, она стоит на бетонном полу и смотрит на едва различимые балясины балкончика под крышей сенного сарая. Они затянуты паутиной сотен пауков, на перилах сидит несколько ночных птиц, мотор вентилятора уже умолк. Мать вдыхает запах компостной кучи, она знает, что в нее брошены желтые куриные лапы, вспоминает, как пару часов назад отсекла топором и собрала эти желтые обрубки. В какой-то странной задумчивости она разглядывает капли крови на лезвии топора. Она всегда стирала их пучком сена, а порой смахивает полой рабочего фартука. Мать частенько подходила к компостной куче, вываливала остатки недоеденного риса, а я, сидя у нее в утробе, смотрел в темное зеркало зловонной жижи. Я видел свое коричневое лицо, меня охватывал ужас, и я затравленно озирался. По ночам мы, братья, мочились на компостную кучу, но, когда нас пугал крик павлина, будораживший всю деревню, мы писали в штаны. Никогда отец не говорил, что любит меня, мать никогда не говорила, что любит меня, а я никогда не мог сказать: «Отец, я ненавижу тебя, я люблю тебя, мама, я ненавижу тебя, мать». Они должны были это почувствовать, как умел все чувствовать я. Однажды, когда я досадил матери какими-то дерзкими словами, она ударила меня по губам тыльной стороной ладони. Губы мгновенно распухли, и я отвернулся от матери, так и не проронившей ни слова. Для всех мои речи были невыносимы. Я стал молчуном, и мое молчание оказалось еще более невыносимым, тогда я снова заговорил, и мои речи досаждали больше, чем молчание. И вот теперь вновь открылись те самые наглые уста, которые мне зажимали в детстве, и я стал еще более дерзким. С горящими губами я вышел из комнаты и решил, что отныне не скажу никому ни слова, даже матери. В меня вселилось великое ожесточение. Теперь я был лишен и такого орудия, как речь, я не мог говорить то, что думаю, но, возможно, именно поэтому я стал еще больше думать, размышляя о себе и о других. Когда школьный учитель на уроке естествознания сказал, что в следующий раз мы будем говорить не о рептилиях и млекопитающих, а о человеке, и при этом упомянул скелет, который принесет с собой, на меня напал такой страх, что я начал заранее придумывать, каким образом избежать предстоящего урока: рубануть топором по руке или повредить ногу. Я не мог найти ответа на вопрос, был ли живым существом тот скелет, в котором я видел персонифицированную смерть, листая иллюстрированные книжки по истории крестьянской войны и уже тогда разглядывая репродукции картины Ретеля «Пляска смерти». Или же это всего лишь составленная из костей совершенно безобидная, хотя и жутковатая марионетка? Воплощенная смерть держала в руках косу и занималась своей жатвой, она скакала к нам, оседлав нашу Онгу, наносила смертельную рану свинье и бросала ее к ногам людей. «Вот вам, ешьте до отвала. Завтра и послезавтра я опять навещу вас и появлюсь еще десять раз до полного искоренения семейства, копите жирок, тучнейте, нажирайтесь, пейте молоко и ешьте сало, я буду забивать для вас скотину, ну а потом возьмусь за людей». Если в свое время кто-нибудь из деревенских развеял бы эти детские фантазии, мне бы теперь, скорее всего, не суждено было писать. Меня преследуют те же фантазии, те же страхи, чтобы выйти из головы в виде строчек прозы и навсегда присохнуть к бумаге. Я действительно не был уверен в том, что этот скелет не окажется однажды у моей двери, я содрогался при мысли, что он войдет без стука, направится прямо ко мне и выдернет меня из постели. Но может быть, это – любезная смерть? Она непременно постучит и, дождавшись приглашения, войдет и присядет у моей кровати, приложит к моему лбу руку, проверяя, нет ли жара, и в тот момент, когда она коснется моей плоти, температура подскочит и я буду пылать и раскаляться до тех пор, пока не похолодею. В религиозных книгах я видел золотую лестницу, ведущую на небеса. Знаешь, мама, я поднимусь по ней и на каждой пятой или десятой ступени буду смотреть вниз, на твою голову, и махать тебе рукой с лестницы Иакова. А взойдя на небо, стану ангелом в золотых одеждах, другой мальчик из сонма ангелов снимет с меня убогую крестьянскую одежку, ведь на ней полно заплат и пыли. Мы с Фридлем Айххольцером убивали рыжих муравьев, вместе ловили медяниц, ходили на сенокос, вместе сражались, пусть даже друг с другом, на шахматной доске, тесня короля и королеву пешками в крестьянских башмаках и конями, вместе таскали щук из лугового ручья и форелей из горного. Мы вместе стояли на коленях у ног священника, перед алтарем, в красном, а порой и в черном облачении причетников, а теперь оба хотим подняться в небо по золотой лестнице и превратиться в ангелов. Потом наступил тот день, когда мне хотелось надолго прильнуть губами к губам Якоба, чтобы умереть, отравившись его трупным ядом, но я стоял у гроба с его холодным телом и ревел, как зверь, и на мой рев прибежал кладбищенский сторож и положил руку мне на плечо. «Якоб не умер», – сказал я сторожу. «Якоб умер», – ответил он. «Якоб не умер», – повторил я и дернул плечом, чтобы стряхнуть с него пропахшую кладбищенский землей руку. Я пошел в хлев, где на вмурованном в стену крюке висели веревки для выпаса телят. Я тронул веревки и тут же отпрянул, словно прикоснувшись к клубку ядовитых змей. Я посмотрел на корову, перевел взгляд на теленка, и у меня возникло сильное желание умертвить этих тварей, да, после смерти Якоба я, если бы мог, стер бы с лица земли всю деревню. Я ненавидел здесь все и всех. Мне была враждебна даже вода деревенского ручья, эта кровь гор, стекающая в Драву. На всех деревьях сидели новорожденные сычата. А все деревенские умывают руки, на Троицу они снова соорудят перед своими домами алтари, возложат бесчисленные розы и лилии как жертвенный дар к стопам боготворимого скелета на кресте, упадут на колени перед этими алтарями на полях и подворьях и начнут гундосить свои песнопения. И сотни этих богомольцев двинутся вслед за священником и четырьмя его прислужниками по проселкам вокруг церкви. На повороте священник сделает остановку, повернется в сторону поля, поднимет над головой ковчежец со Святыми Дарами, в который втиснуто Тело Христово, и заголосит: «Пресвятая Владычица наша», «Тебе, Иисусе, жизнь моя» и «Тебе, Иисусе, смерть моя», но никто из этих людей не знает, что после смерти Якоба это его тело, пресуществленное в просфору, а не Тело Христово заполняет дароносицу. Они поклоняются телу Якоба, поедают его облатка за облаткой, перед ним благоговейно опускают головы у решетки исповедальни, ему возносят молитвы, а потом встают и, не поднимая глаз, ни на кого не глядя, с телом Якоба в желудках возвращаются на свои скамьи. Ради этого праздника срубают сотни берез, чтобы утыкать ими обочину улицы – вертикальную балку распятия. Каждый уносит домой освященную березовую ветку и кладет ее за икону или за портрет покойного родича. Никто не хочет отламывать ветки тех берез, что удалены от алтарей, следует обдирать самые ближние, там, где еще блестят капли святой воды и витает благословение священника. Перед алтарями, которые превращают деревню в подобие сцены, прямо на земле стелют красные ковры, на такой ковер может ступить только нога священника. Иногда я осмеливался коснуться ногой уголка ковра, и у меня было такое чувство, будто я приблизился к бархатному сердцу Христа, дабы поцеловать его, а Спаситель склоняется ко мне и целует меня в лоб. А может быть, Бог карает тех, кто молится на него. Может, он не хочет, чтобы его так превозносили и ублажали. Допустим, он вообще не считает себя достойным поклонения людей, ведь он, как рассказывал нам священник, сам был человеком, а мы суть то, чем когда-то был Христос, не пожелавший таковым остаться. Процессия в честь праздника Тела Христова продолжает свой путь. Мария, кухарка священника, произносит молитву и начинает песнопение, все вторят ей. Шествие приближается к следующему, самому роскошному алтарю в деревне, он установлен перед домом первого сельского богатея. Вместо красного ковра землю устилает россыпь алых лепестков, которые можно принять за языки Спасителя. Несколько лепестков прилипло к подошвам священника. Он снова поднимает и опускает дароносицу с телом Якоба и размахивает им, совершая крестное знамение. Воцаряется тишина. Все ждут, когда священник повернется для благословения паствы и вновь начертит в воздухе крест телом Якоба, сделав два взмаха – сверху вниз и справа налево. Прихожане дружно бухаются на колени и стыдливо потупляют взоры. Дядя Эрвин, Йогль Симонбауэр, Адам Кристебауэр и Готфрид Кройцбауэр на четырех горизонтальных шестах несут небосвод, то бишь балдахин, под которым идут причетники, сопровождая с обеих сторон священника, а стало быть, и Святые Дары. Временами я поглядывал на синюю ткань балдахина и вышитые на ней желтые звезды. Мой отец, Адам Кофлер и еще двое мужчин с синими фонарями в руках сопровождают балдахинщиков. А дальше идут девицы, белея подвенечными нарядами, но они уже не Христовы невесты, они – невесты трупа Якоба, превращенного в просфору. За невестами Якоба следует Мария со своими чтецами и певчими, а за ними тянется деревенский люд, впереди женщины, позади мужчины. Среди женщин я вижу свою мать, у нее в руках – молитвенник и зеленая пластиковая сумка, а в петлице – бутон алой розы. Переходя к очередному алтарю, мы спускаемся по вертикали креста, то есть по улице, которая носит теперь имя уже покойного священника, мимо бесчисленных берез, понатыканных вдоль мостовой, и приближаемся к зданию школы и самому большому распятию, что стоит напротив нее. Балдахин замирает на месте, священник опять ставит на алтарь ковчег с телом Якоба, рядом кладет молитвенник, кропит святой водой Спасителя и крестится. Удивительно, что на лице Иисуса не дрогнул ни один мускул, самого-то меня просто передергивает, когда брат брызжет мне в лицо водой. Священник берет кадило, смотрит на багрово мерцающие уголья и дует в сторону распятия. Благословив Спасителя, он снимает с алтаря дароносицу и Святыми Дарами, пресуществленной плотью Якоба благословляет свое стадо, рисуя в воздухе крест. Вот и сам он встает на колени перед самым большим распятием, целует ноги Спасителя, поднимается и, повернувшись лицом к пастве, подает знак балдахинщикам. Процессия вновь начинает движение под аккомпанемент молитвословия и песнопения, проходит мимо сада Айххольцеров и сада Книбауэра, а возле открытых ворот сенного сарая богомольцы вспоминают удавленника Петера Ханса и шепчут краткую молитву. Я осматриваюсь, чтобы найти глазами мать, тем временем шествие уже достигает ворот кладбища и по мощеной дороге, проложенной между могил, направляется к церкви. Здесь, в прохладном полумраке, мелькают руки прихожан, утирающих пот. Священник подходит к алтарю и помещает извлеченный из дароносицы серповидный сосуд с телом Якоба в дарохранительницу. С бокового алтаря спускается Иисус и благодарно склоняет голову перед прихожанами и священником, который пронес его мертвое тело через всю деревню.
Балдахинщик Адам Кристебауэр своими руками снял петли с казнивших себя Роберта и Якоба. За этот милосердный жест я готов тысячу раз благодарить его. В моем воображении постоянно повторяется картина того вечера. Адам Кристебауэр поднимается к сараю священника, луч карманного фонаря падает на повисшие в воздухе четыре ступни, Адам вздрагивает, луч ползет выше, скользя по коленям, бедрам, высвечивает верхнюю часть тела каждого и задерживается на свитере Якоба, потому что Адам Кристебауэр, самый сильный человек в деревне, боится осветить лица парней. Он, первый силач в округе, начинает плакать. Пятно света подрагивает на свитере Якоба. Адам смещает его чуть вправо и влево, чтобы можно было разглядеть рукава и пальцы Якоба, но направить луч фонаря на лица Адам все еще не решается. Он смотрит на сцепившиеся руки обоих, кисти повернуты вверх так, будто их пытались сложить для молитвы. Луч опускается, вновь скользя по ногам и ботинкам, потом резко устремляется вверх и вырывает из темноты мертвое лицо Якоба, Адам роняет фонарь и закрывает глаза руками. И хотя в заброшенном сарае – тьма кромешная, он чувствует, что закрытые ладонями глаза погружены в какую-то иную, более глубокую тьму. «У меня в глазах потемнело». – Адам Кристебауэр достает из кармана кухонный нож, перерезает веревку и подхватывает Якоба, мертвое тело Роберта с шумом хлопается на землю, а может быть, Адам пришел в сарай не один, и второй человек успел подхватить Роберта. Адам Кристебауэр кладет Якоба на сено. Все попытки вернуть его к жизни безуспешны. Адам прижимается губами ко рту Якоба, чтобы своим дыханием заставить дышать его, но тот совершенно неподвижен, даже веки не шелохнутся. Адам Кристебауэр начинает молиться и призывает на помощь Христа, ведь воскресил же Спаситель Лазаря, но Иисус не приходит, не превращает кровь Якоба в вино, которым можно было бы опьянить всех деревенских прихожан, не оживляет Якоба, Якоб мертв и уже никогда не будет жить, его жизнь оборвана на восемнадцатом году. Адам Кристебауэр встает на колени перед телами обоих юношей и молитвенно складывает ладони. Потом он перенесет мертвых парней в свою машину и, не оглядываясь на проклятое место – гниющую голову распятой деревни, поедет по вертикальному бревну креста, чтобы привезти Якоба домой, но до этого в сарае появятся полицейские, они конфискуют орудие самоубийства, положат его в пластиковый мешок, займутся отпечатками пальцев и, конечно, поставят в известность газеты и радио Каринтии. Мир рухнул для Якоба, земной шар вместе с ним летит в преисподнюю, сгорая в адском огне. Я думаю о давно стертых крестных знамениях, осенявших его лоб, его уста, его грудь, его член. Я думаю о благословенных крестом бедрах в блестках светлых волос, о благословенных коленях, пальцах ног, и поскольку никто не совершал над ними крестного знамения, когда Якоб перед последним омовением лежал на ложе, убранном пшеничными колосьями, я делаю это здесь, прикасаясь к коже этой бумаги, я переворачиваю его тело и осеняю крестом подошвы, мышцы голени и подколенные впадины так же, как благословил бедра. Я повторяю этот знак над его вывернутым позвоночником, над лопатками и перекрученным шейным позвонком, над затылком и еще раз надо лбом, с которого начал. Я вновь благословляю крестом его уста и грудь, его пупок и член, его бедра, икры и все десять пальцев ног.
Мать поднимается по шестнадцати ступеням нашей лестницы, и я, глядя вниз сквозь стенку живота, наблюдаю за мельканием носков ее туфель. По их цвету я могу определить: утро на дворе или вечер. Если это черные туфли, значит, мать направляется в спальню деда и бабушки, как всегда перед обедом. Если же это коричневые мягкие шлепанцы, я могу быть уверен, что мать идет спать. Зайдя в постирочную, она разувается, стягивает с себя чулки и снимает халат. В бюстгальтере и трусах она маячит у окна, я поднимаю голову в ее стеклянном чреве и тоже смотрю в окно с видом на соседний дом, в окне которого маячит беременная соседка, глядя на мой будущий родительский дом, а ребенок в ее стеклянном животе, как и я, приподнимает голову, мы вновь встречаемся взглядами, и я кричу: «Бритву! Бритву!» При этом я смотрю на оконное стекло, в котором отражается лицо матери, и пытаюсь угадать по нему, поняла ли она меня или по-прежнему в странном забытьи глядит на кончики своих грудей. Ногти у меня еще не выросли, я пока не могу разорвать плодную оболочку, а мне так хотелось бы выбраться из материнской утробы, я бы перебежал через мостик, чтобы получше рассмотреть младенца в стеклянном животе, я хочу наружу, мне уже невмоготу терпеть столько физических мук. Мать как лошадь работает в хлеву, на кухне и в поле. Сколько ведер с горячей картошкой ей приходится поднимать и тащить через весь двор. Когда ее тело корежится от тяжелой ноши, я корчусь в стеклянном животе и со страхом поглядываю на курящуюся паром картошку, которую она бросит в кормушки свиньям. Этот пар застилает все и мешает обзору. Своими ослизлыми ручонками я пытаюсь очистить от мути стекло брюшной стенки, я скребу и скребу, но оно не становится прозрачнее. Я снова поднимаю голову так, что мой подбородок тычется в пупок матери, силюсь докричаться до нее, чтобы она взяла ведро с картошкой в другую руку. Мой взгляд притягивают искрящиеся кристаллики снега и следы, оставленные на нем подошвами моего будущего отца, я могу часами и целыми днями предаваться лишь одному занятию – созерцанию этих следов. На них видны даже пунктирные узоры, отпечатанные гвоздями, которыми подбиты башмаки, а при морозце эти следы твердеют, превращаясь в ледяной рельеф, и по утрам, когда мать начинает таскать ведра с картошкой, я могу любоваться им. Это – единственное произведение искусства, впечатлявшее меня в ту пору. Сквозь прозрачную оболочку своего убежища я имел возможность видеть написанные маслом картины в домах соседей, но ни одна из живописных физиономий не привораживала меня так, как следы на снегу моего будущего отца. Когда мать, закутавшись в тяжелое пальто и поглаживая живот, сидела на дерновой скамье и смотрела на сероватый снег, я тоже часами не сводил с него глаз, чтобы наглядеться на следы отцовских башмаков. Я мог пересчитать все гвоздики: раз, два, три, четыре… двенадцать на левом и столько же должно быть на правом, но я обнаружил, что из правого один гвоздик выпал. Я созерцал двадцать три лунки, пока мать в черном пальто сидела на скамейке и смотрела на сероватый снег. Он был с грязцой, потому что из ворот хлева постоянно валит теплый смрадный пар, а из сарая летит на двор сенная труха. Когда батрачка поддевает вилами охапку сена, в сарае – пыль столбом, эта пыль через открытые двери и широкие щели в дощатых стенах попадает на и так уже заметенный балкон, часть ее оседает на паутине, а часть, прорвавшись сквозь эту сеть, летит во двор и серой пеленой ложится на снег. От навозной кучи идет пар утром и вечером, поскольку в это время батрак подвозит к ней то, что выгреб из хлева, воздух становится чище только ближе к обеду, когда солнце пробивает облака и вся деревня искрится мириадами снежинок и ледяных звездочек, и мои глаза в материнской утробе тоже начинают сверкать, как снежные кристаллы, и глаза матери, наверное, тоже сверкают, глядя на бесчисленные блестки, когда она, ступая по следам лошадиных копыт, идет по продольной балке распластанного распятия. К вечеру испарения навозной кучи снова оседают на снег, а мы с матерью уже лежим в постели. Я смотрю на красную плодную оболочку, на свои подрастающие ногти и вновь представляю себе, как однажды ночью уже затвердевшими и острыми, точно бритвенные лезвия, ногтями рассеку красную завесу, выберусь из живота спящей матери и, глядя на свои топающие по шестнадцати ступеням эмбриональные ступни, спущусь вниз, поверну ключ в наружной двери и выйду посмотреть, не перестала ли к полуночи дымиться навозная куча. Потом я проследовал бы на кухню и нашарил бы на репродукторе отцовскую авторучку, чтобы занести свои наблюдения в записную книжку. Я делаю точные зарисовки и, помимо причудливых созданий из пара, описываю и самого себя. Фиксируя измерения конфигурации испарений, я время от времени поглядываю и на заледеневшие следы моего будущего отца. Как было славно, когда мать взбиралась на спину нашей черной лошади, разводила ноги, давала пятками шпоры, а я из стеклянной утробы наблюдал мерное покачивание лошадиной головы, а потом опускал глаза и смотрел на сливавшиеся с вороной шерстью черные волосы в промежности матери. Приятно было видеть по бокам стеклянной выпуклости руки матери, сжимавшие поводья. Я попеременно поглядывал на свои недоразвитые и ее ороговевшие ногти. Как сладостно кружилась голова, когда мать, перекинув одну ногу, слезала с лошади, и я из своего стеклянного футляра мог видеть опрокинутую на миг деревню. Какой отрадой были те мгновения, когда по дороге с сенокоса мать присаживалась в какой-нибудь низинке, оголяла нижнюю часть тела и затевала игру со своим детородным органом, да так, что меня начинало укачивать. Тыльной стороной ладони она стирала пот со лба. Сок, стекавший по ляжкам, она как промокательной бумагой осушала клочком жухлого клевера, а вокруг прыгали кузнечики. Мне было приятно, когда мать забредала в болото и, усевшись на кочку, под звуки лягушачьего оркестра втыкала себе во влагалище стебельки болотных лютиков, и букет крупных желтых цветов опушал все подбрюшье. С глазами, полными слез, мать сидела на кочке, а какая-нибудь лягушка ловила беззубым ртом ее указательный палец. На снегу я видел не только следы моего будущего отца, но и следы запечатленных на иконах святых, следы священника и Марии, батраков и батрачки, детских ног и павлиньих лап, кто только не оставлял на снегу знаков своего пребывания, к которым я долго присматривался. Однажды на белоснежном кресте деревни я обнаружил следы Иисуса и следы дьявола моего детства, у него одна нога была звериная, а другая человечья. Увидев следы моего увечного ангела-хранителя, я пришел в ужас оттого, что рядом с ним тянулась вереница следов скелета, вооруженного косой.
Я поднимаю голову и сквозь стеклянную скорлупу смотрю на играющие бликами окна в крестообразных переплетах, а бабушка стоит перед зеркалом и расчесывает волосы на прямой пробор, как бы деля свою седую голову на две равные доли, правую и левую. Обе разделенные пряди она сплетает в косы, а для скрепления узлов втыкает в волосы шпильки. Сейчас, когда я пишу: втыкает в волосы шпильки, мне вспоминается то, что, будучи ребенком, а может, уже и подростком, я где-то слышал или читал, скорее читал, чем слышал, поскольку о таких вещах в деревне не говорили. Деревенский священник поучал: есть вещи, о которых не следует говорить, и я ловлю себя на мысли, что мне тем паче хочется говорить именно о таких вещах, они и только они больше всего интересуют меня. Моя задача говорить о вещах, о которых не говорят и обсуждать которые не принято или возбраняется, но я, собственно, хотел рассказать, что мне пришло в голову, когда я нанес на бумагу слова: втыкает в волосы шпильки, хотя мне не следовало бы заводить речь о том, о чем в деревне не говорят. Коль скоро священник предписывал не говорить о тех или иных вещах, я и не говорю об этих вещах, пока нет желания говорить, но сейчас я хочу говорить именно о них и ни о чем больше. Лучше бы он вовсе не упоминал о подобных вещах, так как именно о них-то мне и хочется сейчас говорить, и, выводя на бумаге слова: втыкает в волосы шпильки, я видел перед собой бабушку, втыкавшую булавки в своего крохотного внука, и не в волосы, а прямо в черепушку, которая еще по-младенчески мягка, состоит не из костей, а из хрящиков, и покрыта волосами, прораставшими сквозь булавочные головки. Утыканный бесчисленными булавками, он сосет материнскую грудь, а мать и не знает, что его голова щетинится булавками, что таким образом бабушка хотела убить дитя, не могу сказать – по какой причине, поскольку эту историю я слышал в детстве или вычитал уже подростком в каком-нибудь иллюстрированном журнале, а может, в «Фольксцайтунг», скорее вычитал, чем услышал, так как два десятка лет прожил в деревне, где не говорят о вещах, о которых не следует говорить. А священник был одним из пособников бабушки, о чем деревенские не знали и даже не догадывались, ибо настолько свыклись с тем, что в этой деревне не говорят, о чем не следует, настолько втемяшили себе это в головы, что не ведали иной истины: для того, чтобы выжить, надо говорить как раз о тех вещах, о которых не говорят. Для того-то я и создаю свой язык и работаю над ним до тех пор, пока не смогу говорить только о тех вещах, о которых умалчивают. Бабушка с булавками в белоснежных сединах стоит позади белого гробика, рядом с одетой в черное, безутешной матерью, ведь все матери безутешны в скорби, и бросает мертвому ребенку последние белые розы и прикладывает ко рту пальцы, изображая воздушные поцелуи. Чего же хотела добиться бабка умерщвлением внука? Убить свою дочь, которую давно ненавидела? Возможно, ее тяготило повторение пройденного круга, когда приходится вновь поднимать на ноги дочь с приплодом, ту, что сама-то была, в сущности, нежеланным ребенком? Я уже не могу описать злое лицо бабки таким, каким его видел, но мог бы описать его так, как вижу теперь, а теперь я вижу злое старушечье лицо совершенно иначе, нежели тогда. Я вижу только злые черты, но не злое лицо этой старухи, вижу злую гримасу, злую складку, злую личинку, из которой вылупится бабка. Она вернется в образе животного и прыгнет мне на тыльную сторону ладони, когда мои пальцы бегают по клавиатуре пишущей машинки, словно по клавишам рояля, и я сочиняю свою музыку, а мне несмотря ни на что трудно представить себе лицо старухи в тот момент, когда она вонзает крошечные булавки в голову ребенка. Мне бы сейчас воткнуть такие булавочки в голову какой-нибудь кукле и вообразить, что это вовсе не кукла, а живой младенец, обреченный на смерть от бесчисленных уколов, вот тогда мне, может быть, удалось бы представить себе лицо бабки, которая на самом деле воткнула множество маленьких булавок в детскую головку. Наверное, мне надо выйти на улицу и попросить какого-нибудь ребенка, чтобы он ударил меня, тогда я, возможно, размазывая по лицу кровь, вернулся бы в комнату, встал бы перед утыканной булавками куклой и вообразил, что это – тот самый ребенок, голову которого я изъязвляю булавками, а не кукла, и на меня смотрит объектив кинокамеры, фиксируя на пленке черты моего лица, которые я смогу потом уловить на экране; мне придется вглядываться в них сотни, даже тысячи раз, чтобы, изучив досконально, описать их, тогда я, возможно, сумею вообразить, как выглядела бабка, когда вонзала крошечные булавки в голову ребенка, и как изменились ее черты, но при этом я должен буду учитывать, что передо мной все-таки мои же глаза, жадно наблюдающие, как я изъязвляю голову ребенка, зажав ее в тисках бедер. Но я сейчас не вожусь с куклой и никого не заставляю бить меня, я отвожу, отбиваю эту боль и воткну иголки не в куклу, а в голову ребенка, и тогда я не смогу с достаточной уверенностью узнать в своих собственных, запечатленных на пленке чертах истинные черты старухи, действительно исколовшей всю голову ребенка, нет, мое лицо оказалось бы лишь гипотетической копией ее лица, мой мерцающий злобой взгляд лишь гипотетически воспроизводит ее взгляд, а руки, скорее всего, дрогнули бы во время экзекуции, тогда как бабка орудовала булавками невозмутимо и расчетливо. Я выглядываю из окна, словно пытаясь найти ребенка, того, кому на самом деле, а вовсе не кукле, хочу воткнуть в голову булавки, но поскольку у меня вообще нет желания доводить до конца начатые истории и сам я отнюдь не рассказчик, я вновь вижу перед собой бабку, о которой скорее читал, чем слышал, что она вонзала крохотные булавки в голову ребенка, я вижу сквозь стеклянную оболочку материнской утробы: бабушка Энц стоит перед зеркалом и расчесывает волосы на прямой пробор, как бы деля седую голову на две равные части, правую и левую. Обе разделенные пряди она заплетает в косы, а для скрепления узлов втыкает в волосы шпильки.
Закутавшись в пальто, мать стоит у двери и ждет отца, который наконец оторвал руку от лошадиного бока, она смотрит на черную точку – ночную птицу, прилепившуюся к балкону над воротами хлева. Мать поднимает глаза на конек крыши, сосредоточивается на громоотводе и вновь видит стрелы молнии перед входом в хлев ее отца, и опять в ушах – крики людей и рев скотины, мольбы о спасительной помощи пожарных и громкий плач дяди Эрвина, ставшего, по сути, хозяином усадьбы. Ее больное сердце стучит надрывно, и она видит сердце своего брата, видит его содрогание, видит, как слюна изо рта Эрвина нитью тянется к его бедру, и эта длинная нить, словно шнур марионетки, заставила бы его пригнуть голову, если бы он не оборвал ее взмахом руки. Запахнув темное пальто и глядя на сверкающие снежинки, она видит разинутый от ужаса и удивления рот деда Айххольцера, прикованного болезнью к своему дивану, она помнит старческую руку, которая беспомощно тянулась вверх и тут же падала. Сестра матери присаживается на край дивана и говорит, что все занимаются тушением пожара. «Твой амбар не сгорит, пожарные уже взялись за дело, вся деревня сбежалась с ведрами, все, слава Богу, помогают, выводят скотину из хлева». А дедушка Айххольцер говорит сестре моей матери, чтобы она не забыла про павлина, его надо поскорее на волю, подальше от огня, прямо сейчас. Мать, окутанная ночной тьмой, все еще топчась позади дома в ожидании отца, смотрит на искрящийся снег. Она ступает по следам отца и оглядывается, как бы настороженная какими-то звуками, но ничего, кроме скрипа снега под ногами, вокруг не слышно. Зрачки моих внутриутробных глаз сверкают, подобно бессчетным снежным звездочкам. Мне бы очень хотелось закрыть глаза, но поскольку веки у меня еще не выросли, я не могу защититься от потока зрительных впечатлений и вынужден терпеть то же, что и мать, и видеть все, на что смотрит она. Когда у нее кровоточит душа, у меня пылает кровавым румянцем лицо и я начинаю, как безумный, размахивать ручонками. Иногда я вижу перед собой какое-нибудь животное, иногда кого-то из деревенских, но чаще всего – бабушку Энц, которая постоянно талдычит матери, что та чего-то не умеет и еще многому должна научиться. Проплывая в своей прозрачной капсуле мимо бабки, я всякий раз смотрел ей прямо в глаза, поднимал свою эмбриональную голову с готовностью дать отпор, но старуха не замечала меня, да и не могла заметить, поскольку не знала, что у меня целых девять месяцев для изучения мира за стеклянной стенкой, а этого вполне хватит, чтобы решить для себя, стоит мне появляться на свет или не стоит. Я вынужден быть свидетелем того, как мать забивает кур. Когда на ее стеклянный живот летят кровавые брызги, я моментально подаюсь назад, мать пошатывается и, чтобы не упасть, хватается рукой за облепленную каплями водопроводную трубу хлева. Она тут же отдергивает руку, так как сгоряча не сообразила, что металл страшно холодный и прикосновение к нему может обжечь. Она делает два-три неуверенных шага, роняет топор и наступает на петушиную голову. По коже матери пробегают мурашки, когда, стряхнув с подошвы липкий комок с красным гребешком, она ковыляет к стойлу с дойной коровой, припадает лбом к теплому коровьему боку и постепенно впитывает его тепло. Я скашиваю глаза и смотрю на растоптанную петушиную голову, один мертвый глаз наполовину выдавлен и, как мне кажется, буравит меня взглядом. Я поднимаю свои мокрые от слизи руки и кричу: «Ура! Победа! Не сносил головы! Так тебе и надо!» Мне очень хочется стереть капли крови с наружной стороны живота, чтобы получше видеть поле битвы. Мать все еще прижимается лбом к коровьему боку, и тут ее начинает тошнить, живот подпрыгивает, и я замираю в надежде, что вместе со рвотой она вытолкнет через пищевод и меня. Возможно, я упаду лицом в навоз или в рвотную жижу матери и, скорее всего, захлебнусь. А может, корова в испуге рванется с места и растопчет меня. Или проснется одна из летучих мышей, повисших на водопроводной трубе, и, спланировав вниз, подхватит меня и унесет в замок своего графа, который, как я слышал, питается человеческой кровью и повсюду имеет своих верных слуг: в хлеву, на подворье священника, в лачуге безземельного крестьянина, даже в церкви, там, где стоит орган, откуда рукой подать до языка колокола, что раскачивается прямо над лысиной звонаря. Я поднялся бы с сенной подстилки и, мигом вскочив на черную спину лошади, по вертикальному бревну креста помчался бы вниз в поле, к своему будущему отцу, а он, небось, стоит во ржи, щупает колосья на предмет спелости, улыбается им и шепчет вкрадчивым голосом: «Вот станете вы хлебушком, буханочками, и построю я вас по-военному на полках кладовки, мы будем вас кушать, чтобы набираться сил, а по весне снова посеем и вырастим, а в конце лета опять будет жатва, и мы снова испечем из вас буханочки, чтобы стать еще крепче». Подскакав к самому краю поля, я вижу, как отец борется с одним из колосьев, душит его, треплет и кричит: «Чтобы через год опять был урожай, чтобы мы опять напекли из вас хлеба, чтобы набраться сил и по весне снова вас посеять, чтобы вырастить, чтобы сжать в конце лета!» Я вижу, как колос обстреливает своими зернами морщинистый лоб отца, вижу, как яростно рассекают воздух отцовские кулаки, как оба они, отец и колос, в смертельной схватке катаются по полю, пока один из них не вытягивается на земле. В ходе борьбы они кубарем вкатились на чужую пашню, принадлежавшую недругу отца. И отсутствие этого крестьянина, должно быть, испугало бы отца больше, чем его присутствие, когда, стоя у межи, он мог гаркнуть: «Проваливай, горбаться и подохни на своей земле». Отец вспоминает военные годы, когда погибли братья его жены, один в России, второй – неизвестно где. И хотя у нас на кладбище есть могила с крестом и именами обоих, плоть их истлела где-то на чужой земле. Из отцовского рта течет слюна, он начинает пускать пузыри, в них застревают налитые яростью слова, и колос с трудом понимает то, что бормочет отец. На его руках и шее вздуваются жилы, кровь все сильнее стучит в висках, в глазах темнеет, растрепанные волосы слиплись. Он продолжает душить колос так, что зерна прямо-таки брызжут сквозь пальцы. Стоя над умирающим колосом, отец, все еще в угаре схватки, хрипло кричит: «Мы будем вас есть, чтобы набираться сил, а по весне снова посеем и вырастим, а в конце лета опять будет жатва, и мы напечем хлебов из ваших зерен, чтобы стать еще крепче!» Последние слова он выкрикивает так громко, что по колосьям на краю поля пробегает дрожь.








