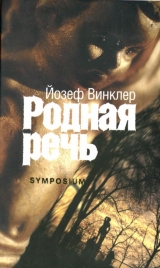
Текст книги "Родная речь"
Автор книги: Йозеф Винклер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 16 страниц)
Пока еще не поздно, надо снять посмертную маску с уходящей на дно Венеции. Пусть ее поднимут сотни самолетов. Возможно, этой ночью, в эти часы полусна-полубодрствования я увидел Венецию лучше, чем в те дни, когда ходил вдоль ее каналов, потому что этой ночью я видел образы тонущего города, которые накопились во мне за минувшие годы. В последние четыре года каждое Рождество я проводил в Венеции, обретался на побережье Адриатики, плавал на судах, бродил по площади Святого Марка, по переулкам, где местные кошки путались у меня под ногами. Я думал об опустевших рождественских яслях в церкви близ Лидо, когда половину Верхней Италии перетряхнуло землетрясение, и о том, кто унес из церкви младенца Иисуса. Сначала мне пришло в голову, что это кощунство какого-нибудь священника или монаха, а может быть, детская шалость, на какую, пожалуй, был способен в свое время и я. Я сижу в первом ряду, смотрю на шествующих церковнослужителей и жду, когда они заметят, что ясли пусты. На алтаре стоит подобие полуразрушенного хлева, создается впечатление, что и его не пощадило землетрясение. Я вижу, как священник зажигает свечи у пустых яслей. Я с недоумевающим видом подхожу к нему. «Поскольку землетрясение в Италии, – говорит он, – унесло много детских жизней, мы удалили святого младенца из яслей, на сей раз будем праздновать Рождество с пустыми яслями». Рыба смотрит прямо на меня и стыдливо опускает глаза, потому что она всего лишь животное. Ни один венецианец не решится купить рыбу, бьющуюся в предсмертных судорогах. Это крестьяне и ремесленники под ударами бича волокут по снегу венецианскую гондолу. Некто идет за ними и стегает их по спинам. Я вижу небритые лица истязаемых, вылезающие из орбит глаза, когда тела напрягаются, чтобы сдвинуть с места гондолу на снегу, по которому я сейчас иду с намокшими волосами, тыча палкой в хвойную гущу еловых лап. Снег падает на меня, оседает на плечах пальто, и они становятся такими тяжелыми, будто я несу на себе ребенка, что живет за моим затылком и, поводя глазами, следит за падающими хлопьями, но тем не менее я в полном одиночестве бреду, увязая в снегу, и мое дыхание громче храпа лошади, когда у нее с губ летят клочья пены, а из ноздрей вырываются струи пара. Мои ресницы опушены снегом, на пальцах ног сосульками нарастает лед, они такие же длинные, как когти вурдалака, но когда я упираю руки в бедра и сажусь на скамейку из дерна, я могу наблюдать, как сосульки на пальцах начинают таять под лучами полуденного солнца. Я скольжу взглядом по занесенному снегом болоту и вижу крестьян и ремесленников, которые по прихоти господ под ударами бича волокут через сугробы гондолу в Германию. Иногда я отрываю взгляд от телевизора и поглядываю на студентов, мне интересно, что они еще могут делать, если не звякают бокалами и высокоумными словечками. По телевизору шел фильм про Мольера, который нам милостиво разрешили смотреть в студенческом клубе на Университетской улице, и тут один длинноволосый объявил, что каждый из нас должен заполнить карточку и уплатить десять шиллингов. «Сначала фильм досмотрю», – сказал я. После того как Мольер умер, я написал на формуляре свое имя, положил на стол десять шиллингов, попрощался, не скрывая своей неприязни, и поспешно спустился по лестнице под нарастающий гром поп-музыки у меня за спиной: «Светлый венец вокруг черепа, бедному покойничку спроворили четыре доски, одну слева, одну справа, одну снизу, одну сверху, один гвоздик в левом углу рта, один в правом, а посередке – жизнелюб, четвертый гвоздь держим в левой руке, ведь в правой у нас молот и серп, теперь заколачиваем гроб, мы, гонимые и проклятые, кто хочет переделать троны в деревянные лежаки». Мне снилось, как я сижу в самолете, пролетевшем над самыми трубами венецианских домов. Я смотрел на головы людей, на мельтешение ступней и рук. Уменьшенные расстоянием до кукольных размеров фигурки шагали по каменным и деревянным мостам, вели на поводках детей и несли на руках комнатных собачек, они копошились у фруктовых и рыбных лавок, доставали купюры и монеты. Бесчисленные ладони разжимали и сжимали пальцы. Я видел то острый носок туфли, то сверкнувшую пятку, видел волосы, скрывавшие плечи женщин, а раскрытые листы «Il Gazzettino» были не больше маленьких книжек. Когда я шел по одной из улиц Лидо, меня вдруг охватил страх, мне представилось, что я попал под колеса автомобиля, и я увидел себя плачущим калекой в инвалидной коляске и с пластмассовой машинкой в руках. А может, и впрямь сидеть мне в коляске на берегу моря, любуясь восходами и закатами? Кто-нибудь щелкнет фотоаппаратом у меня за спиной и сделает идиллический снимок – водитель кресла-коляски на фоне заката в курортном городе Лидо. Возвращаясь поездом в Венецию, я занял место напротив женщины, читавшей иллюстрированный журнал, в надежде, что она предложит почитать его мне, а я откажусь от такой любезности. У одного господина в кафе «Флориан» из кармана пиджака торчит бумажник, глядя прямо на меня, будто желая меня украсть. Мясник в лавке на Корсо держал в руке окровавленный карандаш. Я обратил внимание на туриста, который не пропускал ни одного киоска, чтобы увидеть Венецию на открытках, Венецию в Венеции он не видит. На кладбищенской лужайке четверо мужчин в синих комбинезонах работали косами. Я думал о персонифицированной смерти моего детства. Скелет со стальной косой через плечо шагал по телам и головам, издававшим предсмертные хрипы. А теперь рабочие в синих спецовках машут косами над мертвецами венецианского кладбищенского острова. На многих крестах – цветные и черно-белые фото. Цветные пугают меня, черно-белые больше подходят для покойников.
На обложке иллюстрированного журнала «L'Europeo» – Папа в спортивном костюме. «Божественный атлет» – гласит подпись под фотографией. На площади Святого Петра появляются две монахини, у одной – распятие на связке ключей, за ними идет голый по пояс рабочий с Библией под мышкой. На ступени лестницы, ведущей к собору Святого Петра, я вижу двух пчел в корчах агонии. Я сажусь на ступень и не менее двух часов жду, когда они замрут в полной неподвижности. Мимо проходят двое чернокожих, они направляются к усыпальнице пап. Девушка в красном, молитвенно сложив руки, стоит у надгробия Папы Иоанна XXIII, он лежит в саркофаге, на нем – красные одежды. Какой-то мужчина возле гробницы держит на руках ребенка с соской во рту, который внимательно рассматривает розы. Несколько немок приникают губами к гробу Иоанна Павла I. Одна из них целует кончики своих пальцев, освященных прикосновением ко гробу. Юноша лет восемнадцати встает на колени перед усыпальницей и целует каменную плиту. Какой-то ребенок прикладывает ухо к боковой стороне гробницы Иоанна Павла I. «Господь выше и больше того, что о нем сказано и написано» – так называется доклад, который состоится сегодня в Риме. У малосимпатичного мужчины на перекрестке я спросил, как пройти на Пьяцца дель Пополо, однако первое впечатление оказалось обманчивым, он только и ждал, как бы быть полезным кому-нибудь. У магазина, где продают джинсы, на улице, впадающей в Пьяцца дель Пополо, какая-то женщина вытирает бумажным платком кровь на ноге. Мимо проезжает полицейская машина с траурным венком на крыше. Женщина в машине заламывает руки, взвизгивают тормоза и покрышки, автомобили, что спереди и сзади, резко останавливаются, и я в ужасе от того, что ничего не случилось. Если я порой испытываю счастливое чувство близости к смерти, то при этом ощущаю, однако, неимоверную жизненную силу, когда с крайним напряжением ножных мышц мне удается выскочить буквально из-под колес машины, с визгом тормознувшей на бульваре Бруно Буоцци. Я послал матери открытку со снимком собора Св. Петра. Над куполом храма как бы парит голова Папы. Я ходил в парк Боргезе и наблюдал у колоннады мальчиков легкого поведения. Они стояли в окружении такси и прочих автомобилей. Я видел заморенные лица, женственные движения, кокетливое подмигивание, при ходьбе – старательное раскачивание тощими бедрами. Ко мне подъехала какая-то машина, сидевший в ней парень высунул из окошка руку с сигаретой: «Fiammifero?» – «Purtroppo signore!»[12]12
Увлажняющий лосьон для рук и тела (англ.).
[Закрыть] Он покатил дальше. В смятой сигарете я увидел его отчаяние. Мне пришел на память Пазолини. Про свою вражду с отцом он сказал, что не чувствовал к нему ничего, кроме ненависти, пока, взявшись за перо, не понял, что эта ненависть – не что иное, как любовь, затаенная даже от самого себя. Какой странный сумрак притеняет эту римскую улочку! Может быть, такой у нее цвет кожи? Сворачивая в нее, видишь двоих совсем юных чернокожих, сидящих прямо на мостовой. В негритянском квартале я видел белую женщину, которая шла по улице, держа под мышкой пластмассового негритенка. Сжимая ладонью железный прут, я чувствовал, как большой палец нащупывает кончики четырех других. Когда я писал эти заметки, мальчишка-официант указывал мне на дверь взмахом руки, каким обычно отгоняют мух. Ему приходится постоянно подчиняться приказам, а теперь, в час закрытия, он сам может приказывать. И в этот повелительный жест он вложил все приказы, которыми его подстегивали весь день и весь вечер.
Подобно тому как другие закрепляют на головах карнавальные маски, я стягиваю на затылке тесемки посмертной маски с ее вечной улыбкой и хожу по ночному городу. Полицейские останавливают меня, задавая один и тот же вопрос: «А что это за маскарад?» Они спрашивают, кто я и чем занимаюсь. Они спрашивают, куда я иду, и навязывают свое покровительственное сопровождение. «Если вы не оставите в покое меня, законопослушного гражданина, совершающего ночные прогулки, если не прекратите досаждать мне, тогда я вместе с вами отправлюсь в полицию». – «А это что на вас надето? Что за штука?» – «Это – посмертная маска». Тут один из них вытягивает антенну из своей рации, и вот уже за мной и моей мертвой улыбкой устремляется белый «фольксваген» с мигалкой. У меня на обеих руках выше локтя имеются желтые полоски с тремя черными точками, сидя за пишущей машинкой, я работаю вслепую.
Ассистент, преподаватель философии, стоя за кафедрой третьей аудитории, листает какую-то книгу, он узнает, что десятки глаз изучают эстетику его самолюбования, наконец он поднимает голову и, прежде чем произнести в качестве приветствия заготовленную цитату, окидывает взглядом своих наблюдателей. Я направляюсь к выходу, к широкой стеклянной двери, она напоминает стенку ландшафтного аквариума, только за ней двигаются не рыбы, а вышедшие на улицу студенты, профессора, чиновники канцелярии, ассистенты и паркующиеся автомобили, похожие на декоративных разноцветных рыбок, которые медленно сплываются и встают в ряды. За евангелической церковью я вижу, как играют в футбол глухонемые. Вот один из них забивает гол, товарищи обнимают его, я вижу, как они порываются кричать и от радости кувыркаются на траве площадки. Когда мяч оказывается в сетке ворот, я, стоя у ограды, вскидываю руки. Судья, тоже глухонемой, подняв указательный палец, назначает пенальти, одни игроки возмущенно жестикулируют, другие радостно бьют в ладони и шлепают себя по бедрам. Я буквально заливался слезами, они катились по щекам, капали с подбородка на кроссовки. Я вижу, как глухонемой с цифрой девять на футболке пытается подозвать своего товарища, машет руками, подпрыгивает и хлопает в ладоши. Игроки гуськом устремляются к кабинкам, там они примут душ и переоденутся. В одном из клагенфуртских общежитий я видел, как глухонемой парень встает под душ, берет мыло и поворачивается ко мне спиной. Он показывает мне выступы позвонков, ложбинку между лопатками, ягодицы, затем вновь поворачивается, и я смотрю на его член. Волосы на голове лежат гладкой пленкой, это – югославский гастарбайтер, который живет в отделении для подсобников. Он оттягивает крайнюю плоть, намыливает головку члена и подставляет ее под струи. Резким движением головы я стряхиваю с волос воду так, что брызги летят ему в лицо. Он намыливает меня, поглаживая мой торс, а я сую мыло ему под мышку.
Тетка живописца жила с кардиостимулятором в груди. Не ее ли посмертная маска говорила со мной нынче ночью? Однажды она расстегнула рубашку и указала на свою неестественно выпуклую грудь. «Здесь, внутри, – сообщила она, – кардиостимулятор, эта маленькая машинка поддерживает во мне жизнь». Художник сидел напротив тетки. Я смотрел на его мясистые волосатые ладони. Фиксируя каждый волосок, я взглядом приподнимал его, выдергивал и вновь сажал в крохотную лунку. Я встаю на ходули, надеваю маску с немеркнущей улыбкой и отправляюсь на кладбище, где обхожу детские могилы и читаю надгробные надписи. У меня даже не хватает мужества жить с улыбкой на лице, а один приговоренный к смерти пишет в последнем письме, что встретит смертный час улыбкой. Изобретатель гильотины доктор Ж. Гильотен говорит о гуманизированной казни. Он утверждал, что в тот момент, когда нож отсекает голову преступника, тот испытывает лишь ощущение освежительной процедуры. Я знаю одного осужденного на смертную казнь, который на пути к эшафоту даже одобрил судью, вынесшего такой приговор. Он просил Бога, чтобы этот судья отправил на казнь еще многих и многих, дабы сам приговоренный на небесах или в преисподней мог находиться в обществе, состоящем исключительно из казненных. Иначе, говорил он, я буду чувствовать себя одиноким, ведь среди тех, кто умер естественной смертью, я не смогу жить ни на небесах, ни в аду. Правда, он и на земле не мог ужиться с людьми такого рода. Недаром он убил одного из них, и, разумеется, зверски, как принято писать в газетных заголовках. Одна из посмертных масок разбудила меня сегодня ночью, я уж и не знаю, какая именно, у меня их пять или шесть десятков, я вынужден искать ее в процессе своей писательской работы, а иначе мне не уснуть, руки у меня связаны, подобно тому как сложены на груди руки покойника, когда я разглядываю посмертную маску эмбриона в материнской утробе. Телевизор с помощью кабеля подсоединен к сонным артериям людей, это – их электрокардиостимулятор с цветным изображением и двумя австрийскими программами. Они видят гомосексуалиста, убивающего девочек, вводя один палец во влагалище – как описывает комиссар полиции, – другой в заднепроходное отверстие, а затем изо всех сил сжимая пальцы до тех пор, пока жертва не испустит дух. Горничная, работающая в богатом доме, по приказу матери убийцы-маньяка укладывает трупы девочек в мешок, нагружает их еще и камнями и топит в реке. Персонажи моих сновидений выходят по ночам из моих уст и располагаются на ночлег под одеялом. Утром они просыпаются вместе со мной, а потом встают в ряд на моем письменном столе, приняв вид синтетических кукол. Я разрезаю ножницы, я расстреливаю ружье, я иду в анатомичку, добываю там лоскутья кожи и пишу на них любовные песни. Я думаю о распятом Спасителе, я заклинал его сойти с Креста и лечь рядом со мной. Пусть сбросит поясную повязку, снимет страшный терновый венец, чтобы я мог утишить губами боль его кровоточащих ран на голове. Помните же о детях, которые видели своими глазами, как врач копается блестящими инструментами в материнской груди, помните о детском кулачке, разбившем стекло и зовущем расколотые очки отца. Помните о двух толстых пуповинах в сарае священника, там никогда не раздавался крик новорожденного, там не поднялся ни один золотой колос из уст покровительницы новорожденных, Марии, ни один теленок не был там привязан передними ногами к лошади и проволочен по петлистой тропе, ни один кровавый ангел из моего детства не шевелил там крылами, и не было молнии, павшей в ноги тому сараю, чтобы начать молиться. Почтальон разносил по домам заголовки, гадюка сама себя отравила, прежде чем пчела ужалила ее в голову и умерла, потеряв жало. Я слащу сахар и солю соль, я даю пить воде, а звериному мясу бросаю человеческое под самые лапы. Мать держит в ладонях два куриных яйца, она чувствует, как тепло яиц разливается по жилам. Я вижу, как в лесу начинают расти в землю все ели моего отца, исчезая прямо на глазах. Я варю поварешку и поддеваю острием вилку. Я рожаю пластмассовых кукол, чтобы родители, достигнув детского возраста, могли бы поиграть ими. Блудный сын обретет в себе отца и, вернувшись, будет принят им с распростертыми объятиями. Урожай уберет себя сам, косуля сразит выстрелом рога, повешенные в охотничьем домике проститутки выйдут на ночную службу в одеждах монахинь. Христианину не придется мечтать о папском престоле, чтобы почувствовать близость к Богу. Все фразы во всех книгохранилищах вновь овеществят себя и разыграют все, что было, а главное, чего не было. Жертву мы осудим на пожизненное заключение, а убийцу оплачем и почтим букетом горицвета. Утробные младенцы будут рожать матерей. Из кончиков волос вырастут лысые головы. Рыбы закинут сети для ловли людей. Ловец человеков будет искать Бога в себе, а находить во мне. Все это исполнится, когда людоеды будут пожирать уже не людей, а животных.
Культи рук у продавца топоров подрагивают, словно щупальца улитки, он точно так же может вбирать и вытягивать свои обрубки. Поскольку у меня нет кистей рук, я продаю топоры без топорищ. Если кто-нибудь из покупателей интересуется деревянной рукояткой, я размахиваю над прилавком пустыми рукавами рубашки в ритме работающего топора, как бы указывая на отсутствие сего товара. Если кто-то говорит: «Вы продали мне тупой топор», – я с улыбкой отвечаю, что продаю себя в своих товарах таким, каков я есть, а не тем, каким хочу быть. Вперед выходит старик с клюкой. Я – коллекционер бабочек. Все бабочки, которые стремятся быть умерщвленными, слетаются ко мне. Молитвенно сложив крылья, они призывают свою смерть. Но я неумолим, я заставляю их жить дольше, чем им хотелось бы. Позовите следующего, пусть подойдет к прилавку и скажет, что ему нужно. Я не продаю топоров, я не собираю бабочек. Больше всего на свете я люблю дерево, я – резчик по дереву, деревенский богорез. Двери моего дома открыты для людей. В этой крестообразной деревне обитают двести душ, поэтому я вырезаю две сотни Иисусов с лицами этих людей, на этом моя работа заканчивается. Пусть войдет следующий, кем бы он ни был: столяром ли, которому заказывают распятия, собирателем мотыльковых куколок или продавцом кукол, ему не часто доводится услышать, что истинно, а что ложно. Я – профессиональный писатель. Несколько ночей назад мне приснилось, что я пишу книгу, которая унесет больше жизней, нежели чума. Пусть войдет следующий. Будь он инспектор моргов или ученый, будь он пчеловод или ветеринар. Я – тот, у кого нет профессии, хотя руки на месте, как у всякого трудящегося человека. Всю жизнь я смотрю на свои праздные руки, ведь я – безработный. Вперед выходит человек с маской на лице и серебристой эмалью на волосах. По профессии я – изготовитель посмертных масок. Часто бываю в морге и топчусь перед прозекторской, ожидая, когда разрешат войти. Иногда меня срочно требуют в какую-нибудь деревню, если умер ребенок или старик. «Отправляемся прямо сейчас! Гипс уже припасен!» Я подхожу к постели покойника и, прежде чем открыть свой докторский саквояж и натянуть прозрачные перчатки, долго рассматриваю умершего. Я смазываю его лицо кремом «Нивея», а порой и свиным жиром, который есть в каждом крестьянском доме, а затем беру ложку и наношу на мертвый лик тончайший слой гипса. Крестьянам, конечно, неведомо, что, склоняясь даже над свиной головой и надевая хирургические перчатки, я работаю над философией посмертных масок. Наверное, в этой стране с красно-бело-красным флагом я – единственный мастер, который снимает гипсовые маски не только с людей, но и с животных: свиней, кур, павлинов, попугаев, кошек и собак. Директор цирка приглашал меня снять маску с лилипута в гробу, установленном прямо на арене. Это был маленький детский гробик. Носки были великоваты покойнику, они немного свисали с пальцев. Справа и слева от гроба стояли две большие красные свечи. Воск капал на опилки, которыми была посыпана арена. На каждое представление, рассказывал мне директор, покойник выходил с красной розой в петлице. После того как я обработал лицо кремом «Нивея» – его подали мне сиамские близнецы, – я покрыл его тонким слоем красноватого гипса. Когда я отделил маску, сиамские близнецы принесли влажный платок и удалили остатки гипса, прилипшие в основном к бровям. Я спросил близнецов, не желают ли они, чтобы я снял с них прижизненные маски, одна голова дала мне положительный ответ, другая – отрицательный. При покупке очередного килограмма гипса мне не удается избежать услужливых предложений продавца, который всякий раз норовит всучить мне краски и валики со всевозможными узорами. Нет, отвечаю я в таких случаях, сегодня мне нужен только гипс. Я говорю «сегодня», поскольку надеюсь, что в следующий раз он опять предложит мне то, в чем я никак не нуждаюсь, ибо когда мне кто-то говорит, что мне следует купить или предпринять, я совершенно точно знаю, чего хочу. Людям невдомек, что создатель масок должен действовать быстрее, чем врач. У покойника черты лица изменяются с каждой минутой. Стоит мне только отлепить маску от кожи, как я слышу голос судьбы в симфонической интерпретации Людвига ван Бетховена. То, что мы, специалисты по созданию посмертных масок, не имеем гарантий ни социального, ни пенсионного обеспечения, для политиков – факт само собой разумеющийся. Однажды некая дама попросила меня снять маску с чучела ее попугая. «Но ведь это же чучело, – возразил я, – то есть нечто, не относимое ни к мертвым, ни к здравствующим». Тем не менее я сделал маску, но мы так и не пришли к единому мнению насчет того, прижизненная она или посмертная. Оставив вопрос открытым, я положил маску на подзеркальник. Прежде чем заняться посмертными масками, я специализировался на прижизненных, но в интересах своего дальнейшего существования мне пришлось переквалифицироваться. Еще в ту пору, когда я снимал маски с живых, мне попался на глаза один молодой горожанин, когда он покупал книжечку Кафки «Свадебные приготовления в деревне». Я пригласил его к себе в комнату. Он сел в стоматологическое кресло, которое я приобрел по случаю, при распродаже имущества покойного зубного врача, с коего снимал посмертную маску. Я уложил голову молодого человека в овальную ванночку, немного приподнял его подбородок и добился удобного для меня поворота головы, подобно отцу, который хочет заглянуть в глаза плачущему ребенку и спросить, почему тот никак не успокоится. «Видите ли, – сказал я своему гостю, разливая гипс на его лице, – я сейчас снимаю с вас прижизненную маску благодаря тому, что вы купили "Свадебные приготовления в деревне", иначе я бы вас просто не заметил, – пояснил я, загипсовав уже половину лица. – Мне хотелось бы снять с вас маску до того, как вы прочтете "Свадебные приготовления", а потом, после прочтения, попросить вас еще раз занять это стоматологическое кресло. Тогда мы с вами сравним черты обеих масок». Пусть войдет следующий, их много на очереди. Я работаю мясником. Я любил всех забитых мною животных, но я мясник по профессии и призван убивать скотину, так как люди живы мертвыми тварями. Когда я вижу кровь животных, из могилы восстает некий человек. Это – сын Бога, он шепчет мне в ухо поэму ненависти. Я вижу, как лошадь тянет по снежному полю большой воз мертвых жеребят. Когда я забиваю ягненка, то по ночам белый голубь, которого я в детстве принимал за Святого Духа, норовит насмерть заклевать меня. Я говорю Святому Духу, что это – не последняя овечка, я убил заблудшую, одну из стада, но даже если и оно исчезнет, никто этого даже не заметит. Убивая кошку, я громко мяукаю, чтобы не слышать ее предсмертных криков. Поскольку люди не всех стран планеты защищены законом об охране природы, я убиваю, греша против природы, я убиваю даже тех животных, которые находятся под защитой закона. По воскресеньям в церкви я вижу, как из рубцов распятого Христа сочится кровь газели, капая на каменный пол. И наблюдаю за собой со стороны: вот я воздеваю в молитве руки и одновременно обрушиваю удар топора на шею газели. Когда я складываю ладони, чтобы говорить с Богом, Господь в том животном, которому предстоит умереть первым, молитвенно складывает копытца, чтобы говорить со мной. Двузубой вилкой я пригвоздил задние лапки лягушки, не тронув передние, которыми она силилась протащить вперед свое мягкое тельце с большими глазами. Вернуть бы это ощущение – тогдашней детской ладони, зажать лягушку в кулаке, но оставить ей малость свободного пространства и с поднятой головой улыбнуться живописным далям, в то время как беспокойный холодный комочек щекочет твою кожу. В фильме «1900» Бернардо Бертолуччи мое внимание привлек мальчик в венке из живых лягушек. Бывало, когда в лугах мне попадались на глаза лягушки с белыми шариками резонаторов по бокам, я садился на корточки прямо перед ними и смотрел в бугорки глаз, лягушки поднимали головы и смотрели на меня, создавалось впечатление, что мы понимаем друг друга. С отцом у меня такого не случалось на протяжении всей моей детской жизни. Либо он опускал глаза, либо я. Изредка мне приходилось садиться напротив него, если бы он лишь чуть приподнял голову, мы бы встретились взглядами. Но я сижу справа и слева от него одновременно, одной половиной здесь, другой – там, а стало быть, могу при малейшем движении его головы моментально опустить глаза. На луговую лягушку я смотрел неотрывно до тех пор, пока на глазах у нас обоих не появлялись слезы. Может быть, люди потому убивают такое множество животных, что думают, будто сами произошли от Бога, а не от четвероногих предков? Или же наоборот, уничтожают их, видя в животном прародителя человека? Но тогда судьям следует хоть раз отправить на электрический стул человекообразную обезьяну. Она совершила более тяжкое преступление. Из обезьяны получился человек. А после люди по своему образу и подобию создали Бога, а человекообразных обезьян посадили в клетки. Я думаю об оленихе, которая могла бы умереть, если бы охотник не потратил пулю на самого себя. Я слышу, как дышит во мне животное. Завтра я закажу в трактире рагу из оленины. Это будут мои поминки. Вот если бы животные могли за деньги брать в лавках человеческое мясо, как люди покупают убоину. Мясо мертвых животных, которое едят дети, продолжает в них расти. С тех пор как я перестал гладить животных, я больше не убиваю их. Была ли когда-либо канонизирована хоть одна тварь? А сыч домовый, защищена ли законом птица смерти? Корчась от смеха и хлопая в ладоши, какой-нибудь сумасшедший сидит на мертвом быке, которого с помощью лошади уволакивают за пределы арены. В этих испанских забавах мне претит тот факт, что в любом случае бык покидает арену мертвым. Острия рогов вонзаются в соски тореадора. Когда венец творения помогает любимой женщине надеть тигровое манто, она благодарно улыбается, а он в это время видит освежеванного тигра, бегущего через заросли. Но он дарит ей все, что она пожелает, у нее перчатки и косметичка – и те из питоньей кожи. Горностаевый хвост согревает ее надушенную шею и кровь сонной артерии. Я слышал, что человек не в силах съесть собственное мясо, желудок не примет. Слышал, что в какой-нибудь экспедиции посреди пустыни или в горах не каждый может закусить собой, начав с руки или ноги. «Уж мы укротим эту бестию Землю», – сказал мой знакомый сейсмолог, когда мы шли через площадь Святого Духа, при этом я заметил, как у него сжались кулаки. Рассказывая о Земле, он не мог обойтись без слов бестия и укротить, он произносил их с особым ударением и лупил кулаками по воздуху. А что сделает земля с теми, кто внес свою лепту в умерщвление природы, когда они умрут и сами лягут в землю? Могу вообразить, как деревья душат покойников в объятиях мощных корней. Возможно, большая часть могильщиков природы предпочла бы кремирование погребению. Слушайте меня, мои отважные воины! Лягушки в ладных мундирах! И ты, мой генерал Жаба! И ты, квакша древесная, мой молодой новобранец! Лягушачий строй замирает в воинском приветствии. Режиссер фильма Йодоровски с робкой улыбкой обводит взглядом панораму. Старый генерал Жаба со стекловолоконным жезлом в лапах развертывает перед лягушками пуленепробиваемую бронированную карту. Старый генерал Жаба с двумя свинцовыми шариками в мошонке – главнокомандующий мертвецов, жертв двух мировых войн. На какие расстояния растянулась бы вереница погибших в обеих войнах людей? Хватило бы ее, чтобы опоясать весь земной шар один или два раза? Дети в белых одеждах и уборах из маргариток идут парами в окружении прыгающих квакш. Когда облетят цветы в оранжереях и в изобилии созреют семена, мы будем ловить лягушек, одевать их в подогнанные по росту мундиры австрийских солдат и строить в ряды. Три сотни собак будут пригвождены к крестам, и монахи понесут их по улицам, усыпанным белым цветом полдня. Шествие возглавит Папа с распятым агнцем. А по бокам будут кадить причетники. «Как вам нравятся лягушки в военной форме, господин генерал?» – «Отойдите подальше со своим микрофоном, если хотите услышать ответ из моих уст». – «Но почему, генерал?» – «Потому что никто не должен заметить, что начальник, рассуждающий о беззубом лягушачьем воинстве в австрийских мундирах, сам без зубов». – «А возможно ли создание специальных стоматологических центров для лягушек в погонах, где им вставляли бы зубы людей, погибших в обеих мировых войнах? Что думаете на этот счет вы, господин генерал, доктор философии и магистр теологии Филипп Жаба, экстраординарный профессор ботаники полей сражений Венской военной академии?» – «Заранее прошу внести в протокол, что я буквально мечу молнии, когда вижу полицейских в форме. Я признаю лишь тех, кто оброс таким же мундиром, что и я. Когда армейский и полицейский офицеры сталкиваются лбами, у них за спинами занимают боевую позицию новобранцы обеих сторон, но напрасно они напрягают мускулы: офицеры уже обнимаются, как закадычные друзья. Однако вернемся к вашему вопросу. Если не ошибаюсь, мы собрали в Освенциме горы золотых зубов и дорогих протезов. Этого материала хватило бы, чтобы вооружить зубами все лягушачьи роты Федеральной Австрийской Армии от призывника до генерала. Я со своей стороны мог бы снарядить к лету десятитысячный полк, причем из отборных молодых воинов, разослал бы их по лесам и болотам, чтобы осуществить дополнительный набор жаб, квакш и лягушек, каждая из которых подпишет контракт и влезет в униформу нашего войска. Призывник!» – «Так точно, господин генерал!» – «Прежде чем рот разевать, надо щелкнуть каблуками. По движению моей головы давно бы следовало догадаться, что я собираюсь вас окликнуть. Призывник!» – «Так точно, господин генерал!» – «Доставьте сюда учителя-естественника моей гимназической поры. Пусть перечислит мне по-научному все виды лягушек, чтобы я не осрамился у микрофона. Во всем нужен полный порядок, иначе народ не поймет нас, военных. Мы живем за счет его налогов и делаем больше, чем ничего, а иногда – это не для протокола – даже меньше, чем ничего». – «Но, господин генерал, хороша та армия, которая ничего не делает!» – «Призывник!» – «Он самый, господин генерал!» – «По сути дела, я – Верховный Главнокомандующий Австрийских Вооруженных Сил. И хотя в законе таковым значится президент, стоит мне вступить в город со своим пятидесятитысячным войском и танками под шелест красно-бело-красных флагов на всех фасадах, тут и президент отдаст мне честь, выйдя из тени своей супруги. Подайте мне сюда учителя естествознания, мне надо освежить в памяти терминологию. Гимназисты тоже слушают радио, и если я забуду какую-нибудь лягушачью породу или перевру название, они, чего доброго, начнут поправлять меня в присутствии родителей, которые застали Вторую мировую, да еще и вообразят себя образованнее генерала. А у меня белокурый парик на голове. Войдя в Хофбург, в резиденцию императоров, я сброшу с коня принца Евгения и усядусь на его место, тут появятся мои камеристки из новобранцев, они мужескаго пола и смогут удовлетворить мои женские батальоны. А теперь давайте сюда ученую даму из гимназии, я кавалерийским хлыстом выбью хорошие отметки из этого магистра. Наверное, я потому и стал генералом и главнокомандующим, что беспрекословно подчинялся приказам в школе и в военной академии. Зато теперь вы беспрекословно подчиняетесь мне. Свободны. Можете идти восвояси со своим микрофоном, а проблему беззубой лягушачьей армии мы обсудим позднее. Приходите завтра, ближе к вечеру. В середине дня мы с женой будем на солдатском кладбище, надо воздать почести павшим. У могилы Неизвестного солдата сидят лягушки, одетые епископами и генералами, они уже выметали икру в братских могилах…»








