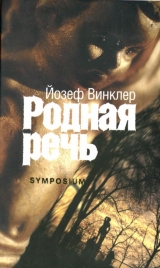
Текст книги "Родная речь"
Автор книги: Йозеф Винклер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Я ощупываю руками разные сегменты своей головы и все не могу понять, как сложить из них единое целое. Какой же номер угораздило меня набрать, чтобы у меня в голове начался такой звон? Я выхожу на улицу, когда дождь выгоняет на асфальт множество улиток и лягушек, безмолвно гибнущих под колесами, и пытаюсь остановить машину, мне это удается, и я увожу себя. Я улыбался, увидев его на Кресте, он тоже. Мученик заморгал, а потом крикнул: «Отец, прости манекенов, ибо им ведомо, что я творю».
Вспомни о своей розге и держи ее в руке, точно скипетр, кричи так, чтобы тебя слышали далеко от твоего трона, перекатывай другой рукой державные шары мошонки и дай прокаженной собаке облизать раны на твоих ступнях. Разверни свиток папируса и прочти вслух то, что скажешь завтра. Мне надоело стоять за стеклами витрин и скалиться, надоело примерять все новые пальто, но временами я, как вампир, прохожу через границу витрины. Я кокетливо поднимаю голову, а стекло знает, что ему делать, оно разлетается вдребезги и пропускает меня. Я выхожу наружу и вновь заполучаю пальто и плащи, но не только одежду, но и тех, кто ее носит. Я обернулся, хотя и знал, что у двери никого нет, просто я хотел сам себя напугать неожиданным вывертом шеи. Завтра мы будем пломбировать зубы одного политического деятеля, череп надо поддерживать в надлежащем состоянии, чтобы вновь успокоить народ. Колдунья стоит у колыбели спящей красавицы и, воздев указательный палец, возвещает столетний сон в отделении реанимации. Труп машины. Я не могу жить и не могу умереть. Я – гибрид ребенка и старца. Я обеспечу наркоз пустой аптечной склянке. Отец хлыстом гонит рыжего муравья из леса на бойню. Хоть бы ласточки любили меня! Одна из них, сидя у меня на плече, давно уж дожидается, когда я подниму руку, чтобы она имела возможность покормить птенцов у меня под мышкой. Колбу, где хранятся мои смертотворные таблетки, я наполню своим пеплом, и пусть ее переправят в Венецию. Хромосомы! Плодитесь и размножайтесь! Все люди, которые появятся на этой земле после меня, суть мои потомки.
Хлеб – священнейшая снедь человека. Эту истину внушал мне гнев отца, когда я как-то раз уронил со стола один кусок или когда у меня выпал из рук целый каравай с тремя крестами на корке; ни жив ни мертв, я сидел рядом с отцом и плакал, у меня не было сил даже извиниться, пробормотать что-нибудь вроде: «Больше не буду так неосторожен с хлебушком. Не бойся, папа, я знаю, хлеб – это святое». Я только крестился, чтобы отец не смотрел на меня с такой злобой или тем более не бил меня, я знал, что если рука ребенка творит крестное знамение, рука отца не поднимется на него, ведь если он ударит детское тело, осененное крестом, то Иисус в божнице так вывернет шею, что сможет губами вытянуть гвоздь из руки, а ею – гвоздь из другой. Только он должен смотреть в оба, как бы не сыграть с креста вниз головой – ноги-то все еще прибиты. Нет, не так. Не надо левой рукой вытаскивать гвоздь из правой, пусть сначала вырвет нижние гвозди и, встав наконец на ноги в красном углу, освободит правую руку, и тогда он, Иисус, который так часто держал мою сторону в этом доме, взвалит крест на спину моему отцу, пусть теперь он помучается. Отец тысячекратно гвоздил меня злобными взглядами, неудивительно, что мой собственный взгляд выискивает зло в этом мире, неудивительно, что и сам я смотрю на него со злобой и сначала вижу зло, а уж потом, гораздо позднее, добро. Иногда я выполнял какую-нибудь работу в других усадьбах нашей деревни, помогал на сенокосе или убирал грязь в хлеву – и все это только ради полдничного пайка из чужих рук, ради иного, не нашего куска хлеба, сала и сыра. Я готов был целыми днями вкалывать за столь ничтожную награду, как скромный полдник, только для того, чтобы спустя недели или месяцы мне вновь дали поесть чужого хлеба. Иногда я с большой охотой принимал от крестного кусок булки из пекарни, для меня это был настоящий деликатес, потому что я ненавидел наш домашний крестьянский хлеб, всегда ненавидел и до сих пор ненавижу. Меня удивляло, почему дачники так жаловали то, что я терпеть не мог целых двадцать лет. Может быть, я ненавидел этот хлеб потому, что знал: пока он есть в доме, я не могу умереть с голоду, но это не исключало возможности голодовок, я просто не появлялся за обеденным столом, ошивался на кухне, уходил в церковь, пропадал в лесу или на реке, это был мой протест против постылой усадьбы и постылого хлеба, и только когда голод огнем опалял мне зев, когда, съежившись от ноющей боли в желудке и держась рукой за живот, я приходил домой, мне все же приходилось есть хлеб. Было время, когда я целыми днями не брал в рот ничего, кроме облаток, я просто крал их в ризнице из коричневых коробок, накинув на плечи свое церковное одеяние или отзвонив в колокол по умершему. Матери я никогда не говорил, что ненавижу наш хлеб, я брал ломоть из ее рук и смотрел на него с благоговением, будто это часть ее собственного тела. Но в то же время он внушал мне страх, ибо я знал, что хлеб – нечто священное, а священное-то и было страшнее всего, да, он повергал меня в ужас, но вместе с тем дарил успокоение, особенно когда я сам хотел испытывать страх и мне вновь и вновь не хватало его, ведь даже сегодня я не могу жить без страха и ужаса. «Смотри, – подкалывал меня Густль, – у меня уже борода, а у тебя нет и никогда не будет, ты у нас полубабок». Что верно, то верно, я считался полубабком и помогал матери в домашних хлопотах. «Зеппль, вымети черные сени». И Зеппль брал веник в углу и приступал к уборке, начиная сверху от входа в теплую часть дома и кончая у наружной двери, и оставлял кучу мусора, который не грозил обратиться в пыль, так как состоял из тяжелых частиц, песчинок и комков земли, натасканных в дом вами, братья мои, когда вы топали в кухню прямо из хлева и с грязного двора, а мне приходилось убирать за вами дерьмо, я выносил грязь, оставленную подошвами Пины, батрака, отца, братьев, я мел и мел, пока не добивался чистоты. Я был нянькой, выгуливавшей маленького братца на асфальте главной улицы, а позднее таскал его в поля, где вороны кружили над нашими головами – над его маленькой, почти безволосой, и моей уже вполне мальчишечьей, мы подходили к воде и дивились рыбам, разевавшим рты, по ночам они тяжело дышали у меня в душе, а я в страхе тянул руки к спине брата, с которым более пяти лет вынужден был делить постель, иногда я втискивал голову в рыбий рот, высовывал язык и шевелил им, чтобы рыба виляла хвостом. Я был судомойкой с белой тряпкой в качестве фартука и помогал матери управляться с грудой грязной посуды, сестра тогда училась в школе домоводства и редко появлялась в нашей деревне. Я соскребал обглоданные куриные и свиные кости с тарелок отца, братьев, Пины и батрака, а кошачью миску очищал от слизи скисшего молока. Я был судомойкой с маленьким братом на руках. Мы поднимались по асфальтовой дороге, шли обратно и вновь поднимались, чтобы вернуться домой, ведь меня, любезный мой братец, ждала гора грязной посуды, тарелки отца и братьев, недаром они говорили: в нем и впрямь девчонка пропадает, – и всем было смешно, кроме меня. Русская кукла-матрешка во мне, совсем крохотная, которую никому не увидеть, а уж потрогать и подавно, рассыпается звонким смехом. «Во мне пропадает девчонка, – шепчут мои губы, – девочка», – с этой мыслью я мету пол, тащу брата в поле, шагая по жнивью, да, мы убегаем, убегаем от всех, хотя никто за нами не гонится, но мы всё бежим, а потом где-нибудь в гуще кустарника я раздеваюсь. Я показал маленькому брату свою пипку, так называли мы детский членик, и сказал: «Во мне пропадает девочка». Отец ловко орудует ножом, когда режет поросят, он и мне кое-что отрежет, не нужна мне пипка, хочу быть девочкой. Я сидел на берегу Дравы, вцепившись в свой член, я пытался вырвать его, чтобы потом показать матери мой кровавый провал в подтверждение того, что действительно стал девочкой. Мать подберет мне что-нибудь из старой одежды сестры и положит на край моей кровати, и усну я мальчишкой, а поутру проснусь девочкой. И уйдем мы, братец, подальше от дома, спустимся в пойменные луга вдоль берега Дравы. Здесь мы одни, да еще кузнечики, которых мы иногда убиваем, и лягушки. Когда они раздувают пузыри своих резонаторов, я вытягиваю руку и говорю: видишь, как пыжится вон та лягушка, слышишь ее кваканье, посмотри на беззубый рот, у отца тоже не осталось ни одного зуба. Я показываю тебе головастиков, смотри, как они шныряют у поверхности, скручиваясь спиралями, как вздрагивает водная гладь, и мы с дрожью следим за кругами на воде, которые становятся все шире и шире, потому что в голову лягушке попал камешек. Может быть, он выпал из моей левой руки, она временами замахивается сама собой, чтобы дать плюху лягушке-отцу. Плюхой мы называли пощечину. Учитель однажды наехал на своего сына: «Ну, ты у меня дождешься, сейчас получишь плюху!» Смотри, как я вздрогнул, откинув голову чуть не на полметра, я видел, как учитель дал плюху своему сыну Вернигериху, и я понимающе киваю: «Ага, это – пощечина». «Радуйся, что на свет появился, – говорил отец, – радуйся, что у тебя есть ноги, чтобы в школу ходить. Радуйся, что тебе даны руки, чтобы молиться и каждый божий день совать в рот хлеб насущный, работать-то все равно не можешь, судомойка ты наша, нянька в штанах. Хоть бы священник тебя усыновил, что ли, ты ведь давно за ним увиваешься, старший причетник». Мы идем дальше, оставляем в покое головастиков, недоразвившихся лягушек, которыми мы любовались, как и болотными лютиками, и которых мучим, вытаскивая из воды и засушивая на горячем песке, где откладывают яйца гадюки. Я знаю, что мы выношены в животе матери, ты хоть разок спустись в хлев да посмотри в глаза корове, когда у нее между задних ног сочится слизь и кровь, а потом вылезает какой-то чудной мешок, иди со мной, когда все: отец, батрак, Пина и братья в один голос кричат: «Телится! Телится!» – и ты догадаешься, откуда мы появились на свет, никто нам про это не говорил, ни учитель, ни мать, ни священник, ни его кухарка. До всего приходится доходить своим умом. Помню тот день в патернионском родильном доме, когда мать разрешилась тобой, ты лежал в корзинке, рядом было еще четыре, а может, шесть таких же, тут акушерка, фрау Паттерер, спрашивает меня: «Который из этих малышей твой братик?» Я оглядел сморщенные лики, все младенцы спали; я посмотрел на акушерку и ткнул пальцем в одну из корзин: «Этот!» «Нет, – сказала она. – Вот он, вот твой братишка». Я вгляделся в твое лицо, сравнил его с лицом другого новорожденного и крикнул: «Нет, фрау Паттерер, вот мой братик, я правильно угадал! Он самый!» Я долго смотрел на тебя, а потом поднялся по ступеням к кровати, в которой после родов лежала мать, и спросил: «Она отдаст тебе, кого ты родила?» И тут мать указала на другую корзину, не на ту, что выбрал я. Слезы хлынули у меня из глаз. «Нет, мама! – закричал я. – Не может такого быть! Я вытащу тебя из этой постели, я спущу тебя к корзинам, а если ты умрешь, я столкну тебя вниз, я хочу знать, кто из них мой брат. А если останешься в живых, мы будем помогать тебе, я и братик, будем вместе тушить на кухне мясо и заваривать кофе, с утра до вечера будем варить с тобой кукурузную кашу, которую у нас никто не любит». Я бы с удовольствием сказал, что мы любим это варево, но язык не повернулся. Мы будем готовить ее для ублажения отца, подогревать, зачерпывать ложками и набивать ею рты, чтобы через пару минут выскочить в сортир, выплюнуть кукурузное варево и сунуть под нос отцу и остальным братьям пустую миску, а затем приступить к мытью посуды. Мы будем убирать грязь за отцом, братьями, Пиной и батраком. Пойдем, мама, вниз, покажи мне братика. Может, акушерка подменила его, когда ты кричала от боли. Кровь окрашивала синтетическую подстилку под твоими обнаженными бедрами, ты сжимала пальцы в кулак, ты впивалась зубами в свою боль, наверное, ты была в обморочном состоянии, а фрау Паттерер, перед которой все стелются, может, даже искренне любя, и испытывают почтительный страх, как и перед священником – оба они самые видные фигуры в сельской общине, – фрау Паттерер подсунула тебе чужого ребенка, ведь в твоей палате лежала женщина из соседней деревни, могла же акушерка подменить младенца. А что, если она сама хотела заполучить моего братика? «Только посмей еще раз выкинуть такое, – говорила мне мать, внушая какой-нибудь запрет. – Только посмей взять в дом чужого ребенка, узнаешь, где раки зимуют». «Вот подожди, придет отец, увидит твои безобразия, тогда узнаешь, где раки зимуют», – так говорили мне братья и сестра. Когда я уже вырос и мог поступать по своему разумению, отец бубнил: «Только нас не позорь!» А когда отец делал какую-нибудь гадость, братья и сестра, как я потом узнал, говорили ему: «Вот погоди, приедет Зепп, тогда узнаешь, где раки зимуют. Он тебе поставит синюю печать на жопе». Однажды, когда я украл у дяди Эрвина почтовые марки, мать положила меня животом на стул и подвергла экзекуции, а когда пошли спать, братья и сестра стянули с меня штаны с трусами и начали злорадствовать: «Смотрите, люди добрые, у него синяя печать на жопе!» А я кричал, что нет у меня никакой печати, что не крал я никаких марок, хотя это было не так. На встречах с филателистами я заглядываю им в глаза и вижу, с каким вожделением они смотрят на фотографию синего Маврикия, знаменитой марки, названной по имени острова в Индийском океане, и тогда мне вспоминается синяя печать на моей детской заднице. Одну из негашеных марок за пятьдесят грошей я по глупости, что меня и выдало, приклеил к кухонной плите, и когда дядя Эрвин спросил меня, кто это сделал, я сказал: «Лора Айххольцер, наглая стерва, проучи ее, поставь ей синюю печать на жопу, пусть не крадет марки, а если и украдет, пусть не валит на меня». До сих пор не могу забыть, как мать снимает с вешалки прут с красной лентой и ставит стул посреди кухни: «Ложись, шалопай!» Но я тут же вскакиваю и бегу к двери. «А ну, вернись! Спускай штаны!» Я возвращаюсь и с голой задницей ложусь животом на стул, а мать даже не спрашивает, украл ли я марки на самом деле. Я порывался сказать ей: «Мама, дядя Эрвин… я от него…» Мне хотелось исповедаться перед ней, ведь тому, кто идет на исповедь, прощаются все грехи, и тогда матери пришлось бы встать передо мной на колени, как перед священником, который отпускает ей грех моего рождения. Но прежде чем я мог признаться в грехе, мне предстояло лечь на стул. Страшнее всего во всей процедуре была возня с лямками и пуговицами на ширинке, после чего я старался как можно быстрее спустить штаны и подштанники, так, чтобы мать не успела разглядеть мой член. Вот священник-то не бьет меня, даже когда я признаюсь, что не чтил отца и мать, он лишь говорит: «Повторяй два-три раза на дню "Отче наш", и Христос простит тебя». Но когда я говорю на исповеди, что поношу своего отца, священник втайне рад это слышать, потому что они с отцом терпеть не могут друг друга, даром что раскланиваются на улице, приподнимая шляпы. Я проклинаю своего отца, мечтаю о том, чтобы Господь поскорее призвал его, я бы хотел остаться только с матерью, мы бы жили в чердачной комнате у священника или на колокольне, помогите мне, ваше преподобие, я больше не желаю убирать грязь за отцом, работником, Пиной и братьями, не хочу больше терпеть вонь бабушки Энц, поднимать ее с комнатного стульчака, выносить в сортир ведро с ее дерьмом, а потом мыть это ведро на черной кухне, где под перевернутым подойником сидит Пина, бормоча молитву, прежде чем опять окунуться в навозное тепло хлева. Мне опостылело быть судомойкой в замызганном переднике и нянькой, таскающей братца-молокососа по лесам, горам и долам. С маленьким Адамом я, господин священник, частенько поднимался в лес и, проходя мимо вашего дома, видел тощих кур за оградой, которые в знак приветствия вскидывали головы, когда мы останавливались. Я слышал, как похрюкивает ваша единственная свинья в маленьком хлеву, и говорил Адаму: «Слышишь, это – свинья священника и Марии. У них одна свинья, зато много кур». Мы взбирались по лесной тропе на холм, откуда я смотрел на твой двор. Я видел, как ты, святой отец, сложив ладони, стоишь на коленях перед Мадонной, которую собственной рукой нарисовал на тыльной стороне дома. Я ловил движения твоих губ, хотя не мог слышать произносимой тобою молитвы. Мой крохотный брат ухитрился распахнуть верх моей пропитанной детским потом рубашки, ведь у меня так сильно билось сердце, когда я наблюдал твое моление перед твоей иконой, а он припал губами к моему левому соску, пытаясь высосать из него молоко. Он чмокал впустую и, ничего не добившись, приник к правому соску, и я сказал: «Нет у меня молока, я тебе не кормящая мать». Но он меня не понял, ему было несколько месяцев от роду. «Посмотри вниз, видишь, священник опять рисует портрет ребенка». В нарисованных им детских лицах я нередко узнавал мои собственные черты. А однажды обнаружил даже двойное сходство: в лице ребенка, шагающего по мосту, и в лике ангела-хранителя, парящего над малышом. Я видел, как из холодной тени двора выходит Мария и несет тебе кофе, господин священник, когда мой братец поднял крик, потому что не выжал из меня ни капли молока. Я гладил его и не мешал муравью бегать по моей руке. Увидев муравья, младенец перестал плакать, он уставился на суетливую букашку, а я поднял голову, чтобы видеть твою спину, твой затылок и движения твоей кисти, которую ты держал двумя пальцами: большим и указательным. Иногда ты отступал на пару шагов, разглядывая свою икону то с левой, то с правой позиции. Я слышал крики петухов на твоем дворе. «И запел петух во второй раз», – сказал я маленькому брату, который сидел у меня на коленях и забавлялся, шевеля своими крошечными пальчиками. Временами мне хотелось – я вновь исповедуюсь в этом, господин священник, – бросить моего братца в бурлящий водопад нашего горного ручья, меня так и подмывало отделаться от него, я же видел, как другие ребята играют в футбол, видел, как, переодевшись индейцами, они идут с деревянными томагавками в лес мимо твоей усадьбы, я хотел быть с ними, а мне приходилось нянчиться с младенцем. С какой радостью я помогал бы Якобу Кройцбауэру сооружать вигвам, кроил бы для себя из мешковины простой наряд Старины Шаттерхэнда, а мне застил свет маленький брат, сидевший у меня на коленях и не прекращавший попыток присосаться к моей груди. Если бы я сбросил его с крутизны водопада, возможно, и сам прыгнул бы вслед за ним, а может, вернулся бы домой и сказал матери, что поскользнулся у водопада, но в последний момент уцепился за корень ели, а вот Адама сохранить не удалось, он выпал у меня из рук и погиб. Или такой расклад: я вытаскиваю из воды тело малыша, несу его домой, сажусь на табуретку и начинаю горько реветь, пьета да и только. Отец пригвоздил бы меня к кресту, ведь он любил маленького Адама, который был нашей живой игрушкой, в него затолкали мы всю нашу любовь. А если бы я прыгнул вслед за ним, нас с разбитыми черепами рано или поздно нашли бы на дне ручья где-нибудь за выгоном Энгельмайера. Господин священник, я больше не хочу помогать отцу и братьям, не желаю выдирать потроха из распоротого свиного брюха. Не хочу подбирать в хлеву петушиные головы и с двумя липкими обрубками в обеих руках топать к компостной куче, а тем более – пятиться, воровато оглядываться и, завидев отца, бежать со всех ног. Хватит с меня. Накинув на плечи свое красное церковное одеяние, я сидел у платяного шкафа и жевал до боли в скулах облатки, которые вытягивал из маленьких коричневых коробок, лежавших на дне шкафа под подолами одежд. Иногда я настороженно поднимал голову и смотрел на дверь, опасаясь, как бы ты, господин священник, не застал меня за этим занятием. Однажды мне показалось, что ты так-таки засек меня, хотя и не сказал ни слова. Не грех же это – сто раз вкусить тела Христова перед мессой. Не случится ли так, что когда-нибудь ты велишь и из меня приготовить просфору и пригласишь односельчан причаститься? Мать укладывала меня на плаху стула и стегала тонким хлыстом по ягодицам, которые тут же начинали гореть, я кричал: «Не надо, мама! Я больше не буду!» – «Попробуй еще хоть раз!» – кричала она. «Больше никогда, мама!» – «Теперь, может, и не будешь!» На сей раз у нее вырвалось слово «может». «Нет, мама, я больше не буду красть марки у дяди Эрвина! – клялся я, а про себя бормотал: – Убью эту сволочь, из-за пары почтовых марок взбудоражил мать и ославил меня вором на всю деревню». Я орал беспрестанно: «Не надо, мама, хватит, не бей!» – «Может, не будешь больше?» И она отступалась, а я натягивал портки и, обхватив руками пылающий зад, на цыпочках, словно в штаны наложив, поднимался к себе в комнату, ложился на постель и в мечтательной полудреме начинал ласкать и покусывать руку матери. Я кладу голову на эту руку, она пахнет сырой картошкой, пахнет луком, а когда мать режет лук, она плачет от душевной боли, а не от едкого духа, не от горя лукового. После этой истории с марками я много недель обходил стороной дом дяди Эрвина. Жена учителя и та на следующий же день пристала ко мне с вопросом: «Это правда, что ты почтовые марки украл? Мне-то можешь признаться, я никому не скажу». Я отчетливо помню, как мы сидели с ней на бревне в школьном саду, и она все допытывалась. Но я твердо стоял на своем и твержу до сих пор: «Нет, не крал я никаких марок». – «А ты припомни как следует, ты ведь был вчера у Айххольцера и зашел в комнату, где стоит письменный стол дяди Эрвина, выдвинул ящик, перерыл бумаги и вытащил марки, одну ты наклеил на холодную плиту, а остальные подарил Клаусу, он ведь у нас филателист». Я лишь мотал головой, устав повторять одно и то же. Наконец я просто встал и присоединился к резвящимся на дворе детям, ведь я съел свой школьный завтрак, теперь можно побегать и попрыгать. Теперь уж я не подавлюсь, мой бутерброд отправлен в желудок, мне нечего торопиться, я могу открыть рот и ощутить, как ветер врывается в мой желудок и ворошит в нем комки и крошки. Нет, не крал я почтовых марок, и писчей бумаги не крал, и не взял ни одного карандаша, ни одной монетки, я вообще ничего не трогал. Помню, как мать в толстом платке на голове, с темными подглазьями на бледном лице спускается по асфальтовой дороге с бугра, осторожно передвигая свои слабые, изборожденные синими венами ноги. Вот она вошла в дом, поставила пластиковый мешок на лавку и присела. Потом начала вынимать из мешка аптечные товары и укладывать их в верхний ящик серванта, заполненный чуть не до отказа пустыми и еще не тронутыми пузырьками, ворохом марли, бинтов, упаковок ваты и лейкопластыря. Там же хранились и мои железосодержащие таблетки, которые я вынужден был ежедневно глотать после обеда. Как-то раз этот собранный «на живую нитку» сервант рухнул на пол вместе со всеми кофейными и чайными чашками, тарелками и медицинской хурдой-мурдой. Мои таблетки лежали под снадобьями матери. Вся посуда – вдребезги, таблетки большей частью раскрошились. Я любил молнии, когда они пересекались над самым перекрестием распятой деревни и чертили над крышей нашего дома синий крест мгновенной вспышки небесного огня, который обрушивался на голову Иисуса, когда, как однажды случилось на самом деле, молния, скользнув по шпилю, попала внутрь церкви и задела несколько статуй святых. Когда молния над верхушками елей тревожила людей и скотину, когда шел град, когда отец и мать принимались молиться у двери черного хода или отец одиноко маячил в воротах хлева, подняв глаза к небу, у меня сердце разбивалось, ведь это природа одолевала людей и животных, а не они подминали под себя природу. И тогда меня грела надежда: наступят иные времена, дождь будет лить беспрестанно, начнется потоп, отцам и матерям придется вставать на своих сыновей, чтобы не уйти с головой под воду и не утонуть. Я спрашивал мать, может ли наступить конец света, но никогда не спрашивал о жизни после смерти, потому что не чувствовал в себе особого желания и заинтересованности продлевать свою жизнь за порогом смерти. И всякий раз, какой бы мудреный вопрос я ни задавал матери, она уходила от ответа, ссылаясь на неведение. Учитель рассказывал, что люди до того, как удалось доказать шарообразность Земли, думали, будто мир представляет собой диск с деревянными бортиками по краям. Я сказал матери, что если бы так оно и было, мы могли бы подойти к доскам, скрепленным ржавыми гвоздями, и увидеть, как сквозь щели в этом ограждении чужие воды моря сливаются с нашей привычной водой у колодца. Мне так хотелось спросить у матери, могу ли по ночам воссоединяться с ней, входить туда, вновь погружаться туда, откуда вышел много месяцев назад, ведь только ночью или утром ты, должно быть, родишь меня снова. По утрам приходила бы фрау Паттерер, каждое утро приходила бы крестная, она помогала бы тебе разрешиться от бремени, как тогда, в час моего рождения. Если бы ты рожала меня десять или двадцать раз, я бы захлебывался в твоей слизи и крови или в собственном дерьме, которое золотой короной обсела стая мух, когда мы, прижавшись ягодицами, ощущали тепло дымящейся жижи под нашими белыми задами.
Могу легко вообразить, как в твоем чреве я вращался вокруг своей оси, подобно космическому кораблю. Девять месяцев подряд из твоего стеклянного живота, как из окна без переплетного креста, я смотрел на окно с крестом, а из этого окна, когда к нему подходила ты, еще дальше – на окно соседнего дома с его беременной хозяйкой, которая смотрела на тебя. Ты закрыла окно и кивнула с доброй улыбкой, так ты привечала всегда всякого человека, всякую тварь. Ты поднялась в спальню, и я, чуть согнувшись, оглядел лестницу и носки твоих туфель, прошаркавших по ступеням шестнадцать раз. Оказавшись наверху, я посмотрел из твоего стеклянного живота на темно-коричневую дверь вашей спальни, где я взрастал из мерзкого отцовского семени. Ты повернула ручку двери, она открылась, и мы оба твоими ногами вошли в комнату, приблизились к тумбочке отца, ведь там был спрятан его черный, как вороново крыло, бумажник. Отцу нужны деньги, на них он купит мешок сахара и два мешка муки, я видел, как ты достала одну бумажку, закрыла тумбочку, повернулась, да так резко, что у меня голова закружилась, и мы вновь на лестнице из шестнадцати ступенек. Мы прошли мимо открытого люка погреба, отворили кухонную дверь и гордо, несмотря на мое головокружение, прошествовали к отцу, мы сунули ему в руку купюру. Он трясся над каждым шиллингом, особенно когда предстояли расходы. Мать вновь резко повернулась, вернее, мы повернулись спиной к отцу, ей надо было идти в хлев кормить свиней и кур. Ведь уже за пределами материнской утробы вели свою жизнь мои старшие братья и сестра, Зиге, Густль и Марта, а на втором этаже обитали в своих комнатенках дед и бабушка Энцы, и все они думали о полднике. Но еще до того, как мать повернулась к двери, она смущенно взглянула на отца, вертевшего в руке стошиллинговую бумажку. Она форменным образом призывала его к лобзанию, и тут, братья мои, я впервые в жизни обратил внимание, наблюдая из стеклянного чрева матери, как отец округляет губы, на седые усики у него под носом, точь-в-точь как у Гитлера. Я сжал свои крохотные кулачки и изготовился нанести удар по этим гитлеровским сопливчикам, но не решился, я малодушно опустил руку, я позволил своей молодой матери подставить лицо под чмок этих губ со щетинкой, и вот он уходит, он оседлает своего огромного коня с тракторным мотором, вытянет ногу, выжмет сцепление и запустит двигатель. Я посмотрел вверх, на выступ подбородка моей матери, я видел на ее лице едва уловимую улыбку, с отцом могло что-то случиться, он мог на своем тракторе сорваться с откоса, и у матери, должно быть, те же мысли, что и у меня, ведь я пока еще не я, а она, и мне не плачется, если не плачет она. И я машу отцу своей эмбриональной ручонкой, он не видит меня и не знает, что живот у матери стеклянный, но я все же машу, он отъезжает, а мы с матерью еще остаемся у окна, уставясь на спину моего созревающего отца, он становится все меньше, а я в материнской утробе начинаю расти по мере того, как он удаляется. Мы смотрим на облачко выхлопа, на тающий сизый шлейф и еще ждем чего-то, возможно, в окне соседнего дома вновь появится женщина, и я пригляжусь к ее распухшему животу, увижу, что он тоже стеклянный, а в нем шевелится такой же человеческий зародыш, как и я, мы посмотрим друг на друга, и нам захочется обняться. Меня обволакивают слизь и кровь матери, я не могу пробить эту оболочку, я не хочу убивать свою матушку. Если бы кто-то бросил камень в ее живот и живот женщины напротив, мы с моим внутриутробным сверстником, скорее всего, были бы обречены, как рыбы из разбитого аквариума, плюхнулись бы к ногам наших матерей. Может быть, нам удалось бы еще как-нибудь подползти друг к другу и поцеловаться, а потом мы потрепыхались бы и затихли навсегда, точно рыбы, брошенные в мох на берегу нашего деревенского ручья. По ночам, когда мать спала, я иногда вставал на ноги в ее животе, мне хотелось сбросить с нее одеяло. Меня все время тянуло рассмотреть фосфоресцирующее зеленое распятие, висевшее над зеркалом, я хотел видеть, какие гримасы корчит фосфоресцирующий Распятый, когда спят родители. Я порывался встать и подойти к окну, меня манило древнее дерево, я хотел видеть глаза сыча домового ночью, когда мать лежит на животе или на спине, расплющивая холщовый тюфяк, набитый сеном. Я в отчаянии возился у нее внутри, силился как-то вразумить ее: мне надо выйти в ночь, в освеженную прохладой деревню. Мать ворочалась на кровати, жаловалась на боли в животе, а я ворочался в утробе и никак не мог дать ей понять, что она должна переместить меня к окну, мне надо вонзить взгляд хотя бы в темноту. Я бился головой о брюшной потолок, тыкал в него кулачками и локтями. Мне удавалось по крайней мере разбудить мать, она говорила отцу, что чувствует боли в животе, что ей нехорошо. Отец запускал грубую руку под шелк ее ночной рубашки, и, хотя она была соткана из шершавой холстины, мне хотелось бы думать, что это чистый шелк, благоухающий духами, и я видел отцовскую клешню на куполе прозрачного живота матери. Я пересчитал корявые пальцы и не мог удержаться от усмешки, вы ведь помните: на одной руке у него – только четыре пальца. Он гладил четырехпалой лапой живот будущей роженицы. И даже я почувствовал толику этой ласки и постепенно успокоился, меня подмывало шепнуть в его ладонь, что я хочу хоть одним глазком увидеть глубокую темную ночь. Глубокие и темные – так мать говорила про ночи, и мне остается лишь верить ей на слово. Отец, я хочу видеть эту глубокую и темную ночь, хочу взглянуть на фосфоресцирующее распятие, которое матери когда-то всучил разносчик: «Купите его, милостивая госпожа, видите, какое оно красивое». Моя мать вовсе не милостивая госпожа, а простая крестьянка, я не желаю, чтобы она была милостивой госпожой, так как не хочу быть милостивым господином. Мать поддалась уговорам, но только потому, что никогда не осмелилась бы отклонить святой крест. У нее язык не повернулся бы сказать: «Нет, мне не нужно распятия». – «Да ведь я отдаю вам Спасителя всего за сто пятьдесят семь шиллингов, вы повесите его в красном углу, будете три раза в день подходить к нему, класть облатку ему в губы и молиться». Когда из стеклянного чрева я смотрю на божницу и вглядываюсь в лицо Спасителя, он смотрит на мое внутриутробное лицо и кивает мне, сыну человеческому. Я до сих пор вижу, как разносчик сбывает матери это распятие, которое и ныне висит над зеркалом в родительской спальне. Мать никогда не посмела бы сказать: «У нас, уважаемый, этого добра хватает, оставьте его себе, мы не хотим покупать отштампованного в миллиардном количестве Спасителя на кресте, на оригинал мы, может, и молились бы, а на его бесчисленные копии – увольте. Стоит протянуть руку, и наткнешься на распятие, это может каждый: Густль, Марта и Зиге, Йогль и я, дед и бабушка Энцы, Освальд и Пина, распятий у нас и в самом деле предостаточно. – Нет, мать не решилась сказать разносчику, что мы не нуждаемся в том самом фосфоресцирующем распятии, которое вот уже не один десяток лет мерцает по ночам в родительской спальне. – А почем оно?» – поинтересовалась матушка. «Сто пятьдесят семь шиллингов». Она отсчитала деньги, достав их из черного отцовского бумажника. «Спасибо вам и до свидания». Нет, он не сказал: «До свидания». Он сказал: «Да поможет вам Бог». Ведь он продал матери распятие. Он живет торговлей распятиями, а я чуть было не умер на них.








