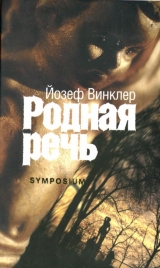
Текст книги "Родная речь"
Автор книги: Йозеф Винклер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Когда я топтался в отделе мужской одежды супермаркета, меня неодолимо тянуло туда, где продается дамское платье. Было такое чувство, что я возвращаюсь в дни своей юности, в памяти зримо возникали модели дамского белья, которые я покупал тогда у Пальмера, у меня перехватывало дыхание, и я видел себя окруженным множеством продавщиц, витринных призм, манекенов с обнаженным торсом, манекенов, одетых лишь выше пояса, и я блуждал в этом лабиринте, пока не находил выход и вновь не оказывался среди манекенов мужского образа, подходил к ним и разглядывал их лица и облачение. В одном дамском бутике продавщица во все глаза уставилась на меня, я смущенно отвел взгляд, а теперь, когда пишу эти строки, я вновь чувствую на себе ее удивленный взгляд и робею так же, как тогда, и опускаю глаза, сидя за машинкой, как будто продавщица все еще смотрит на меня, и смущенно бормочу: «Видите ли, моя сестра примерно с меня ростом. Как вы думаете, ей подойдут эти трусики и этот бюстгальтер?» Выходя из магазина с покупкой, я оглянулся и заметил, что вслед мне смотрит не только обслуживавшая меня дама, но и весь торговый персонал. Я сижу в углу чулана, все лицо опутано паутиной, сотни глаз наблюдают предсмертные судороги этой жизни, – глаза бесчисленных пауков. Белесые нити приклеились к моим векам, и при некоторых маневрах пауков у меня распахиваются глаза. Мой горячечный взгляд тянется к отворившейся двери, и я вижу скелет с острой косой в руке. По воле моей фантазии он тут же обрастает плотью. Сегодня на пляже Ванзее я видел обнаженных глухонемых мальчиков. Один из них ласково ощупывал свои ягодицы. Заметив, что за ним наблюдают, он сделал вид, что стряхивает с кожи песок. Я прошу у него разрешения прильнуть головой к его груди, к его животу, к его бедрам в мягком пушке. Я прошу у него разрешения почистить ему ногти на ногах, подобрать за ним грязь, я прошу позволить мне это. Он нем и не может оскорбить меня словом, он глух и не может слышать моих оскорблений. Я стираю его нижнее белье и отношу в чистку верхнюю одежду. Я одеваю и раздеваю его. Я одеваю его, чтобы снова раздеть и коснуться губами любого обнаженного места на его теле. При этом я вспоминал глухонемых иноземцев в клагенфуртском общежитии, которые стояли под душем, ласкали друг друга, пока не открывалась дверь, и тогда они вновь начинали намыливаться. Мне нужно глухонемое томление, я всегда хотел искалечить себя – кастрировать, оттяпать руку или быть обреченным созерцать закат одним глазом, я хочу стать немым, чтобы никого не оскорбить словом, я хочу быть глухим, чтобы больше не слышать, как оскорбляют меня. Я бы хотел играть в шахматы и в карты с обнаженными подростками на ванзейском пляже, хотя всегда ненавидел карты, но я стану картежником, чтобы иметь возможность играть на пляже с обнаженными отроками. Я бы хотел искать их следы на песке. Я бы склонился над ними, ласкал бы их взглядом и целовал, да только дождь уже смыл все следы.
Вспоминаю свою последнюю поездку в Венецию, это было в феврале, во время карнавала. Мы видели смерть трехметрового роста и в белой маске, она шагала на ходулях по улицам города. После этого мы потратили не один час на поиски отеля, но все впустую, в дни карнавала в Венеции избыток приезжих, в городе творилось столпотворение. Туристы замусоривают город, в Венецию надо приезжать зимой, но мы – такие же туристы, как и все прочие, и они могут сказать о нас то же самое. Я люблю этот город еще и потому, что не вижу и не слышу здесь машин. Но когда мне все же приходилось устало плюхаться на сиденье рядом с шофером, я закрывал глаза и воображал, что он сейчас повернет на лесную дорогу, и в эти моменты мне хотелось умереть, я чувствовал себя умиротворенным и счастливым и думал лишь о том, как бы продлить столь блаженное состояние. И мне хочется именно в этом состоянии остановить течение своей жизни, чтобы фильм, который прокручивается у меня в голове, и явственно слышимое шуршание пленки и вращающейся шестеренки оборвались именно в такой момент и катушка сделала последние обороты. У меня давно возникло ощущение, будто я уже заменил свою голову кинокамерой и снимаю на пленку все, что у меня перед глазами. Когда я вижу человека с камерой, меня так и тянет подбежать к нему, разбить его аппарат и сказать, что существует лишь одна камера, и она в моей голове. «Это, уважаемый господин, кинокамера из плоти и крови, единственная в мире, и потому я хочу разрушить все те машины, которые не из плоти и крови». Оказавшись со своей кинокамерой на плечах в каком-нибудь незнакомом городе, я не интересуюсь достопримечательностями, запечатленными на открытках, а первым делом стараюсь осмотреть городские тюрьмы, кладбища и морги. «Где прозекторские? Где мертвецкие? Где прозябают осужденные за тяжкие и незначительные преступления? Где?» – И точно так же, как я читаю только жизненно важные книги, я смотрю лишь жизненно важные фильмы. Я сижу в первом ряду и смотрю на экран, но иногда просто из тщеславия оборачиваюсь назад, дабы убедиться, что кто-то в потемках обращает внимание на мою голову с кинообъективом и говорит соседу: «Такого я еще не видывал». Когда я встречаю нечто, возбуждающее мое любопытство, у меня зажигается красная кнопка, камера начинает жужжать, и, впитывая образы, обрывки слов и картин, я все это буквально сгребаю с улиц и целыми днями ношу в киноархиве своей головы. Днем я затемняю окна в комнате, а из дома выхожу, когда на улице темно. Я сажусь в автобус и еду в кино. В автобусе нахожу такое место, где максимально я защищен от чьих бы то ни было взглядов. Как правило, это – такое место, откуда я лучше всего могу наблюдать за другими. Я неделями не раскрываю рта и неделями слушаю звуки окружающего мира. Я уже ничего не хочу видеть, я уже не выношу никаких травм. В детстве, когда я сидел под столом, боясь выпрямиться, чтобы не удариться головой о выдвижной ящик, в котором гремели ножи и вилки, я бил стол кулаками, пока не убеждался, что не могу отплатить столу болью, которую он причинил мне, но, возможно, я избавлялся от боли, причиненной мне столом, посредством новой боли, возникавшей при ударах об этот предмет. Я сижу за пишущей машинкой, склонив над ней голову с кинопленкой, хранящей множество образов оскорблений и травм, а поздним вечером снова еду на автобусе или в поезде городской электрички в какой-нибудь кинотеатр, занимаю свое место в первом ряду и смотрю на экран, но временами оглядываюсь в надежде, что кто-нибудь из сидящих сзади зрителей восхитится моей уникальной головой. Оборачиваясь, я тоже снимаю, даже того, кто дивится моей голове. Я вижу, как при замедленной съемке, свою крестную, которая поднимает мокрую тряпку и кладет ее на лоб голой и мертвой бабушки Энц. В столь же замедленном темпе она прикладывает тряпку ко лбу. Капли воды со скоростью улитки ползут по носу в открытый рот. Медленно, как в кино, священник разводит молитвенно сложенные ладони и видит, как одна из неспешно разломившихся облаток возносится, оторвавшись от его рук. Медленно, как в кино, могильщик вкручивает шуруп в гроб Марты. А Марта так же медленно выкручивает его и кладет на вышитую золотой нитью подушку. Господь медленно обрушивает распятия на головы непослушных детей. Один ребенок застывает на месте, он пронзен железным распятием, установленным на деревенской площади в назидание потомкам. Отверстая пасть песчаной гадюки возле песочницы моего детства закрывается. Оператор снимает в режиме замедленной съемки. Я вижу, как голая Пина в чаду кухни свинарника поднимает левую ногу, а сам я, медленно выворачивая шею, смотрю на серый треугольник меж белых ног. Я вижу, как Пина подтягивает другую ногу и плавно опускается в корыто с горячей водой. С локтя руки, ищущей кусок скипидарного мыла, как бы нехотя падают капли. В воображении постоянно повторяется такая картина: я заряжаю пленкой голову и, начиная съемку от левой оконечности деревенского креста, двигаюсь направо – к дому, где жил Роберт. Потом возвращаюсь к центру и на миг замираю на месте, а потом, словно гордо подняв свою прозорливую голову, направляю объектив выше, к усадьбе священника. В этой позиции я тоже замираю на какое-то время и вдруг резко, как наносят мелом черту на доске, опускаю камеру вниз, будто после смертельного удара ножом моя голова упала на грудь, и тут объектив упирается в подножие деревенского распятия. Я фиксирую пальцы ног распятого, а затем поворачиваю голову в сторону кладбища и навожу объектив на могилу Якоба. Но мне противно видеть золотые буквы на надгробных памятниках, и поэтому я устремляюсь к исходному пункту съемки – к родительскому дому, я вбегаю в дверь, проношусь мимо молочных бидонов, мимо лестницы в погреб (теперь перед нею дверь, а раньше можно было угодить в темный подвал), бегу через сени, мимо открытой двери в черную кухню, взлетаю по шестнадцати ступеням, миную спальню родителей и вдруг застываю на месте и прерываю съемку, пленка в моей коротко остриженной голове начинает крутиться назад – глаз моей камеры с ужасом смотрел прямо в глаза крысе. Образы киноленты путаются, наползают друг на друга, одни кадры слишком затемнены, другие передержаны. На них можно увидеть животных с человечьими головами и людей с головами крыс. Я вижу повешенную гадюку в митре епископа, маленький окровавленный терновый венец на голове ребенка. Фигуры сами создают себя и делают со мной все, что им вздумается. Стоит лишь шевельнуться створке окна, как моя голова поворачивается в ее сторону независимо от моей воли, поскольку меня эта качнувшаяся вбок створка вообще не интересует. Когда капля воды отрывается от крана и летит в раковину, голова заставляет меня встрепенуться – глаз моей камеры, который с таким же успехом мог бы являться слепым оком Бога, следит за каплей, исчезающей в решетчатом стоке, взгляд моего объектива тянется вглубь и норовит засосать всего меня в трубу, отходящую от раковины. Не слушаясь меня, мое тело склоняется над раковиной, и я ударяюсь лбом об эмаль, язык припадает к сточному отверстию, и я чувствую, как его затягивает в трубу. Упираясь обеими руками в края раковины, я отрываю от нее голову, мотаю ею в разные стороны, чтобы стряхнуть воду, поворачиваюсь и слепо, как лунатик, бреду с растопыренными руками в ту часть комнаты, где напоминает о себе следующий движущийся предмет. Это – оконная створка, она отъехала в сторону, потому что кому-то хочется, чтобы я выпрыгнул из окна, а возможно, это входит и в планы моей головы с кинообъективом, которой захотелось разбиться вдребезги и тем самым обрести желанный покой, благодаря чему, вероятно, буду упокоен и весь я от шеи до пяток. Во сне мне заменили голову, я видел хирурга, какие-то щипцы и вилки, лампы надо мной светили так ярко, что мне пришлось прикрывать глаза руками. Я слышал звяканье металла, я видел наморщенные лбы и сверкающие глаза, объективы камер следили за операцией, которая была связана с человеческой кожей, но ни одна зверюшка не бегала вокруг операционного стола, и это меня тревожило, ведь если человек и впрямь произошел от обезьяны и, как свидетельствует пример с моей оптико-механической головой, из человека развилась машина, остается сожалеть, что рядом со мной нет животного, которое было бы моим крестным, восприемником машинного новорожденного. Я вижу, как Якоб, снятый в цвете, и черно-белый Роберт все еще висят, вцепившись друг в друга, и у меня такое ощущение, будто они висят во мне, а я повис в них. Иногда гамма меняется, и я вижу цветного Роберта и черно-белого Якоба, а сам я стою перед ними, и одна половина тела у меня цветная, а другая – черно-белая. Осыпаемый снегом, я иду к своему другому, тяжело ступающему «я», чтобы соприкоснуться с ним. Я вижу, как в пелене снегопада передо мной шагает некто, кого я не могу узнать сзади, так как свою спину могу видеть крайне редко, может быть, два-три раза в год, когда примеряю какую-нибудь новую вещь и кокетливо верчу перед зеркалом головой, чтобы убедиться, как я хорош сзади, а уж тем более спереди, и, застревая в снегу, я пытаюсь догнать того, чья спина маячит передо мной, и заглянуть ему в лицо, но в тот момент, когда я почти узнал его, я кажусь себе настолько чужим, что этот образ как бы растворяется и бесследно исчезает, и моя голова направляет свой объектив совсем в другую сторону, подыскивая новый объект, вернее, некий объект нацеливается на мою голову, как будто это он снимает камеру у меня на плечах, а не она его. Телеобъектив ока Божьего теперь направлен на кристаллы одной-единственной снежинки, которая слетает на сугроб с еловой лапы, сверкнув так, что око щурится от боли. Все богомольцы, держась за руки, вереницей слепых идут по городу, они не хотят больше видеть этот мир, они хотят своими заклинаниями отвратить от него нас и предлагают нам молитвенно сложить руки, но я уже не могу сложить руки, точно две половинки бумажного листа. Я складываю две белые половинки, как когда-то складывал в молитве белые детские ладошки. Я сидел перед гипсовой маской Фридриха Хеббеля и без конца нашептывал фразу из его дневника: «У людей бывает момент, когда они уподобляются куклам, а куклы в какой-то момент тождественны живым людям, отсюда и возникают все эстетические смешения». Из глазницы кинематографического черепа выползает кинопленка, она сворачивается кольцами на полу. Посмертная маска Хеббеля успокаивает меня, но мне не следует успокаиваться. Вот уже который месяц я сижу на одном месте, в одной и той же комнате, никуда не высовывая своей головы, заряженной кинопленкой, но мне снова хочется выскочить наружу, да я не могу, так как не знаю, куда мне бежать и кому подставляться. Садясь на ближайший поезд берлинской железной дороги, я на самом деле седлаю его, чтобы подстегивать кнутом: «Быстрее! Вон из города! Вперед!» а когда он останавливается, я готов колоть его в шею до тех пор, пока он не споткнется, не упадет на колени и не грохнется навзничь, чтобы я мог выйти и продолжить путь пешком, вернее, бегом, так как я не выношу, когда поезд стоит, я хочу, чтобы он никогда больше не останавливался, никогда, чтобы он вместе со мной мчался навстречу смерти и за несколько часов езды мое лицо обросло посмертной маской. А когда поезд остановится в Венеции, маска слезет сама собой, и я с великой радостью покину своего «Ромула», упаду на колени и поцелую землю Венеции.
Если я издохну в каком-нибудь монастыре возле груды манускриптов, четверым монахам придется на своих плечах отнести меня в преисподнюю. Деревня, которую я удалил из себя оперативным путем, вырастет заново, возрождая дом за домом, ребенка за ребенком, покойника за покойником. Пока они еще – беспомощные эмбрионы в моей черепной коробке, но скоро наберутся сил, чтобы размахивать веревками и горланить каринтийские песни. Хорошо, что Якоб и Роберт повесились, а потом и Петер Ханс туда же. Хорошо, что отец вытолкал меня взашей. Если бы у меня был сын, а я тянул бы крестьянскую лямку, я поступал бы точно так же, как и мой отец. Я взял бы веревку, породил бы в темном сказочном лесу ребенка, привязал бы его пуповину к веревке и погнал бы дитятко по грибным местам, пока у него на заднице не появилась бы синяя печать. Я породил бы и второго ребенка, одного назвал бы Робертом, другого – Якобом. Дождался бы их семнадцатилетия, чтобы загнать в сарай священника: «Пуповину на шею! И ступайте к чертям в ад!» Будет среди моих сыновей такой, который предъявит мне тот же счет, что и я своему отцу. Он читает Карла Мая, как и я в свое время. Четырнадцати лет от роду поступает в торговое училище, но не заканчивает его, так как из-за пристрастия к книгам не может одолеть учебного материала по коммерческому делу. Неполных семнадцати лет устраивается на службу в контору молокозавода в Верхней Каринтии, однако и здесь чувствует себя неуютно, а приглядевшись к сослуживцам со стажем, понимает, что не хотел бы для себя такого финала; ему кажется: что-то в жизни упущено, и он поступает в вечернюю Академию торговли, а днем работает в производственном отделе издательства, выпускающего книги Карла Мая, а потом – еще и в канцелярии недавно открывшегося педагогического института, но продолжает много читать, а в учебном материале академического курса тоже не находит никакого смысла, и вновь его сбивает с избранного пути литература, заставляя оборвать учебу. Свободное время он проводит на лекциях по германистике и философии. Поскольку он привык работать по четырнадцать часов в сутки, ему не так тяжело с четырех или пяти часов вечера и до поздней ночи заниматься германистикой и философией, посещать лекции и вести разговоры со студентами о литературе, но опять-таки именно литература навсегда выманила его из аудитории, потому что как раз профессиональные толкователи литературы могли бы отвадить его от литературы, от чтения романов и новелл и от собственного творчества. Крестьянский сын добровольно идет служить в федеральную армию Австрии, он хочет испытать не только духовные, но и физические тяготы. Он рад, что существует армия, которую можно ненавидеть. Он рад, что есть военные формирования Каринтии, которые можно ненавидеть. Ведь левые, говорит он, существуют потому, что на свете есть правые, а правые потому, что есть левые. В четырнадцать лет он сказал себе, что когда-нибудь найдет применение своим силам в экономической помощи развивающимся странам. «Буду, как прежде, вести жизнь причетника в сельской церкви, буду и дальше служить, но человечеству, а не бюрократии и этому государству. Я всегда презирал деньги, потому и крал их, а потом пускал на ветер. Не хочу больше только в литературном творчестве исправлять преступления и ошибки, которыми увечили наше детство, я хочу подвергнуть этой корректуре и самого себя в реальной жизни, пусть даже в другой стране, на другом конце света. В крестьянском доме, на молокозаводе, в канцелярии института, всегда и всюду я был бельмом на глазу и, разумеется, намерен впредь оставаться таковым». Мой сын, не я, ведь как-никак я веду речь о сыне, которого я убил, как убили меня, которого я гнал в поле, как гнали меня, мой сын идет служить в федеральную армию, он утратил собственный язык и голос на занятиях германистикой и надеется обрести потерянное, подвергнув себя угнетению. Ему нужна цель, чтобы выковать свое оружие. За время армейской службы он написал три дневника и множество стихотворений. В дневниках он описал одного новобранца, в которого был влюблен. Он изобразил его лицо, фигуру, жесты – всё до мельчайших подробностей. Если на лице парня проступали признаки щетины, это тоже фиксировалось в дневнике. Когда тот мочился в лесу, сын уже подбирал слова для записи. Он описывал, как молодой солдат медленно и робко расстегивает ширинку и настороженно оглядывается, прежде чем спустить трусы. Ботинки, каску, маскировочную сетку этого парня он знал лучше, чем свои собственные. Его винтовку берег пуще своей. Он боялся, что когда-нибудь новобранец заявит, что не желает больше с ним знаться, и скажет прямо: «Вали-ка ты куда подальше, мразь!» – потому что видел, как другого новобранца, повара с гомосексуальными наклонностями, все в роте дразнили: «Эй, голубок! Как живешь, педрила?» – и делали при этом особо выразительные телодвижения. Но парень, в которого я был влюблен, не сказал мне ни одного неприятного слова и не оттолкнул меня. «Я сумел выжить на службе только потому, что был влюблен в этого человека, – читаю я в дневнике сына. – Я живо представляю себе революцию, совершенную всеми рекрутами, которые служат в Филлахе. В военной форме мы выйдем на демонстрацию протеста против федеральной армии. Против военных предприятий, против всего, что связано с насилием. Весь город содрогнется, когда по улицам маршем пройдут солдаты, противопоставившие себя армии. В руках у всех будут не винтовки, а пальмовые ветви. Только представить себе: тысяча марширующих новобранцев в военной форме, и у каждого – пальмовая ветвь мира. Мы пошлем по пальмовой ветви бундеспрезиденту, Мао, Никсону и Брежневу». Он выражал в словах всякое событие, даже если кто-то просто споткнулся о еловый сук у входа в палатку. Он указывал точное время, когда новобранец шел по двору казармы с полотенцами из прачечной. Всю жизнь он мучился языком и безъязыкостью. Когда ему было семнадцать и от него отвернулась девушка, в которую он влюбился, он написал в так и не отправленном письме: «Но для меня еще не потеряна литература, лишь благодаря этому я до сих пор жив, я еще прочту стоящие книги о жизни и о смерти». Унтер-офицеры смотрели на него с завистью и презрением одновременно, когда, сидя на броне и разложив на коленях блокнот, он искал нужные слова, вглядываясь в еловый лес. Не так давно он встретил того самого парня, который приглянулся ему во время службы, а после стал механиком и увлекся боксом. Тот сказал: «Тогда я считал тебя чокнутым, теперь уже так не думаю». Он рассказывал ему о своих боксерских боях. Сын смотрел на измученное и даже искаженное ударами соперников лицо, боясь, что и боксер обратит внимание на его лицо, измученное и даже искаженное каторжной работой над языком и текстом. «Ты умел отстаивать интересы солдат. Мы тебя никогда не забудем, – добавил в конце разговора боксер. – Может, еще увидимся». Он вступался за подмастерьев и учеников, за крестьянских парней, а молодые интеллектуалы не интересовали его. Потом он станет гораздо охотнее и легче сходиться на дискотеках или в парках с кем-нибудь из деревенских или фабричных ребят, прося их о любви. «Знание – сила, а я не люблю сильных, уж лучше усядусь где-нибудь под цветущей грушей и сам себя удовлетворю». Его тянуло к неграм и арабам, к японцам и китайцам, приехавшим в чужой город, чтобы найти там свое несчастье. Отслужив в армии, мой сын опять устроился в канцелярию педагогического института. Осенью того же года он впервые едет в Италию, в течение месяца изучает итальянский в Перудже на курсах при университете, затем едет в Рим и наконец первый раз в жизни ступает на землю Венеции. С тех пор он вновь и вновь приезжает туда, Пасху и Рождество проводит в одиночестве на Адриатическом побережье в Лидо и преклоняет колени перед младенцем Иисусом в тамошней церкви. Спустя два года, в сентябре 1976 года, Якоб и Роберт повесились в сарае священника на веревке, которой привязывали телят. Он опять едет в Венецию и, не в силах забыть утрату, в кафе «Флориан» делает первые наброски своего первого романа. Через два года, когда роман увидел свет, я, расправляя лютики у навозной кучи, говорю ему: «Можешь писать обо мне все что хочешь, если тебе от этого легче, а этих парней не трогай, не тревожь покойников…»
Я знаю, что у какого-нибудь ученика каменщика, у могильщика, у монаха, у кухарки священника или у любой крестьянки могу почерпнуть больше в своем познании жизни, чем у профессора, вещающего с университетской кафедры. Я изъял себя из машины академического обучения. Я было уверовал в бога в профессорском образе, когда двадцати лет от роду покинул крестьянский двор и поступил на службу в канцелярию только что созданного педагогического института, но теперь в этого бога я не верю. Однажды мне поручили на службе дежурить у телефона, во время какого-то заседания ко мне подошел ректор Венского университета и попросил связать его с неким абонентом. Я позвонил и переключил линию на соседний аппарат. Профессор взял трубку, но в этот момент связь прервалась. Он поднял крик: «Кто вас просил переключать? Я мог бы воспользоваться вашим телефоном!» Я ответил не менее громко: «Мой аппарат только для входящих звонков!» Он вздрогнул и обалдело уставился на меня. Через несколько секунд я уже нормальным тоном сказал ему, что попробую соединить еще раз. Это надо же, не успел я и трех месяцев проработать в высшей школе, как уже криком отвечаю на крик начальства. Это наполнило меня гордостью, хотя в то же время я чувствовал себя виноватым. Как я посмел вступить в пререкания с университетским профессором. Сон преобразил Вёртер-Зее в некое ледяное озеро. Оно было меньше, чем Вёртер-Зее, и со всех сторон его обступали мерцающие желто-синими зарницами, почти прозрачные горы. Справа и слева метрах в сорока или пятидесяти от меня стояли прозрачные письменные столы изо льда и ледяные кабинетные кресла. Мимо проносились фигуристы, одетые по моде начала XX века. За столами сидели чиновники из нашей канцелярии и над чем-то усиленно трудились. И вдруг я почувствовал, что лед под моими ногами становится все тоньше. Я было бросился к берегу, но единственное, что мог сделать, – повернуться, не сходя с места. И чем сильнее я порывался бежать, тем быстрее крутился на месте, а вместе со мной начали кружиться прозрачные горы в желто-голубом сверкании, ледяные конторские столы и кресла. В конце концов я стал проваливаться и уже собирался кричать о помощи. И тут обнаружил, что стою на втором пласте льда, который на полтора метра ниже верхнего. Растопырив руки, я пытался вылезти и шепотом призывал на помощь самого себя. Больше всего я боялся, что меня спасут бюрократы. «Нет уж, дудки! Я не дам вам спасти меня!» Фигуристы как ни в чем не бывало горделиво катили по льду. Прозрачные бюрократы работали за прозрачными столами, марая прозрачную бумагу прозрачными чернилами. В их прозрачных телах я видел пульсирующие желудочки сердца, видел ток их крови в прозрачных жилах. Под прозрачной кожей физиономий – белесую прозрачную плоть и кости черепа. Зубной протез ректора университета крепился к скулам двумя петельками в виде параграфов. Татуированные параграфы – на животе и плечах. Другой пилот прозрачного бюрократического кресла держит в прозрачных руках прозрачные деньги и смотрит на свои прозрачные ступни и прозрачную гладь озера, он видит водоросли и рыб, присосавшихся к нижней стороне ледового покрова. Секретарши барабанят прозрачными пальчиками по клавишам прозрачных электрических машинок. Фигуристы резво лавируют между прозрачными столами. «Покажите мне тодес или трюк еще покруче, пока я не погрузился еще ниже и не исчез в ледяном гробу!» Видят ли бюрократы, как я проваливаюсь? А может, они ждут, когда меня накроет прозрачная крышка? Я не хочу, чтобы они спасли меня, но я хочу жить, жить хочу! Помогите мне и не вздумайте помогать! Для белового варианта рукописи своего романа я привезу бумагу из Венеции. Австрийская для меня слишком осквернена бюрократией, мое отвращение к отечественной целлюлозе становится неодолимым. Она изначально замарана чернилами и обгажена бюрократическим языком. В Австрии нет ничего более лживого и преступного, чем ее бюрократия, нет ничего циничнее бюрократического цинизма, нет ничего более опасного, чем эта ядовитая змея, подмявшая всю страну. Сколько людей и сколько своих служителей она сделала духовными калеками, которые в свою очередь калечат все новых рекрутов бюрократии! Это они выглядывают из глаз аспида, чья голова колышется, нависая над австрийской землей. В Вене ее раздвоенный язык шелестит над красно-бело-красными коврами у дверей министерств, где интригуют и плетут паучьи сети ее прислужники. Преступники наших дней – не те бедолаги, что ради хлеба насущного ограбили лавку или частную квартиру, а чинуши, сидящие в змеиной голове за рычагами красно-бело-красной государственной машины и упоенные своей властью. Служи господину своему, он – твой новый бог, будь исправным служкой у дверей в кабинет начальства, пока он молится на тебя. Следует положить на стол (тут я перехожу на аптечно-рецептурный стиль) изображение двуглавого орла с красно-бело-красным флагом и обеспечить доступ в помещение живой вороне, положите ворону на двуглавого орла, расправьте ей крылья и прибейте их гвоздями. Возьмите кисть и краски и нарисуйте на вороньей груди красно-бело-красную эмблему австрийского национального флага. К лапам вороны привяжите серп крестьянина и молот рабочего, не обращая внимания на ее карканье и мотание головой.
– Я знаю, чем кончают такие люди, – сказал мне ректор института, когда я отказался участвовать в приготовлениях к его юбилею. Я не знаю, каким будет его конец, знаю только, что мой будет страшен, но я полюблю страх, а его он убьет. В кабинетах многих профессоров и ассистентов висят портреты их бывших научных шефинь и шефов. Студенты медленно плетутся в аудиторию, а по окончании лекции быстрехонько освобождают ее. Некоторые интеллектуалы времен моей юности за версту обходили меня, на самом же деле это я с упреждением обходил их за две версты. Жена профессора математики за свадебным столом одного философа спросила меня, в каком институте я ассистентствую? «Ни в каком. Я служу по договору в канцелярии». – «Вот как!» Она рассмеялась и больше не проявляла ко мне ни малейшего интереса. В приемной я услышал обрывок разговора. Какой-то худосочный интеллектуал сказал, что русские первым делом нанесут удар по Германии, там будет очаг, с этого все начнется. Мне пришли на ум слова Леона Блюма: «Говорить о войне как о возможном грядущем событии значит вносить свою маленькую лепту в развязывание войны». Большой и сильный, отец стоял у меня перед глазами. Я всегда знал, что отец – мой враг. Но, работая в институте, я не мог сказать, кто здесь мне враг, а кто друг. Моя война с отцом продолжается по сей день. От него никуда не деться, когда я завожу речь об армии или о бюрократии. Я благодарен тебе, отец, за все, что ты мне сделал, будь и ты благодарен мне за все, чем я тебя доставал. Благодарю за каждый удар, который ты на меня обрушил. Я благодарен тебе, отец, за каждое твое грубое слово, ибо преодолел тебя в тебе и в себе, даже когда я, как и прежде, стремлюсь сокрушить тебя в других авторитетах, поэтому я могу и обязан сказать: армия должна быть отменена, равно как и бюрократия, подавляющая всякую человеческую индивидуальность. Я лишь один из тех, кто не раз проклинал твой авторитет, отец. На смертном одре я буду биться с черным ангелом моего детства. Я радостно иду навстречу тяготам и ужасам моей будущей жизни, как и ее прекрасным моментам. Когда помощь развивающимся странам станет и моим делом, я буду исправлять в других детях те же самые аномалии, отец, которыми мы обязаны вам, тебе и твоим односельчанам. Выражая тебе благодарность, я, однако, не имею в виду других крестьянских детей, которые не смогли добиться своего освобождения ни словом, ни действием. Моя благодарственная пощечина предполагает только два действующих лица – меня и тебя. А не всех тех, кто до самой смерти тащит страшный груз прошлого. Даже в сорок лет человек остается изнасилованным ребенком, который соблазняет его совершить тот или иной, как говорится, гнусный поступок. Речь идет о душах отверженных и заблудших, а эти люди сами угнетают и насилуют кого-то, жить иначе они уже не могут.








