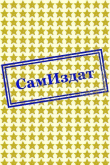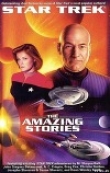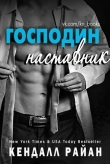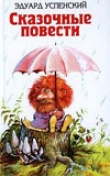Текст книги "Похождения бравого солдата Швейка (с илл.)"
Автор книги: Ярослав Гашек
Жанр:
Юмористическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 48 (всего у книги 49 страниц)
– Ты кончил? – спросил вольноопределяющийся Марек, которому, должно быть, тоже не терпелось принять участие в разговоре.
– С этим я покончил, – ответил Швейк, – но аналогичный случай произошел в Бескидах, об этом я расскажу вам, когда мы пойдем в сражение.
Вольноопределяющийся Марек начал:
– Поваренное искусство лучше всего познается во время войны, особенно на фронте. Позволю себе маленькое сравнение. В мирное время все мы читали и слушали о так называемых ледяных супах, то есть о супах, в которые кладут лед. Это излюбленные блюда в Северной Германии, Дании, Швеции. Но вот пришла война, и нынешней зимой на Карпатах у солдат было столько мерзлого супа, что они в рот его не брали, а между тем – это изысканное блюдо.
– Мерзлый гуляш есть можно, – возразил старший писарь Ванек, – но недолго, самое большее неделю. Из-за него наша девятая рота оставила окопы.
– Еще в мирное время, – необычайно серьезно заметил Швейк, – вся военная служба вертелась вокруг кухни и вокруг разнообразнейших кушаний. Был у нас в Будейовицах обер-лейтенант Закрейс, тот всегда вертелся около офицерской кухни, и если солдат в чем-нибудь провинится, он скомандует ему «смирно» и напустится: «Мерзавец, если это еще раз повторится, я сделаю из твоей рожи настоящую отбивную котлету, раздавлю тебя в картофельное пюре и потом тебе же дам это все сожрать. Полезут из тебя гусиные потроха с рисом, будешь похож на шпигованного зайца на противне. Вот видишь, ты должен исправиться, если не хочешь, чтоб люди принимали тебя за фаршированное жаркое с капустой».
Дальнейшее изложение и интересный разговор об использовании меню в целях воспитания солдат в довоенное время были прерваны страшным криком сверху, где закончился торжественный обед.
В беспорядочном гомоне голосов выделялся резкий голос кадета Биглера:
– Солдат должен еще в мирное время знать, чего требует война, а во время войны не забывать того, чему научился на учебном плацу.
Потом запыхтел подпоручик Дуб:
– Прошу констатировать, мне уже в третий раз наносят оскорбление.
Наверху совершались великие дела.
Подпоручик Дуб, лелеявший известные коварные умыслы против кадета Биглера и жаждавший излить свою душу перед командиром, был встречен страшным ревом офицеров. На всех замечательно подействовала еврейская водка.
Один старался перекричать другого, намекая на кавалерийское искусство подпоручика Дуба: «Без грумма не обойдется!», «Испуганный мустанг!», «Как долго, приятель, ты пробыл среди ковбоев на Западе?», «Цирковой наездник!».
Капитан Сагнер быстро сунул Дубу стопку проклятой водки, и оскорбленный подпоручик Дуб подсел к столу. Он придвинул старый поломанный стул к поручику Лукашу, который приветствовал его участливыми словами: «Мы уже все съели, товарищ».
Кадет Биглер строго по инструкции доложил о себе капитану Сагнеру и другим офицерам, каждый раз повторяя: «Кадет Биглер прибыл в штаб батальона». Хотя все это видели и знали, тем не менее его поникшая фигура каким-то образом осталась незамеченной.
Биглер взял полный стакан, скромно уселся у окна и ждал удобного момента, чтобы бросить на ветер свои познания, почерпнутые из учебников.
Подпоручик Дуб, которому ужасная сивуха ударила в голову, стуча пальцем по столу, ни с того ни с сего обратился к капитану Сагнеру:
– Мы с окружным начальником всегда говорили: «Патриотизм, верность долгу, самосовершенствование – вот настоящее оружие на войне». Напоминаю вам об этом именно сегодня, когда наши войска в непродолжительном времени перейдут через границы.
До этих слов продиктовал уже больной Ярослав Гашек «Похождения бравого солдата Швейка во время мировой войны». Смерть, наступившая 3 января 1923 года, заставила его умолкнуть навсегда и помешала закончить один из самых прославленных и наиболее читаемых романов, созданных после Первой мировой войны.
Примечания
О прототипе образа Швейка
Еще в 1920-1930-е годы на родине Гашека было известно, что некоторые персонажи его романа «Похождения бравого солдата Швейка» носят имена реально существовавших лиц. И хотя Гашек не склонен был довольствоваться живописанием с натуры, а, наоборот, имел обыкновение давать полную волю своему неистощимому воображению юмориста и художественному вымыслу, образы его героев порой действительно ведут свою историю от конкретных живых людей, о чем иногда и хранят память их имена. Особый интерес он питал к необыкновенным человеческим экземплярам, диковинным натурам.
Существовал, например, реальный поручик Лукаш: Гашек служил в его роте во время Первой мировой войны. Существовали капитан Сагнер и старший писарь Ванек, сберегший, между прочим, тексты фронтовых стихотворений Гашека. Когда в 1983 году в Москве проходила юбилейная конференция, посвященная столетию со дня рождения Гашека, гости из Чехии передали участникам встречи привет от сына Ванека. Унаследовав гражданскую профессию отца, он служил в это время в лавке москательных и аптекарских товаров в Кралупах под Прагой.
Некоторые однополчане Гашека, имена которых мы встречаем на страницах его романа, были живы еще и после Второй мировой войны. В 1950-е годы журналистам удалось побеседовать с бывшим кадетом Биглером. Он проживал в то время в Дрездене и сообщил, что только незадолго до этого прочел роман Гашека и что он ему понравился. Он самоотверженно признал также, что его собственная армейская служба обрисована в романе правдиво. В конце 1950-х годов еще здравствовал солдат необычайно буйного нрава Йозеф Водичка, достаточно правдоподобный прототип драчливого сапера Водички. Гашек познакомился с ним в России – в Тоцких лагерях для военнопленных.
О происхождении образа самого Швейка долгое время ходили весьма туманные и противоречивые слухи. Наиболее достоверными казались сведения, что какие-то черты главного героя Гашек подсмотрел у своего однополчанина и любителя рассказывать анекдоты, денщика поручика Лукаша – Франтишека Страшлипки (вместе со Страшлипкой Гашек и перешел на сторону русских в сентябре 1915 года).
Однако в 1968 году, спустя почти полвека после кончины Гашека, в пражском популярном журнале «Кветы» появился очерк за подписью Ярослава Веселого, в котором утверждалось, что еще с 1911 года у Гашека был приятель, пражский ремесленник Йозеф Швейк, якобы и послуживший прототипом его героя. Воспоминания Швейка о его недавней армейской службе сразу же пали на благодатную почву антимилитаристских и антимонархических настроений Гашека и дали импульс для создания известного цикла юмористических рассказов писателя, в которых было использовано имя Швейка. Позднее оно перекочевало и в его роман. Во время Первой мировой войны Швейк, по словам автора статьи, как и Гашек, оказался в России и пути их там пересекались.
Сообщение Веселого было настолько неожиданным, а вокруг Гашека всегда возникало столько мистификаций, начало которым положил он сам, что статью встретили не без скепсиса. Правда, два специалиста по творчеству Гашека, А. Кнесл и Р. Пытлик, упомянули в печати о версии Веселого, допустив, что, возможно, в ней есть какая-то доля истины, а Кнесл подтвердил и отдельные его сведения (дату рождения и пражский адрес Швейка) – видимо, по записям в метрических книгах. Однако дальше этого дело не пошло.
Автору настоящей статьи показалось небезынтересным проверить информацию Я. Веселого – по крайней мере в части, касающейся пребывания Швейка в России, тем более что в свое время ходили слухи, будто материалы о некоем Швейке (а фамилия эта очень редкая) есть и в наших архивах. Ныне покойный московский историк А. Х. Клеванский, автор книги о чехословацком добровольческом корпусе в России, еще лет сорок назад рассказывал, что в Архиве Октябрьской революции в Москве (сейчас – Государственный архив Российской Федерации) хранится карточка на чешского военнопленного периода Первой мировой войны Йозефа Швейка. Это же подтверждал и ныне здравствующий журналист Ж. У. Кацер, также державший в руках эту карточку из фонда материалов о пленных и беженцах. Однако обращение в архив в конце 1980-х и в 1990-е годы не дало результатов: карточки на месте не оказалось, и судьба ее неизвестна. Не увенчались успехом и попытки связаться с Ярославом Веселым. В Праге о нем никто ничего сообщить не мог. После упомянутой статьи о Швейке он больше никак не давал знать о себе и в печати. Возникало даже сомнение, не псевдоним ли это. Между тем статья оставляла немало возможностей для проверки утверждений автора. Не лишенная элементов очерковой беллетризации и явных художественных дорисовок, она содержала вместе с тем и вполне конкретные факты и даты. Сообщалось, например, что после войны Швейк дважды получал в Чехословакии награды за участие в битве у Зборова в 1917 году (тогда чехословацкие добровольческие части сражались против австрийских войск). Второе награждение состоялось в 1947 году, то есть явно было приурочено к тридцатой годовщине зборовской битвы. Естественно, где-то должен был существовать указ о награждении с перечнем награжденных лиц. В феврале 1987 года, во время поездки в Чехию пишущему эти строки удалось побывать в пражском Военном историческом архиве и ознакомиться с «Кадровым вестником Министерства национальной обороны». В номере от 19 июля 1947 года был опубликован указ за подписью министра национальной обороны Людвика Свободы о награждении участников битвы у Зборова «Памятной зборовской медалью». В алфавитном списке стояла и фамилия Йозефа Швейка с указанием воинского звания: «ефрей[тор] зап[аса] Йозеф Швейк». Этим документом сразу подтверждался целый комплекс фактов: существование в австрийской армии чешского солдата – полного тезки героя Гашека, его служба в годы Первой мировой войны на Восточном фронте, его пребывание в русском плену, а затем в чехословацких добровольческих легионах (последние формировались почти исключительно из военнопленных), его участие в битве у Зборова (в которой, между прочим, участвовал и Ярослав Гашек, награжденный за эти бои еще в России в октябре 1917 года серебряной Георгиевской медалью «За храбрость»). Далее выяснилось, что архив располагает прекрасной картотекой легионеров, состоящей из их личных дел. Среди них оказалось и дело Швейка – папка с целым набором документов: регистрационная карта-анкета, послужные списки, документы о перемещениях, зачислениях, откомандированиях, медицинских освидетельствованиях. По случайному стечению обстоятельств исследователи творчества Гашека к этой папке еще не обращались. Очевидно, все искали в этом, да и других архивах прежде всего материалы о самом Гашеке, но не о Швейке, так как существование реального Йозефа Швейка длительное время оставалось неизвестным (Я. Веселый или человек, подписавшийся этим именем, как выяснилось, также не был знаком с архивом и опирался всецело на собственные беседы со Швейком).
Особый интерес, конечно, представляла анкета, собственноручно подписанная Швейком. Текст анкеты гласил (оригинал на чешском языке):

* В России Швейк принял православие. – Примеч. авт.
** Это русское слово воспроизведено латинскими буквами. – Примеч. авт.

* Сокол – чешская массовая спортивная организация патриотической ориентации. – Примеч. авт.
** В оригинале цифры 3 и 5 слабо перечеркнуты карандашом и карандашом же по-чешски вписано (с сокращением слов): Шт[аб] в[ойска] нестр[оевая рота]. (С некоторых пор Швейк числился в транспортной роте при штабе войска. – Примеч. авт.)
Архивные документы вместе со сведениями Я. Веселого, которые в подавляющей своей части подтвердились, позволили составить общую картину жизни Швейка (1890–1965). Он оказался пражским ремесленником, мастером на все руки, испробовавшим и профессию пекаря, и сапожное ремесло, и другие специальности и занятия. Гашек, как уже говорилось, познакомился с ним в 1911 г., после чего им был написан цикл из пяти рассказов о бравом солдате Швейке, где впервые появляется это имя. Во время Первой мировой войны Швейк был мобилизован и в составе 36-го пехотного полка попал на Восточный фронт. Чешские воинские части неохотно сражались за интересы Австро-Венгерской империи. О настроениях в 36-м полку красноречиво свидетельствует официальное донесение командования об итогах боев 26–27 мая 1915 г. под Сенявой. За два дня полк потерял тогда 10 человек убитыми, 69 ранеными и 1495 пропавшими без вести! (Естественно, воинскую часть пришлось объявить расформированной.) Однако Швейка среди пропавших не было. Он перебежал к русским еще за 12 дней до этого.
Целых четыре года Швейк находился в России, сначала около года в лагерях для военнопленных – в Дарнице под Киевом и в Ташкенте, затем в чехословацких добровольческих частях, где служил пехотинцем-стрелком, позднее – в разведке, хотя числился в транспортной роте при штабе войска. В составе добровольческого корпуса он проделал путь от Киева – через Самару, Челябинск, Тюмень, Иркутск – до Владивостока, откуда в 1919 г. морским транспортом (№ 8, пароход «Эфрон») был эвакуирован на родину.
В архивном деле Швейка нет прямых упоминаний о Гашеке и о его встречах с ним, хотя косвенные данные неопровержимо подтверждают их общение и в Чехии, и в России. Чрезвычайно важным оказался, в частности, документально зафиксированный пражский адрес Швейка. Перед войной он жил на улице Боиште в доме 463. Дом этот, как выяснилось, вплотную примыкает к трактиру «У чаши», в котором и начинается действие романа после убийства эрцгерцога Фердинанда. Жилище Швейка-прототипа отделяли от трактира каких-нибудь тридцать-сорок шагов. Больше того, оказалось, что и в романе, хотя и косвенно, упоминаются те же места проживания Швейка, что и в архивных документах. Когда поручик в комендатуре на железнодорожной станции Табор называет Швейка дегенератом и спрашивает, знает ли он, что такое дегенерат, Швейк отвечает: «У нас на углу Боиште и Катержинской улицы, осмелюсь доложить, тоже жил один дегенерат. Отец его был польский граф, а мать – повивальная бабка» (курсив мой. – С. Н.). В романе даже сказано, что и с Водичкой до войны Швейк общался на улице Боиште. По поводу их нечаянной встречи в армии говорится: «Несколько лет тому назад Водичка жил в Праге на Боиште, и по случаю такой встречи не оставалось ничего иного, как зайти обоим в трактир» (курсив мой. – С. Н.). Недаром Швейк и Водичка и свидание «в шесть часов вечера после войны» назначают в трактире «У чаши».
Такое совпадение реалий в романе Гашека и в архивном деле Швейка не оставляло ни малейших сомнений в их знакомстве.
Не менее важные факты и обстоятельства раскрылись и при сопоставлении архивных данных о пребывании Швейка в России с документально известными сведениями о российском периоде в жизни Гашека. Удалось установить, что судьба очень близко свела их и в чехословацких добровольческих частях. Даже зачислены они были в эти части (в Киеве) с разницей всего в пять дней: Швейк – 24-го, Гашек – 29 июня 1916 г., причем попали они в один полк, а поначалу даже и в одну роту. Более полугода они были однополчанами. И это имеет прямое отношение к творческой истории образа Швейка. Новые встречи со Швейком побудили Гашека написать повесть «Бравый солдат Швейк в плену» (1917), которая многими мотивами предвосхищала позднее созданный роман.
Ремесленник с улицы Боиште не только дал имя герою Гашека, но и подсказал какие-то существенные его черты. Знакомство с биографией Швейка показывает, что он тоже был парень не промах и тоже начал свою армейскую одиссею с мистификации и плутовства. Будучи призван в 1911 г. на действительную службу, он с необыкновенным проворством сумел через два месяца освободиться от нее и вернуться домой. Правда, Ярослав Веселый, поведавший об этой истории и даже опубликовавший фотографию 1911 г., на которой Швейк снят в форме новобранца, не сообщил, каким образом Швейку удалось добиться своей цели. Создается впечатление, что автор статьи что-то недоговаривает. Однако сейчас есть возможность приоткрыть завесу над тайной. Дело в том, что при сопоставлении фактов обнаруживается неувязка с годом рождения Швейка. По воинским документам дата его рождения – 22 ноября 1892 г. Следовательно, в 1911 г. ему было девятнадцать лет. Между тем призывным возрастом в Австро-Венгерской империи считался двадцать один год. Получается, что либо в 1911 г. Швейк не призывался (что исключено), либо он родился в 1890 г., а будучи призван, сумел каким-то способом занизить свой возраст и был отпущен (но с тех пор в его воинских документах проходил уже новый год рождения). Этим, видимо, объясняется и описка (намеренная?) в статье Я. Веселого, где в одном месте сказано, что Швейк умер (в 1965 году) в возрасте семидесяти трех лет, а в другом – семидесяти пяти. (Кстати говоря, А. Кнесл, вероятно, смотревший метрические книги, также называет датой рождения Швейка 1890 год.)
Аналогичной мистификацией Швейк и завершил свою воинскую карьеру. Чехословацкие легионеры в России, некогда горевшие энтузиазмом, к концу войны стремились поскорее возвратиться на родину, где после поражения и распада Австро-Венгерской империи уже было провозглашено независимое чехословацкое государство. Не составлял исключения и Швейк. В его архивном деле хранится заключение медицинской комиссии, которая заседала в Иркутске в июле 1919 г. и освободила его от службы по состоянию здоровья, определив к эвакуации в Европу. В графе «год рождения» в этом документе, скрепленном четырьмя подписями и печатью, проставлен 1887 г. По сравнению с другими документами возраст завышен на целых пять лет (по отношению к истинному возрасту – на три года). Стремясь вырваться домой, а для этого пытаясь усилить доводы в пользу своей демобилизации, Швейк, судя по всему, рискнул повторить однажды уже испробованный и оправдавший себя способ. Но если в 1911 г. он занижал свой возраст, то теперь с той же целью завысил его. Сведения на заседании комиссии записывались скорее всего не по документам, а со слов самого Швейка, а он, видимо, не упустил возможности воспользоваться оплошностью военного чиновника, заполнявшего бланк, а может быть, и его сочувственным отношением.
Следы путаницы с годом рождения Швейка хранит и еще один документ в его деле – небольшого формата листочек, на котором кто-то из должностных лиц записал несколько его анкетных данных. Здесь год рождения вообще читается как 1882-й (с чрезвычайно большой натяжкой можно предположить 1889 г. с неудачно написанной девяткой).
Ярослав Веселый пересказал и собственные воспоминания Швейка о его поведении в австрийской армии во время Первой мировой войны: «Когда в 1914 году меня призвали на службу в австрийскую армию, я сразу же оказался в числе саботажников и сачков и стал играть умного дурака по принципу «глупостью против военных глупостей». На фронте я прослыл титулованным идиотом».[342]342
J. A. Vesely. Hasküv přítel Josef Švejk. // Kvĕty, 1968. 7. IX, č. 35. S. 22.
[Закрыть] В выражениях Швейка явно сказывается влияние романа. Но в то же время он не покушался на лавры героя Гашека и добавлял: «Разумеется, я не умел так гладко проскочить через все трудные ситуации и конфликты, как герой в романе Гашека. У меня не было такого запаса притворства и хитрости, хотя и я всегда любил шутку и никогда не забывал о развлечениях и забавах».[343]343
Ibid.
[Закрыть]
Образ Швейка, конечно, не «слепок» с реального человека. Важен был импульс. Дальше простиралась необозримая и бурная работа богатейшего воображения Гашека, сумевшего развить замысел до создания необыкновенно яркого образа, одного из самых колоритных в мировой литературе XX века.
Несмотря на сходство с прототипом, герой романа Гашека во многом от него отличается. Гашековский Швейк, например, неизменно ассоциируется у нас с кружкой пива. В этой связи почитатели образа Швейка, возможно, будут разочарованы, но реальный Швейк не питал особого пристрастия к хмельным напиткам. Он отличался и менее «шумным» поведением, чем Швейк в романе. Со временем он вообще сделался благополучным ремесленником и, кажется, завел даже обувную лавочку или мастерскую на Липовой улице в Праге. (Я. Веселый отмечает, что, владея несколькими специальностями, он никогда «не жил в нужде»). После появления цикла рассказов, а тем более романа с героем, носившим его имя, он предпочитал не привлекать к себе внимания и не афишировать своей причастности к творческой истории этого персонажа. По-прежнему продолжались его дружеские отношения с Гашеком, которого он ценил и любил, но оба они не раскрывали тайны прототипа. Если Швейку доводилось оказаться в обществе Гашека при посторонних, он обычно выдавал себя за его родственника и не называл своего настоящего имени. Не давал он повода отождествлять себя с героем Гашека и в дальнейшем.
Некоторые весьма существенные особенности своего героя Гашек позаимствовал и у других людей. Так, очень большую роль в структуре образа Швейка играют его безудержная словоохотливость, его бесконечные разглагольствования и целые рассказы «к слову» (их в романе более полутораста). Монологи и многочисленные реплики Швейка – важнейший пласт романа. И восходит этот компонент образа не к Швейку с улицы Боиште, а к упомянутому уже денщику поручика Лукаша Страшлипке. Именно он славился у однополчан привычкой по каждому поводу рассказывать всевозможные истории, которые начинал обычно словами «Знал я одного…». Тем не менее не следует преуменьшать и той роли, которую сыграло в творческой истории романа знакомство Гашека со Швейком.
К сожалению, мы пока что знаем о прототипе главного героя комической эпопеи Гашека не так много. Можно, однако, ожидать, что дальнейшие архивные поиски чешских исследователей пополнят существующую информацию. Так или иначе, весьма заманчиво было бы получить более полное представление о жизни Швейка, в том числе и после его возвращения из России. Чем он занимался в разное время? Каков был его повседневный образ жизни? Разумеется, интересно было бы узнать, как прошли для него годы немецко-фашистской оккупации (к моменту ввода гитлеровских войск в Чехию и провозглашения протектората ему не исполнилось еще и пятидесяти лет). Как сложилась его судьба в послевоенное двадцатилетие, при коммунистическом режиме? Что стало с его лавочкой или мастерской? Ярослав Веселый пишет о жизни Швейка в это время в самых общих чертах. Из конкретных фактов, относящихся к последнему периоду, он сообщает только один: в 1955 г., во время проходившей в Праге спартакиады, Швейк был приглашен на церемонию открытия обновленного трактира «У чаши», который был превращен тогда в мемориальный, что было тесно связано с именем Гашека и образом его героя. Несомненно, и Швейка пригласили именно в этой связи. Кто-то из устроителей торжества, видимо, знал, что он имеет отношение к Гашеку и истории его романа. Но и в этом случае Швейк постарался остаться в тени – «пришел, похвалил, пожелал успеха и, извинившись, откланялся».
Последние десять лет своей жизни, по свидетельству Я. Веселого, Швейк «счастливо прожил в кругу своей семьи», и окружающие относились к нему с уважением и симпатией.
С. В. Никольский
* * *
Эрцгерцог Фердинанд (1863–1914) – Франц Фердинанд фон Эсте, племянник австро-венгерского императора Франца Иосифа I; был убит вместе со своей женой в Сараево 28 июня 1914 г.
Конопиште – замок эрцгерцога Франца Фердинанда в Чехии.
Нечего нам было соваться отнимать у них Боснию и Герцеговину… – В 1908 г. Австро-Венгрия аннексировала Боснию и Герцеговину.
Помните господина Люккени, который проткнул нашу покойную Елизавету напильником? – Луиджи Люккени 10 сентября 1898 г. убил австрийскую императрицу Елизавету, жену Франца Иосифа I.
…начали с его дяди. – Швейк ошибается: Франц Фердинанд был племянником, а не дядей Франца Иосифа I (см. примеч. к с. 27).
…увезли в корзине очухаться… – Во времена Австрийской монархии пьяных в Праге увозили в ручной тележке-корзине.
…помните, как в Португалии подстрелили ихнего короля? – В Лисабоне 1 февраля 1908 г. был убит португальский король Карл I, отличавшийся чрезвычайной тучностью.
…что написал Виктор Гюго… рассказывая о том, как ответила англичанам Старая наполеоновская гвардия в битве при Ватерлоо. – Наполеоновская гвардия на предложение англичан сдаться ответила: «Merde![344]344
Дерьмо! (фр.)
[Закрыть] Гвардия умирает, но не сдается».
Панкрац – тюрьма для политических заключенных, расположенная в Праге, в районе того же названия.
…лежал связанный «козлом». – В австро-венгерской армии провинившемуся солдату привязывали руки к ногам и в таком положении оставляли лежать в течение дня и более.
Младочех – член чешской буржуазной партии.
…гонялся за старухами, которые у него в имении собирали хворост и грибы. – Эрцгерцог Франц Фердинанд был известен своей жадностью и строгостью по отношению к бедным крестьянам, жившим поблизости от его замка.
…потом не стало его брата Яна Орта… – Эрцгерцог Ян в 1889 г. отрекся от своего титула и принял фамилию Орт. В 1890 г. пропал без вести.
…брата – мексиканского императора застрелили в какой-то крепости у стенки. – Эрцгерцог Максимилиан Габсбург, император Мексики с 1863 по 1867 г., был посажен на престол французскими интервентами. Впоследствии был взят в плен мексиканскими республиканцами и расстрелян у стены крепости Кверетаро.
…показал… своего «орла»… – На значке агентов тайной полиции в Австро-Венгрии был изображен герб с двуглавым австрийским орлом.
«Гей, славяне». – Песня «Гей, славяне, еще наша славянская речь живет» была сложена в Праге в 1834 г. словаком Само Томашиком. В печати она появилась в Словакии в 1838 г., пелась на мотив польской мазурки. Получила широкое распространение у славян и считалась гимном славянских народов.
Ломброзо, Чезаре (1835–1909) – итальянский профессор психиатрии, занимавшийся изучением типов преступников. Однако ни одна из его книг не носит названия «Типы преступников».
Покупаю вечерний выпуск «Национальной политики», «сучку». – Имеется в виду беспринципная чешская газета, получившая в народе прозвище «сучка».
Ян Непомуцкий – чешский католический святой.
…пока его… не сбросили с Элишкина моста. – Швейк ошибается: Элишкин мост был построен в 1865–1867 гг., а Ян Непомуцкий жил в XIV в.
«Зеленый Антон» – полицейский фургон, в котором перевозили арестованных.
…посылали к Тессигу за жарким… – «Тессиг» – пражский ресторан.
Геверох, Антонин (1869–1928) – известный чешский психиатр.
Ботич – ручей в Праге.
…возвращался от Банзета… – «Банзет» – пражский ресторан.
Имена Каллерсон и Вейкинг в медицинской литературе не встречаются. Вероятно, они вымышленные.
…под Вышеградской скалой на Влтаве. – Речь идет о самом глубоком месте на Влтаве.
Святой Вацлав (907–929) – чешский князь, считался патроном Чехии.
…прародина цыган была в Крконошах… – Крконоше (Исполиновы горы) – горы в северо-восточной Чехии.
«Где родина моя» – чешская патриотическая песня. Автор текста – писатель и драматург Йозеф Каетан Тыл (1808–1850). Музыка Франтишека Шкроупа (1801–1862). Впервые была исполнена в Праге в 1834 г. при постановке пьесы Тыла «Фидловачка». Получила общенародное признание. После Первой мировой войны и образования самостоятельной Чехословацкой Республики стала государственным гимном.
«Виндишгрец и прочие паны генералы утром спозаранку войну начинали» – популярная чешская песня времен Первой мировой войны. Виндишгрец, Альфред – командующий австрийскими войсками, жестоко подавивший в 1848 г. революцию в Праге и Вене.
«Храни нам, Боже, государя» – государственный гимн Австрийской империи.
«Шли мы прямо в Яромерь» – чешская солдатская песня.
Ну вас к черту, петухи! – Полицейские в Чехии во времена Австро-Венгерской монархии носили каску с петушиными перьями.
«Бендловка» – ночное кафе в Праге.
…один из этих черно-желтых хищников… – Государственными цветами Австрии были черный и желтый.
Градчаны – район пражского кремля – Града.
…прострелил там корону. – Игра слов: чешское слово «коруна» означает монету крона и императорскую корону.
…продавали чешский народ черно-желтому орлу. – Имеется в виду герб Австро-Венгерской монархии.
Калоус – известный австрийский сыщик в годы Первой мировой войны.
Пьемонт – область в горной Италии; здесь этим словом обозначается итальянское войско, сражавшееся в 1859 г. против Австрии.
…бой у Солъферино… – Сольферино – селение в северной Италии, юго-западнее Вероны. В 1859 г., во время австро-итало-французской войны, в битве у Сольферино Австрия потерпела поражение.
«Прагер тагеблатт» – газета, выходившая в Праге на немецком языке.
«Богемия» – газета немецкой националистической буржуазии, выходившая в Праге.
…перед памятником Радецкому… – Радецкий, Йозеф (1766–1858) – австрийский полководец, чех по происхождению.
Бабинский, Вацлав – грабитель, живший в XIX в.
Евгений Савойский (1663–1736) – принц, австрийский полководец, воевавший против Турции, Франции, Баварии и Голландии.
Клима, Славичек – комиссары австрийской, а потом чехословацкой полиции.
Фельдкурат – полковой священник в австрийской армии, имевший чин и права офицера.
Министрант – лицо, прислуживающее священнику во время католического богослужения.
«Шпангли» (от нем. «Spange» – «застежка») – кандалы. Правая рука арестанта приковывалась на короткую цепь к левой ноге. Провинившегося солдата оставляли на продолжительное время со шпанглями в скрюченном положении.
Махар, Йозеф (1864–1944) – известный чешский поэт, резко выступавший против католицизма.
«Мясо» – казарменная игра, при которой участники по очереди дают друг другу сильные щелчки по задней части тела.
Франциск Салеский (Франсуа Сальский) (1567–1662) – епископ Женевский, один из ведущих деятелей католической Контрреформации.
Дорическая гамма – гамма в древнегреческой музыке.
…пешком с Виноград в самую Либню… – Винограды и Либень – районы в противоположных концах Праги.
Национальный социалист – член чешской буржуазной партии.
…люди, которых не пускают в «репрезентяк». – Так называли в пражских демократических кругах фешенебельный ресторан «Репрезентативный дом».
«Шляпак» – чешский народный танец.
«Шуги» – ресторан в Праге.
…с помощью извозчика погрузил его в закрытый экипаж. – В Чехии извозчичьи дрожки были крытыми.
…Пани, дайте мне первый класс… – Фельдкурат думает, что он говорит с уборщицей в общественном платном туалете.
Aurea prima sata est aetas, quae vindice nulla – цитата из «Метаморфоз» Овидия (43 до н. э. – ок. 18 н. э.), кн. I.
…требуя, чтобы ему оторвали голову и в мешке бросили во Влтаву. – Фельдкурат хочет уподобиться чешскому католическому святому Яну Непомуцкому, которого казнили, а голову зашили в мешок и бросили во Влтаву.
…Мне бы очень пошли звездочки вокруг головы. – Фельдкурат имеет в виду нимб из звездочек на католических статуях святых.