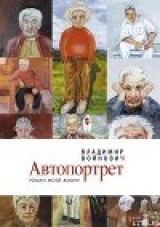
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 54 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Стоя у здания суда, я обратил внимание на лейтенанта КГБ из наружного оцепления. Он стоял в новенькой, с иголочки форме и сам как с иголочки – молоденький и молодцеватый, с белыми, может быть, отмерзшими ушами, которые он не решался ни прикрыть ушами шапки, ни обогреть руками, и только иногда дотрагивался до них двумя пальцами. Я смотрел на него и думал, что он, наверное, чистый душой молодой человек, вряд ли представляет себе, какому грязному делу он служит.
В вечер окончания процесса толпа в ожидании приговора увеличилась, так что шедший к трем вокзалам трамвай вынужден был остановиться. Двери открылись, и ктото из трамвая громко спросил:
– Сколько дали?
А потом стоявший рядом со мной человек в дорогой шубе и потому принятый мной за иностранного корреспондента вдруг, проталкиваясь сквозь толпу, на хорошем русском языке стал командовать каким-то людям: «Поехали, поехали, поехали!» – вырвавшись из толпы, вскочил в «Мерседес» с дипломатическим номером (я опять подумал, что иностранец) и отчалил. Наверное, он был все-таки не корреспондент и не дипломат.
Появились адвокаты, тут же осыпанные цветами, и группа молодых людей на руках пронесла Арину Жолковскую, будущую Гинзбург, со сломанной ногой. Я к тому времени был уже порядочным скептиком, а некоторым казался и циником (поскольку старательно давил в себе романтика), к красивым словам и жестам относился с очень большим подозрением, но тут был готов заплакать от умиления. Все эти люди, которые пришли сюда, чтобы поддержать подсудимых, казались мне такими чистыми, отважными, благородными. Они мне напоминали первых революционных романтиков, выходивших на демонстрации за сто лет до того и плативших за свой порыв годами каторги. Я устыдился того, что пытался уклониться от подписи под письмом в защиту четверки, и уж, конечно, в ту минуту никак не мог бы себе представить (а мой внутренний скептик мне не подсказал), что среди этих собравшихся здесь людей есть много всяких, в том числе и довольно сомнительных личностей.
Пражская весна и московские заморозкиВ январе 1968 года в Чехословакии началось чтото вроде революции – то, что было названо Пражской весной. Многолетний руководитель чехословацкой компартии Антонин Новотный был смещен. К руководству пришли реформаторы во главе с Александром Дубчеком. Появилось выражение «социализм с человеческим лицом». События развивались быстро. Старые аппаратчики заменялись реформаторами. Была отменена цензура и объявлен новый экономический курс с включением рыночных механизмов. Чехословацкие политики произносили соблазнительные речи о свободе и демократии, писатели, журналисты и прочие писали все, что хотели. Разумеется, все свободомыслящие люди в СССР с волнением наблюдали, что происходит в Чехословакии, и надеялись, что тамошние события повлияют как-то и на наш политический климат. И они влияли, но влияние это было противоположным ожидаемому. Советская партийная верхушка, не готовая ни к каким переменам и очень боявшаяся, как бы брожение умов в одной из соцстран не перекинулось и на Советский Союз, сначала насторожилась, потом в адрес чехов стали раздаваться все чаще предупреждения и угрозы. А чтобы у нас, не дай бог, не случилось чегонибудь подобного, власть решила нанести удар по собственным инакомыслящим. По принципу (как она всегда делала) бей своих, чтоб чужие боялись.
Кажется, в июне того же 1968 года последовало постановление Пленума ЦК КПСС по идеологическим вопросам. Я его никогда не видел и в подробности посвящен не был. Помню только в газетах туманную фразу, что на пленуме обсуждались «произведения литературы и искусства и другие произведения». Разнесся слух (очень быстро подтвердившийся), что скоро всех «подписантов» будут наказывать.
У раздевалки ЦДЛ Наталья Иосифовна Ильина, натягивая на себя тяжелое пальто с капюшоном, спросила меня насмешливо: «Ну что, будете каяться?» – «Ни за что в жизни», – сказал я. «Нуну», – усмехнулась она умудренно.
Вскоре наказания посыпались, как горох. По редакциям были разосланы черные списки. Публикации всех «подписантов» немедленно останавливались: книги в издательствах, повести, рассказы, статьи в журналах и газетах, как останавливались и сценарии в кино, спектакли в театрах. В Союзе писателей заработал проработочный конвейер. Секретари СП вызывали провинившихся «на ковер», корили, обвиняли в политической близорукости и незрелости, угрожали, выпытывали: «Кто дал вам подписать это письмо?» – и требовали отказаться от своей подписи, дезавуировать (я, кажется, тогда первый раз услышал это слово) свою подпись.
Иерархия наказаний писателей зависела от известности, от поведения теперешнего и в прошлом и от материального достатка, на который распространялось правило обратной пропорции – то есть чем выше достаток, тем больше возмущение начальства: как это так, мы платим ему столько денег, а он так плохо себя ведет. Особенно буйствовала Алла Петровна Шапошникова, секретарь Московского горкома КПСС.
И вот в Союзе писателей мне объявлен строгий выговор, в издательстве «Советский писатель» остановлен сборник повестей и рассказов, на «Мосфильме» прекращена работа над сценариями «Два товарища» и «Владычица». Одновременно идет закрытие моих спектаклей по всей стране.
Началось с того же Театра Советской армии. Оказывается, закрыть спектакль даже при советской власти не всегда просто. В каждом спектакле участвуют десятки людей, им всем надо объяснить, что к чему, и желательно объяснить причинами, отличными от настоящих.
В ЦТСА на закрытом партийном собрании сказали, что спектакль «Два товарища» сам по себе очень хороший и правильный (а как же, он же был одобрен ГлавПУРом!), но автор (это я!) пытался перевезти через границу бриллианты, находится под следствием, и поэтому спектакль придется закрыть. (К тому времени советскую границу туда и сюда я пересекал дважды в жизни: один раз солдатом, другой раз – когда ездил в Чехословакию, а бриллианта от граненой пластмассы не отличил бы.) В Новосибирске газета «Вечерний Новосибирск» напечатала огромную, на два «подвала», заказную и насквозь лживую статью Анатолия Иванова «На что тратите таланты?» о спектакле в театре «Красный Факел». В статье этот патриот – в то время очень советский, а в девяностые годы с фашистским уклоном, – корил директора, главного режиссера, режиссерапостановщика Арсения Сагальчика за то, что они взялись ставить спектакль по повести, как он утверждал, антисоциалистической и порнографической. Обкомовское начальство спектакль немедленно запретило. Но как ни странно, жители города, где было много интеллигенции, проявили по поводу закрытия спектакля недовольство, и оно оказалось настолько очевидным, что начальство решило смягчить ситуацию. Театру разрешено было сыграть еще пять спектаклей. На последнее представление явились и члены обкома во главе с первым секретарем. После спектакля были нескончаемые аплодисменты, актеры много раз выходили на сцену, а потом остались на ней и застыли в скорбных позах, понурив головы и заложив руки за спину. Аплодисменты продолжались пять, десять минут. Наконец на сцену выскочил директор и, бегая за спинами актеров, стал шептать, чтобы те немедленно прекратили «это безобразие» и ушли за кулисы. Исполнитель главной роли, не меняя позы, за спиной свернул директору фигу.
На своей статье Анатолий Иванов сделал карьеру. Я видел этот памфлет, с подчеркнутыми красным карандашом главными положениями, на столах разных московских идеологических начальников. Статья воспринималась ими как глас народа (ими же организованный) из глубинки. После этой публикации Иванов сразу «пошел наверх», его перевели в Москву и сделали главным редактором «Молодой гвардии», кем он и оставался до самой своей смерти.
Смоленский театр был вообще разогнан. Главного режиссера, директора, каких-то актеров уволили. Местному критику (не помню фамилию) за положительное мнение о спектакле была устроена такая жизнь, что он вынужден был переселиться в Калугу.
Миллионер на часПока спектакли шли, гонорары мои росли в арифметической прогрессии. Один месяц – 600 рублей (тогда очень приличные деньги), другой – 800, третий – 1000.
Эти деньги можно было бы автоматически переводить на сберкнижку, но я только что, собрав с миру по нитке, купил для нас с Ирой однокомнатную кооперативную квартиру в писательском доме на улице Черняховского. Теперь торопился расплатиться с долгами и поэтому являлся в собиравшее гонорары ВУОАП (Всесоюзное управление по охране авторских прав), как только приходили деньги. Когда месячный гонорар достиг 1200 рублей, бухгалтерша, выписывая мне денежный ордер, пришла в нервное возбуждение и закричала своим сотрудницам:
– Посмотрите на живого миллионера!
Как оказалось, мои заработки не оставили равнодушным и партийное начальство.
Алла Петровна Шапошникова, секретарь МГК КПСС, возмущалась:
– А вы знаете, что он говорит про нас «они»? А почему мы должны его терпеть? Мы платим ему такие деньги, а он подписывает антисоветские письма!
Именно потому, что я оказался таким неблагодарным советской власти и лично Шапошниковой, меня решено было наказать строже, чем других. Мне вынесли строгий выговор. И наложили запрет не только на все, что у меня готовилось к печати или к постановке, но и шло на сценах.
Скольжение внизВ Театре Маяковского «Два товарища» ставил Андрей Гончаров. Он в отличие от Буткевича текст пьесы неприкасаемым не считал, постоянно чтото импровизировал и от меня требовал многочисленных переделок и доделок. Спектаклем, который он подготовил, сам он был очень доволен, но мне больше по душе было то, что сделал Буткевич. Но со своей премьерой Гончаров сильно задержался и собрался выпускать спектакль, когда надо мной уже не только сгустились тучи, но вовсю сверкали зловещие молнии. Какимито тайными партийными директивами все было запрещено, спектакли, уже поставленные, снимались с репертуаров, а он все еще готовился к премьере.
Одновременно меня вызывали в разные инстанции и настаивали на том, чтобы я снял свою подпись под крамольным письмом. Меня уговаривали, мне грозили. Я взял себе за правило везде говорить только правду и ничего кроме правды. Вот и говорил. Резал правдуматку во всех кабинетах, часто в довольно резкой форме и сам этим очень гордился. Но это было совершенно бессмысленное метание бисера перед чиновниками, которые сами никакого мнения не имели, убеждать их в чемто или переубеждать было бесполезно. Убежденные, что делать надо то, что предписано, и высказывать не свое, а директивное мнение, они считали будто сопротивляться и рассуждать вслух от себя могут только дураки или сумасшедшие. То, что я говорил, слышали те, кому я говорил, а они потом докладывали по инстанциям, что я не осознаю своих ошибок, держусь своих вредных антисоветских позиций, и мое положение становилось все безнадежнее. Солженицын в те годы написал свое знаменитое воззвание «Жить не по лжи». Я был с ним согласен и сам старался жить не по лжи, но потом стал думать, что, может быть, надо было действовать наоборот. Всем лгать, как от них требовало начальство, тогда советская власть, может, раньше бы лопнула. Мы, старавшиеся не лгать, независимо от наших намерений, делали все, чтобы ее спасти.
ХамелеоныХамелеонство, описанное Чеховым, было в нашей советской жизни распространенным явлением. Мой поклонник и мой беспощадный критик Левинский, о котором я писал выше, меня удивил, но потом я проявления этого человеческого свойства наблюдал уже без всякого удивления среди членов Союза писателей и мелких окололитературных работников. Они были точными копиями околоточного надзирателя Очумелова, которого, в зависимости от обстоятельств, бросало то в жар, то в холод.
Когда я, став членом Союза, приходил в ЦДЛ, сидевшие на входе тетеньки радостно меня приветствовали, широко улыбались и чуть ли не кланялись, как дорогому гостю. Но как только у меня начались неприятности, они немедленно перестали меня узнавать.
Меня наказывали, я пытался отстаивать свою позицию и протестовать против наказаний. Разные начальники время от времени вызывали меня к себе. Теперь мне трудно себе представить, что меня вызовет к себе какойнибудь секретарь Союза писателей или ктото еще, если он не милиционер, не прокурор и не судья, а тогда вызывали все. Сначала несколько секретарей Союза, потом объявился еще один вызывающий – Илья Вергасов, крымский татарин, секретарь парткома Союза писателей, хороший, как говорили, мужик. Правда, его соплеменники считали Вергасова плохим мужиком, потому что он написал книгу, где свой народ как-то обидел.
Вергасов принял меня как своего. Сразу перешел на «ты».
– Я слышал, у тебя запретили пьесы? В пятидесяти театрах шли – и везде запретили?
– Не только пьесы. Книгу запретили, два сценария.
– Что творят! – вздохнул Вергасов. – Пахнет тридцать седьмым годом.
В это время дверь беззвучно открылась, и в комнату бесшумно вошел курносый человек неприметной наружности. Вошел и тихо присел в сторонке с выражением пассажира в ожидании поезда.
– Но я не понимаю, – сказал Вергасов, как бы продолжая начатый разговор. – Как же так?! Как получилось, Войнович, что вы, советский писатель, приняли участие в провокационной и дурно пахнущей акции, имеющей, скажу вам прямо, как коммунист, антисоветский характер?! Вы, Войнович, должны о своем поведении крепко подумать. Должны понять, в какой тупик вы зашли и по какую сторону баррикад оказались. Пора осознать, что, если вас хвалит буржуазная пропаганда, она это делает не зря. В мире идет жестокая идеологическая борьба между двумя мирами, и вам следует помнить вопрос, поставленный Горьким: с кем вы, мастера культуры. А вот с кем вы, Войнович?
Тут еще некий субъект сунул голову в дверь и поманил вошедшего.
Тот встал и растворился.
– Да, – продолжил Вергасов, встряхнувшись, – нехорошо получается… Не понимаю, как это можно связывать… Ну, подписал ты какое-то письмо, заступился за когото… Ну пусть даже ты не прав… Но при чем тут пьеса? Я считаю, что каждую литературную вещь – пьесу, роман или повесть – надо судить по ее собственным достоинствам.
В это время курносый (как я потом узнал, это был некий Ануров, инструктор горкома КПСС) опять просочился в комнату.
– Но если вам, – ловко сменил тональность Вергасов, – товарищи говорят, что вы не правы, почему вы этого не слышите? Почему вы упорствуете в своих заблуждениях? Если уж совершили ошибку, так имейте мужество это признать. Но если вы настаиваете на своем, то это уже не ошибка, а сознательный антисоветский поступок…
РосляковСледующей инстанцией был Вася Росляков, секретарь московского отделения СП, хитрый и подловатый мужичок деревенского вида. Он встретил меня в большом кабинете первого секретаря с панельными стенами из, как мне помнится, черного дерева. Над его столом висел портрет Горького, запечатленного в виде стремящегося навстречу ветрам буревестника. Изображая некоторое смущение, Вася пытался вести себя доверительно. «Ты знаешь, я здесь человек случайный, я вообще это место скоро покину, мне, поверь, не хочется заниматься всеми этими делами, которые сейчас происходят, но мне поручили с тобой поговорить по поводу твоей этой вот подписи. Ты мне хочешь чтонибудь по этому поводу сказать?»
Я свой ответ обдумывал недолго. Он был не совсем литературный, но я его приведу – из песни слова не выбросишь.
– По этому поводу, – ответил я Рослякову, – могу сказать, что если Алла Петровна Шапошникова надеется быть поцелованной в ж…, от меня она этого не дождется.
Услышав такое, Росляков одновременно съежился, присел и оглянулся на Горького, за которым, наверное, было чтонибудь звуковоспринимающее.
– Это все, что ты хотел сказать? – спросил он, улыбаясь испуганно.
– Это все, – сказал я и вышел.
Потом я думал, что мое объяснение Рослякову до Шапошниковой каким-то образом дошло, потому что, будучи вообще злобной особой, меня она преследовала с исключительным остервенением.
Большой писательи крупный государственный деятель
Сначала я посещал начальников из любопытства. Я еще был небитый, кожа толстая, нервы крепкие, любопытство большое, а беспечности – через край. Моей любимой тогда была и сейчас осталась поговорка «Бог не выдаст, свинья не съест». Мне было интересно смотреть на посещаемых мною начальников и видеть, что один просто дурак, другой дураком притворяется, третий хамелеонит, четвертый нервничает и норовит как-нибудь видом своим показать, что он на самом деле не такой, но должность обязывает, пятый, наоборот, изображает из себя непримиримого борца за торжество коммунистических идеалов.
Одним из посещенных тогда должностных лиц был уже упоминавшийся мной Николай Трофимович Сизов, тот самый, который принимал меня на работу на радио, потом не хотел отпускать, а после, став начальником московской милиции (такие вот извивы в карьере!), выхлопатывал мне квартиру. Теперь Сизов был (еще один извив) заместителем председателя Моссовета, как ни странно, по милиции и культуре (вскоре станет генеральным директором «Мосфильма») и в этой должности следил, кроме всего, за театрами. А еще он писал книги о партийных работниках и незадолго до того был принят в Союз писателей. Причем один из секретарей СП Лазарь Карелин, рекомендовавший Сизова членам бюро объединения прозы, кем и я короткое время был, сказал с большим пафосом:
– Товарищи, к нам пришел большой писатель и крупный государственный деятель…
Теперь крупный государственный деятель пригласил меня в свой моссоветовский кабинет. Дело было вечером. Сизов отпустил секретаршу и отключил телефоны. Угощал меня сигаретами «Кент», бывшими тогда еще в очень большую диковинку. Сказал, что слушал радио, крутил ручку и случайно наткнулся на «Голос Америки». Хотел уже дальше перекрутить, но услышал знакомую фамилию и просто ахнул. Ушам своим не поверил. Володька Войнович, автор таких замечательных песен… Эти радиостанции полощут советскую власть и с чьей же помощью? С помощью Володьки Войновича!
– Ну там, конечно, упоминались и другие имена, но они меня не интересуют. Меня интересует только Володька Войнович. Как же ты попал в такую компанию? Кто тебя туда затащил? Неужели на тебя Твардовский оказывает такое влияние?
Это предположение было очень странное, потому что я с Твардовским частным образом давно уже не общался, а даже когда общался, он производил на меня впечатление сильное, но по отрицательному отношению к власти я был с самого начала далеко впереди. Он еще провозглашал тосты за советскую власть и переживал мучительную борьбу с самим собой, уходя в тяжелейшие запои, а на мое пристрастие к алкоголю советская власть повлиять уже не могла. Она давно была мне чуждой, враждебной, поэтому болезненного разочарования в ней я не испытывал.
На всякий случай я сказал, что Твардовский на мои взгляды никак не влиял, и, подкупленный доверительностью заданного тона, стал говорить Сизову довольно откровенно о своем отношении к советской системе, особенно в ее сталинском варианте, к которому теперь наметилось откровенное возвращение. Я говорил, что выступаю против несправедливых судов из гуманистических соображений, но и если смотреть на них только с точки зрения пользы или вреда государству, то надо признать, что пренебрежение властью собственных и общечеловеческих законов обязательно приведет к сопротивлению одних, подавленности других, наихудшим образом отразится на экономике, на внешней политике, на престиже страны и т. д. По сути, я говорил вещи, с которыми бы согласился каждый здравомыслящий человек.
Мы просидели часа четыре, выкурив за это время не меньше двух пачек «Кента». Мне показалось, что мои слова на Сизова как-то подействовали, он вздыхал, кивал головой, а потом проводил меня до лестницы и просил передать Твардовскому, что он, Сизов, его очень большой поклонник.
Я ушел с ощущением, что мы хорошо поговорили и что Сизов где-то там, на доступных ему верхах, как-нибудь попытается меня отстоять. И был очень удивлен, когда до меня дошло: этим самым верхам Сизов доложил, что я самый злостный и законченный антисоветчик из всех, каких он когдалибо видел, и рассчитывать на мое исправление практически бесполезно.
Поцеловать злодею ручкуЗакрытие моих спектаклей было неприятно не только мне, но сотням людей, которые их создавали. И больше других – молодым дебютантам, получившим главные роли, заметные, выигрышные. Сыграв их, можно было твердо рассчитывать на дальнейшее развитие карьеры.
Тем молодым исполнителям, которым удалось сыграть хотя бы несколько спектаклей, еще повезло. Но было много таких, которые прошли через все репетиции, а на сцену все же не вышли.
Никогда в жизни я еще не был в таком положении. На меня давили со всех сторон. Начальство требовало капитуляции, обещало уморить меня голодом и стереть в порошок. Главреж театра Маяковского Андрей Александрович Гончаров, сам член КПСС с двадцати пяти лет, отводил меня в какойнибудь угол и шептал:
– Ну против кого вы прете? Неужели вы не понимаете, что их восемнадцать миллионов. Вы представляете, что такое восемнадцать миллионов? Это армия в период всеобщей мобилизации.
Или:
– Ну я вас прошу, ну уступите им. Помните, как Савельич уговаривал Петрушу Гринева: «Барин, поцелуй злодею ручку».
Актеры, особенно молодые, смотрели на меня с молчаливым упреком, как на беспутного отца, по капризу лишавшего их принадлежавшего им наследства. Я приходил домой, а там уже сидели в истерике родители Иры: «Что вы делаете? Неужели вы не понимаете, чем это все для вас может кончиться?» А еще за спиной стояли зримые и незримые болельщики, которые, сами не сделав ни одного неосторожного шага, были недовольны моей умеренностью и советовали послать их, то есть советскую власть, подальше, швырнуть им в морду вонючий билет члена Союза писателей, сказать им, что я ненавижу вашу советскую власть или чтонибудь в этом духе, и с треском сесть в тюрьму.
Гончаров был режиссер яркий, но в общем не мой. Мне не нравилось его вольное обращение с текстом. Так поступают многие режиссеры, теперь даже и с классикой, но это редко приводит к чему хорошему. Драматург, когда сочиняет пьесу, держит в уме много разных соображений, из которых потом складывается вся композиция, а режиссер, не уважив эти соображения, композицию почти всегда нарушает и разрушает.
Свои художественные принципы Гончаров излагал мне примерно так:
– Вот я недавно видел фильм «В небе только девушки». Девушки спускаются с неба на парашютах, и эта картина, и они сами выглядят божественно. Это торжество женственности, стихии, солнца, голубого и белого цвета, это самый красочный праздник, который только можно представить. И если вы мне хотите сказать, что вот эта нисходящая с неба богиня совокупляется в каптерке с механиком, я не хочу этого знать.
Я ему говорил, что искусство должно строиться на контрасте между парадной стороной жизни и изнанкой, и мне, да, интересно, что эта богиня, спустившись с неба, сходится в каптерке с механиком, живет в коммунальной квартире с матерьюалкоголичкой, братомдебилом и соседямискандалистами.
Гончаров со мной никак не соглашался и практически демонстрировал свою концепцию, показывая именно одну сторону, но не всегда парадную. Западную жизнь он изображал только черными красками, а с советской было сложнее. Из советских пьес он часто выбирал чтонибудь довольно мрачное, но потом много трудился и «высветлял» иногда до неузнаваемости.
Гончаров чем дальше, тем больше нервничал. Актерам грубил. Кричал репетировавшему Толика молодому Назарову: «Шевелитесь, шевелитесь. Ваши движения должны быть легкие, свободные. Вы ведь талантливый человек. Я имею в виду, конечно, вашу роль, а не вас».
Работа над спектаклем подходила к концу, можно было бы объявить и премьеру, но уже было ясно, что вряд ли она состоится. Спасти спектакль (этот, но не другие) могла только моя полная и позорная капитуляция – такая, которой мне потом пришлось бы всю жизнь стыдиться. Я видел по поведению начальства, что меньшей платы с меня не возьмут, да и за нее оставят мне возможность лишь убогого и презренного существования.
Моя уступка им состояла в том, что я ходил на все вызовы, говорил со всеми изъявлявшими желание меня выслушать столоначальниками, утверждал, что, защищая Гинзбурга и Галанскова, никаких антисоветских целей не преследовал, подорвать мощь советского государства не собирался, нажить на этом популярность не рассчитывал. Вдавался с ними в объяснения о гражданской роли писателя, о том, что писатель имеет право и обязанность защищать гонимых, и если даже они не правы, он должен их защищать. В этих разговорах немного (меньше, чем стоило) хитрил, лицемерил, повторял, что политические процессы наносят престижу Советского Союза непоправимый урон и что меня, как раз как советского гражданина, это и беспокоит.
Когда я описываю свои тогдашние встречи с советскими лит– и партначальниками и вспоминаю весь тот вздор, которого я наслушался, мне самому кажется невообразимым, что так действительно говорили серьезные взрослые люди с серьезными выражениями на лицах. А говорили они, если суммировать, не слишком утрируя, приблизительно так:
– Вы написали очень хорошую пьесу. Очень хорошую, нужную, патриотическую. Нам такая пьеса очень нужна. Но вы нас ставите в безвыходное положение. Своей подписью в защиту антисоветчиков вы становитесь по ту сторону баррикад. Вы становитесь на сторону американцев, ЦРУ, на сторону самых злобных врагов советской власти. Вы должны понять, что в мире идет непримиримая идеологическая война между капитализмом и коммунизмом. Эта война обязательно и скоро перерастет в настоящую, посыплются бомбы, запылают города, дети наши погибнут, матери наши заплачут, и страна превратится в руины, и на земле наступит ядерная зима, и остановить это можно только снятием подписи под письмом в защиту Гинзбурга и Галанскова. Снимите подпись, дезавуируйте, наберитесь мужества, найдите возможность, в любой форме, в форме заявления в Союз писателей, письма в газету, выступления на собрании. Выберите форму, найдите в себе мужество отмежеваться от антисоветчиков, снимите подпись…
С некоторыми из этих проработчиков были у меня общие знакомые, этим общим знакомым потом объяснялось: мы с ним говорили, мы хотели ему помочь, но он не дает нам такой возможности, он упорствует в своих заблуждениях, он ведет себя вызывающе…
Уже везде пьесу мою из репертуаров повычеркивали, а Гончаров все еще на чтото надеялся, и репетировал, и довел спектакль до конца, и призвал начальство оценить сделанную работу.








