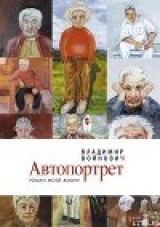
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
За несколько дней до смерти я его видел. В клубе нашего городка. Перед фильмом «Сердца четырех» показывали, как всегда, киножурнал «Новости дня» и там, кроме прочего, – репортаж о вручении в Кремле верительных грамот какимито послами Председателю Президиума Верховного Совета СССР Швернику. Сам Шверник был в цивильном костюме, но окружен дипломатами в мундирах с блестящими пуговицами, золотыми нашивками и лентами через плечо. Вдруг среди всей этой компании появился невзрачный, маленький, сутулый усатый старичок в сером, с виду сильно поношенном и помятом кителе. Он быстро прошел к стене и прижался к ней спиной, заложив назад руки. Я когда-то слышал, что так всегда делают люди, страдающие манией преследования: прикрываются стеной от возможного нападения… Появление старичка с безнадежно печальными глазами в самодовольной, блиставшей животами и позументами толпе мне показалось противоестественным. Но не успел я сам для себя решить, что же сие видение значит, как вдруг понял:
– Это же Сталин!
Я с четырнадцати лет, когда согласился с бабушкой, что Сталин – бандит, с большой неприязнью смотрел на все его портреты и изваяния, где он выглядел величественно, с орлиным взглядом изпод круто изогнутых бровей. В кино и на фотографиях, стоящий на трибуне Мавзолея в шинели и фуражке, Сталин отличался от своих портретов, но все же не казался мелким. Но сейчас я вдруг испытал чувство жалости к бедному старику.
А через несколько дней – сообщение Центрального Комитета КПСС: Сталин тяжело заболел, у него дыхание ЧейнаСтокса…
Моя тетя Аня потом рассказывала, что за день до того пришла в больницу, куда ее должны были положить по поводу заболевания крови, и там, в вестибюле, она увидела большой портрет Сталина:
– Я смотрела на портрет и думала: «Неужели я не доживу до смерти этого изверга?» И решила, что не доживу. Я моложе его на двадцать пять лет, но это ничего не значит, потому что он будет жить вечно.
Мистической вере в бессмертие Сталина были подвержены и те, кто его боготворил, и те, кто ненавидел. Живший в те дни где-то в ссылке математик Юра Гастев, услыхав по радио про дыхание ЧейнаСтокса, побежал за разъяснениями к знакомому доктору, тоже из зэков. Доктор улыбнулся: «Будь спокоен, Чейн и Стокс – ребята надежные, еще никого не обманули».
Со мной рядом такого доктора не было, но тот жалкий старичок, которого довелось увидеть в кинохронике накануне, облегчил мне восприятие скорой новости. Старичок выглядел вполне смертным.
Одиннадцатый сталинский ударСмерть Сталина совпала по времени с нашими выпускными экзаменами. 1 марта мы сдавали теорию двигателя, 3го – конструкцию самолета «МиГ15», а на пятое число был назначен экзамен по политподготовке.
Не помню, мы уже легли, или еще не встали, или вообще это было среди ночи, когда вбежал дневальный с криком:
– Ребята, Сталин умер!
Все вскочили, включили репродуктор, откуда текла траурная мелодия. Стояли между койками, в одних кальсонах, босиком на цементном полу. Потом было новое сообщение. ЦК КПСС, Совет Министров и Президиум Верховного Совета СССР, заботясь о том, чтобы страна ни на секунду не оставалась без крепкого руководства, постановили: назначить Председателем Совета Министров Маленкова, Председателем Верховного Совета Ворошилова, военным министром Булганина, министром внутренних дел Берию, Хрущеву предлагалось сосредоточиться на партийной работе… Ближе всех стоял к репродуктору наш запевала Карасев. Каждый раз, когда диктор называл новую фамилию, Карасев кивал головой и хорошо поставленным басом, как будто это было и его глубоко продуманное решение, возглашал:
– Правильно!
Маленков. Правильно! Ворошилов. Правильно! Хрущев. Правильно!
Днем весь батальон был выстроен на плацу. Сыпал мелкий снег. Мы стояли с непокрытыми головами. Подполковник Ковалев толкал речь, стараясь удержаться от слез. Многие курсанты и офицеры плакали, не сдерживаясь. Я не плакал. Я был рад этой смерти – не жалкого старичка из кинохроники, а того, с орлиным взором, чьим именем вершилось все, что вершилось. Я радовался, но стоял со скорбным видом, опасаясь, что ктонибудь догадается о моих чувствах. Опасение мое было не на пустом месте. Много позже знакомая учительница рассказала, что в те дни ее таскали на партбюро: ктото донес, что она, услышав о смерти Сталина, не заплакала.
Экзамен, как ни странно, не отменили, и мне попался, будто нарочно, билет с вопросом по биографии Сталина. Я перечислил его подвиги и заслуги. Батумская демонстрация, газета «Брдзола», оборона Царицына, коллективизация, индустриализация, разгром оппозиции, десять сталинских ударов. Инсульт, подумалось мне, можно было бы считать одиннадцатым ударом.
Но я, конечно, этой шуткой ни с кем не поделился.
Цирк шапитоПервые мелкие признаки развенчания культа личности Сталина проявились гораздо раньше, чем это заметили историки. В армии – немедленно после смерти генералиссимуса, и для нас – не в лучшую сторону. Авиация была его любимым родом войск, и поэтому рядовых в ней, не считая аэродромной обслуги, вообще не было. Летчики и техники были офицерами, все остальные – сержантами. Мы тоже собирались окончить школу с лычками, но остались рядовыми. Так мы оказались первыми жертвами первых, тогда еще обществом не замеченных шагов новых правителей по развенчанию культа личности. Некоторое время после распределения по полкам еще получали 500 рублей в месяц и питание по «шестой норме», в которую включались масло, рис, папиросы «Беломорканал» и еще чтото, чего не было у других. Но через несколько месяцев жалованье нам урезали до 300 рублей, а потом, после моей демобилизации в 1955 году, довольствие механиков было и вовсе доведено до уровня всех рядовых солдат, то есть до 30 рублей.
Но также очень скоро появились признаки и положительных изменений. Уже через две недели нам объявили, что теперь увольнения возможны не только на родине, но и за границей. Правда, групповые, причем группа должна состоять не меньше чем из трех человек. Наше начальство это предписание сразу превратило в абсурд. Решили, что если не меньше трех, то можно больше. Построили нас, выпускников школы, и числом около тысячи голов повели в цирк, и этот культпоход записали как увольнение. Цирк шапито, куда нас привели, не имел ни одного туалета. Не знаю, как удовлетворяли естественные надобности цивильные посетители шапито, но солдаты, выйдя в антракте наружу, обступили шатер со всех сторон, и он почти поплыл. Начальству это не понравилось, и увольнения вновь отменили. Зато самоволок попрежнему было сколько угодно.
Рождение герояОднажды я, стоя на плацу, увидел странное зрелище: тяжелый немецкий битюг тянет по мощенной булыжником дороге телегуплатформу на дутых колесах, а на телеге никого. Я удивился и заглянул под колеса. После чего удивился еще больше. Между колесами лежал солдат. Зацепился ногой за вожжу. Лошадь тянет его, он бьется головой о булыжник, однако не проявляет попыток изменить ситуацию… На другой день я увидел ту же телегу, ту же лошадь и того же солдатавозницу, но теперь он не под колесами валялся, а сидел на том месте, которое должно было бы называться облучком. Голова обмотана грязным бинтом. Бинт изпод пилотки выбился, размотался, конец бинта развевается на ветру. Слегка подбоченясь и откинувшись назад, солдат потряхивает вожжами, лошадь неохотно трусит мелкой рысью.
– Огого! – покрикивает солдат, и во всем его облике чтото нелепое и трогательное, что сразу привлекает к нему внимание.
– Кто это? – спросил я стоявшего рядом Генку Денисова.
– Ты разве не знаешь? – удивился он. – Это же Чонкин!
Так я впервые услышал эту фамилию. И потом слышал ее часто. Чонкин, рядовой комендантской роты, был из тех, про кого говорят «ходячий анекдот». Про Чонкина рассказывали, что он, малограмотный деревенский парень, не знает уставов, не умеет ходить в ногу, не помнит, какой рукой отдавать честь начальникам, вообще понятия не имеет, где «право», где «лево», всех боится и чувствует себя человеком только на конюшне. Там Чонкин и пребывал, не подозревая, что впоследствии станет виновником рождения литературного героя.
Смерть на охотеСорок с лишним лет спустя, вскоре после выхода в России моего романа о солдате Иване Чонкине, получил я из Ленинабада письмо. Полковник в отставке Серобаба спрашивал, не служил ли я в начале 50х в Шпротаве, не знал ли солдата по фамилии Чонгин (через «г») и не его ли взял в качестве прототипа? Тот реальный Чонгин, сообщал мне полковник, был, кажется, якутом. Он действительно слыл посмешищем, зато был очень хорошим охотником. Я ответил полковнику, что знал такого солдата не то чтобы лично, а так, видел издалека. И был уверен, что настоящая его фамилия Чонкин. Мимолетное впечатление действительно послужило поводом для создания характера моего героя, но именно русского, а не якутского – за якутский характер я бы не взялся. А насчет охоты полковник мне коечто напомнил…
Обычный понедельник, «итальянский» день. А тут вдруг исключение из правила: в обед нам дали по большому куску мяса, правда, довольно жесткого. Мы удивились, стали спрашивать, за что нам такое угощение. Услышали в ответ, что это подарок от наших офицеровохотников. Они в воскресенье подстрелили оленя и решили угостить нас. Об этой охоте мы уже слышали не только то, что там убили оленя, но и то, что там пропал Чонкин. Его, знавшего толк в охоте, офицеры брали с собой, он умел выслеживать зверя и выгонять под выстрел. После охоты стали собираться домой, Чонкина не обнаружили. Искали до наступления темноты. Предположили, что солдат дезертировал. Утром послали комендантскую роту, прочесали ту часть леса, где охотились, и быстро нашли. Чонкин лежал в кустах, убитый прямым попаданием в лоб. Естественно, всех охотников допросили, и истина была восстановлена быстро. Капитан Беспятов и майор Петров лежали в засаде, ожидая, когда Чонкин выгонит им под мушку оленя. Ждали напряженно. Когда затрещали кусты, Беспятов выстрелил и пошел посмотреть, что там, в кустах. Вернулся на место. Петров спросил:
– Ну, что?
Беспятов ответил:
– Ничего нет.
– А зачем стрелял?
– Показалось, что олень.
Петров потом удивлялся самообладанию Беспятова. Но на первом же допросе Беспятов – а куда ему было деваться? – сознался. Мы, его ученики, ходили навещать капитана на гауптвахте. За убийство по неосторожности ему дали два года без лишения наград и воинского звания.
159й истребительныйНедавно искал чтото в Интернете и наткнулся на статью «159й гвардейский Новороссийский истребительный авиационный Краснознаменный ордена Суворова III степени полк». Я пошарил дальше и нашел массу ссылок на литературу об этом полку – и книги, и статьи, и очерки об отдельных летчиках со дня основания части в 1944 м и до наших дней. Надо же! Я после школы механиков в этом полку служил и не знал, что он такой знаменитый. И, как ни странно, замполиты нам ничего не рассказывали. Теперь называют номер полка, места его дислокации, фамилии командиров, типы самолетов и даже их номера. В мое время все это было военной тайной, полк числился под фальшивым номером в/ч п/п (воинская часть, полевая почта) 40431, а настоящий номер или фамилию командира предлагалось не выдавать врагу (если мы попадем к нему в лапы) даже под пытками. Теперь, поскольку тайны выдают без пыток и более свежие, я выдам давно устаревшие.
Я пришел в полк, когда им командовал полковник Барыбин, а моим прямым начальником был замполит эскадрильи старший лейтенант, которого в насмешку звали «Ас Мамонов». «Ас» – потому, что у него, Мамонова, были инициалы А.С. – Андрей Сергеевич. А внешне на аса он никак не был похож: невысокого роста и довольно пузат, что среди нестарых летчиков бывает нечасто. Когда в полку устраивали для младших офицеров какиенибудь соревнования – я запомнил почемуто прыжки в длину, – так на него было жалко смотреть… Но летал он, как говорили, действительно хорошо – на «МиГ15» за номером 874 Куйбышевского авиазавода, машине, которую я готовил к полетам.
Полк наш, когда я в него пришел, стоял на северозападе Польши у деревни Ключево возле города Старгард недалеко от Щецина, но недели через две его перевели в город Бжег на Одере. В Бжеге была шоколадная фабрика, и весь он пропах шоколадом, что я через сорок лет описал в рассказе, так и названном – «Запах шоколада». Поскольку на дворе стояли совсем другие времена, место действия я в рассказе назвал без опасения, что разглашаю военную тайну.
УтопленникиВ ту весну в полку утонули два человека. Первым, еще в Ключеве, старший лейтенант, не помню фамилию. Он и командир дивизии полковник Балакин, который старшего лейтенанта «вывозил», то есть принимал у него экзамен по пилотированию, выполняли в «зоне» фигуры высшего пилотажа, и их «спарка» «МиГ15 – УТИ» (учебнотренировочный истребитель) свалилась в штопор. В плоский штопор, из которого выйти почти невозможно. Они и не вышли. Катапультировались и спустились на парашютах на середину большого озера. Была еще весна – вода ледяная. Старший лейтенант разделся, разулся, и вскоре ноги свела судорога. Пятидесятилетний полковник не разделся и не разулся и только на берегу потерял сознание, где был найден местными рыбаками.
Согласно каким-то армейским нормам, солдат хоронили на месте, а офицеров отправляли на родину. Перед отправкой старлей лежал в «ленкомнате», меня ночью поставили к гробу часовым.
Я не суеверен, но в полночь вспомнил гоголевского «Вия». Гроб, в котором лежал погибший, был цинковый, с окошком из плексигласа. Я заглянул в окошко. Покойник был не зеленый и не синий, как полагается утопленникам, а нормального свежего цвета, красивый, молодой, с изогнутыми черными бровями, похожий на девушку, на ту самую панночку из «Вия». Пожалуй, я бы не сильно удивился, если бы он открыл глаза и начал летать в гробу. Но этого, к счастью, не случилось.
Вторым утопленником, уже в Бжеге, оказался Валя Чуприн, с которым мы вместе призывались из Запорожья. Он не умел плавать, хотел научиться, но стеснялся своего неумения, потому отходил от других подальше. Так, отойдя подальше, и утонул. Поскольку Валя был рядовым солдатом, он отправки на родину в цинковом гробу с окошком не удостоился, а родителей его на похороны, конечно же, не пустили. Их могли утешить только сообщением, что сын погиб при выполнении боевого задания.
Хоронили Валю на местном кладбище. Над открытой могилой выступил замполит полка, который сказал покойному: «Родина тебя не забудет! Спи спокойно в польской земле!» – после чего отделение солдат комендантской роты отсалютовало тремя залпами из карабинов. На могиле поставили стандартный, сваренный в ПАРМе (полевая авиаремонтная мастерская) жестяной обелиск с жестяной же звездой.
Забывчивая родинаРовно через сорок лет, летом 1993го, я побывал в Бжеге и решил посетить Валину могилу. Взял в провожатые одного из живущих здесь русских, и мы довольно быстро нашли ту часть кладбища, где захоронены советские солдаты. Несколько рядов могил, совершенно запущенных и заросших сорняком. Одинаковые жестяные обелиски заржавели, некоторые были, по видимости, совсем недавно перевернуты. Копавшийся неподалеку у одной из польских могил молодой ксендз, поженски подбирая длинный подол своего облачения, подошел ко мне и, указывая на перевернутые памятники, сказал: «Это сделали вандалы, негодяи. Я не хотел бы, чтобы вы думали, будто все поляки такие». В ответ я сказал, что обо всех поляках такого не думаю – подонки есть в каждом народе.
Меня польские вандалы не удивили. В отличие от вандалов – советских начальников, обязанных заботиться об этих могилах. Я, конечно, знал, что эти начальники, и особенно любители патриотической риторики, беспокоясь об отражении образа армии в литературе, всегда с пренебрежением относились и относятся к реальной жизни и смерти нижних чинов, но такого не ожидал.
Валину могилу я не нашел. Потому что редко на каком обелиске значилось человеческое имя. На большинстве – с начала 50х годов до конца 80х, до самого того времени, когда советские войска покинули эти места, было написано одно и то же: «Неизвестный солдат». Почему неизвестный? Ведь эти ребята сложили головы не в каких-то великих побоищах, где гибли тысячами и не разберешь, что от кого осталось, а умирали поодиночке, состоя в списках здешних частей, имея при себе нужные документы. Что стоило на каждом обелиске нацарапать фамилию, инициалы, даты рождения и смерти? В надгробных речах замполиты каждому обещали, что родина его не забудет, а она и не собиралась их помнить.
После войны в Советской армии было (подозреваю, что и в нынешней ничего не изменилось) полное пренебрежение ко всем потребностям, желаниям, чувствам и достоинству молодого человека, которого, не спросясь, лишили молодости и обрекли на долгие годы полного бесправия. Его постоянно унижали, попрекали тем, что он слишком дорого государству обходится, а случись так, что он погибнет, по их же вине, – произнесут несколько казенных слов и тут же забудут. И пальцем не пошевелят, чтобы сохранить о нем память.
Во время эмиграции я много раз встречался с американскими и германскими военными и ни разу такого отношения к солдатам не видел. В немецкой армии солдат проходит срочную службу недалеко от дома. На выходные, если не в карауле, переодевается в штатское, садится в свою машину и едет к родителям или к девушке. И своих погибших в обеих мировых войнах немцы не забывают. До сих пор ищут и, не знаю, каким чудом, находят своих солдат и офицеров, сгинувших в России, на Украине и в Белоруссии. Находят – потому что, даже отступая, когда как будто не до того было, старались записывать каждого, кого где потеряли.
Американцы своих погибших, всех, кого возможно, подбирают, привозят домой, покрывают национальным флагом, хоронят со всеми воинскими почестями. А кого не нашли и не опознали, ищут по многу лет. Останки сгинувших на вьетнамской войне и сегодня разыскивают, идентифицируют и хоронят за счет государства. Теперь, со времен позорной афганской авантюры, кажется, чтото изменилось и у нас. «Груз 200», цинковые гробы, Ростовская лаборатория, где опознают людей по тем ошметкам, которые от них остались. Хоть к покойникам стали внимательнее. В последние годы копателидобровольцы отыскали много неизвестных ранее захоронений советских солдат времен войны, стараются, и иногда успешно, определить их имена. А в польской, немецкой, чешской землях лежат тысячи солдат мирного времени безымянных только потому, что никому до них дела нет.
Пока на земле наводили порядок…Авиация всегда была более либеральным родом войск, чем остальные. Пехотинцы, танкисты, артиллеристы и прочие авиаторам завидовали, злились на них и говорили, что в авиации нет порядка. Сами авиаторы соглашались: правильно, порядка нет, потому что, когда его на земле наводили, авиация в воздух поднялась. На самом деле в авиации порядок есть и довольно строгий, до мелочей, от которых зависит жизнь человека. Но тот порядок, чтобы пуговицы блестели и чтоб ногу на сорок сантиметров тянуть, здесь и правда соблюдают не очень. В авиации все-таки всегда было меньше самодуров, чем в других войсках, и совсем особые, иногда вполне трогательные отношения складывались между летчиком и механиком, обслуживающим самолет. Осознанно или нет, летчик всегда помнил, что от механика в первую очередь зависит его безопасность, потому испытывал чувство благодарности, когда видел, что механик старается. А механик, если любил летчика, не забывал, что тот занимается очень опасным делом, и был ему кемто вроде пушкинского Савельича при Петруше Гриневе. Разница в званиях близким отношениям не мешала, наоборот, укрепляла их. Поэтому не оченьто соблюдались уставные субординационные формальности.
Еще при мне механиков в военной авиации заменили техникиофицеры, механик с первой роли перешел на вторую, а к обслуживанию современного самолета привлекаются чем дальше, тем больше разных специалистов: по приборам, электронике, радио, вооружению, кислородному оборудованию, и та интимность, которая существовала между летчиком и механиком, когда их было двое, пропала. Не знаю, как сейчас в военной авиации, а в гражданской пилоты летают чуть ли не каждый раз с другим экипажем и обслуживаются разными техническими бригадами, которых порой видят впервые.
ПланшетистСержанта Николая Никандрова, который работал на командном пункте полка, комиссовали по семейным обстоятельствам. Он был женат и имел ребенка, что само по себе препятствием для службы не считалось, но чтото еще случилось у него с матерью. Так или иначе, его отпускали на волю, но велели, прежде чем уволиться, найти себе замену. Он нашел меня.
– Пусть попробует, – согласился командир полка полковник Барыбин, в мою сторону даже не посмотрев. – Справится – будет работать.
Я попробовал, справился и стал планшетистом.
Работа моя заключалась в том, что во время полетов я должен был сидеть рядом с РП (руководителем полетов), имея перед собой планшет – большую карту, расстеленную на столе, накрытую плексигласом и расчерченную на квадраты. Мои инструменты: линейка, специальный жирный карандаш и телефон. По телефону с локатора мне постоянно сообщают сведения о том, что происходит в воздухе. Где какой самолет (или группа самолетов), куда движется, на какой высоте и с какой скоростью. Я ставлю в нужном квадрате крестик и вписываю цифры. Пока пишу, самолет, естественно, уже передвинулся в другой квадрат. Ставлю другой крестик, третий и так далее, крестики соединяю линиями. РП заглядывает в карту, дает летчикам указания относительно изменения курса, скорости и высоты. Бывает, летчик заблудился и просит по радио дать ему «прибой», то есть подсказать курс, который приведет его к аэродрому. РП дает «прибой», и линия на карте ломается в соответствии с его указаниями. Мне это очень интересно. Еще интереснее следить, как отрабатывается перехват. Особенно когда объявляются ЛТУ – летнотактические учения.
ЛТУ происходят так. Личный состав полка поднимается по тревоге, разбирает оружие и доставляется на аэродром. Механики с автоматами и противогазами, которые им сильно мешают работать, расчехляют самолеты, снимают заглушки с воздухозаборников и сопел, летчики садятся в кабины, включают радио и ждут, когда произойдет «атомный взрыв» – на краю аэродрома подрывают двухсотлитровую бочку с бензином. Красивое зрелище: сначала столб пламени, а потом грибовидное облако. В это время я сижу на КП и жду сообщения с локатора. Оно приходит скоро: «В квадрате такомто появилась группа чужих самолетов», и дальше, естественно, курс, скорость и высота. Ставлю крестики, соединяю линиями. РП поднимает в воздух звено перехватчиков. Самолеты «противника» пытаются избежать перехвата, их линия превращается в зигзагообразную, наша тоже, но благодаря четким командам РП линии неуклонно сближаются – и вот, наконец, радостный выкрик по радио: «Ага, попались, голубчики!..»
Кстати сказать, я слышал от американцев, которые прослушивали эфир «потенциального противника», что они специально изучали русский мат, чтобы понимать переговоры советских летчиков. Я думаю, что мат они учили в любом случае не напрасно, однако в мое время (думаю, что и сейчас тоже) материться в эфире было категорически запрещено. Даже за «голубчиков» пилоту было тут же сделано замечание. В 1983 году истребитель, сбивший корейский «Боинг», в сердцах выкрикнул: «Елкипалки!» – и это выражение обошло все западные газеты, на время став таким же знаменитым, как «водка», «спутник» и «самовар»…
Если бы корейский лайнер оказался в зоне ответственности нашего полка, у него был бы шанс миновать его невредимым. У нас бывало, и не раз, что появляется в пространстве неопознанный самолет. На запросы по радио не отвечает. Нарушитель? Я докладываю Барыбину. Комполка смотрит на карту, грызет ноготь, соображает. Если это чужой самолет с нехорошими целями, надо поднимать дежурное звено, потом перед кемто оправдываться, зачем это было сделано. Тем временем самолет скоро нашу зону покинет, дальше воздушное пространство контролирует другая часть, пусть ее командир и думает, что делать.
– Сотри его! – говорит мне Барыбин.
Я беру тряпку – вот и нет никакого нарушителя.








