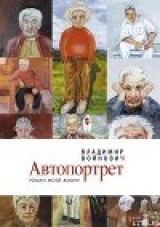
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
Живя на хуторе СевероВосточный, я ходил в школу во второй класс на хутор ЮгоЗападный – в семи километрах от нашего хутора, он был для нас вроде столицей: там и школа, и почта, и правление колхоза, а у нас – ничего. Вернее, я туда не ходил, а ездил вместе с другими на волах, которых нам, школьникам, выделил колхоз. Волов запрягали в просторную квадратную двуколку, и занимались этим старшие школьники, то есть четвероклассники. Двое из них, Тарас и Дмитро, просидев в разных классах не по одному году, были уже люди вполне солидного возраста. Утром мы собирались возле воловни, Тарас, или Дмитро, или оба вместе запрягали животных, мы забирались в повозку и – цоб-цобэ – отправлялись в долгий и скучный путь. Утром туда, а после обеда обратно. И все было бы хорошо, если бы не… Начну, впрочем, издалека.
Не знаю, как в других местах, а вот на Украине и на юге России волы издавна были одним из самых распространенных и надежных видов транспорта. В тех краях, куда занесла нас эвакуация, волы были незаменимой тягловой силой. Конечно, колхозное и иное начальство, начиная от бригадира Пупика, ездило на лошадях. Но если надо было пахать или возить чтото очень тяжелое, если куда-то снаряжался обоз, санный или колесный, то обычно запрягали волов.
Вот типичная картина для тех мест. Два вола, вытягивая шеи, тянут арбу со стогом сена или соломы высотой с двухэтажный дом. Рядом идет погонщик, беззлобно постукивая по спинам и повторяя одно и то же: «цоб-цобэ!»
Есть такое выражение – бессловесная скотина. Это, если в прямом смысле, именно про вола. Вол – самое работящее, неприхотливое и безропотное животное. Он ничего от своих хозяев не требует, кроме еды и воды. Больше ему ничего не нужно. Причем кормить вола можно чем попало. Есть сено – хорошо. Нет – сойдет и солома. Лошадь по сравнению с волом аристократка. На нее надевают сбрую, часто нарядную, со всякими украшениями, побрякушками, колокольчиками. Ее покрывают расписной попоной. Ей дают пахучее сено, клевер, а по возможности и овес. А хороший хозяин и куском рафинада угостит. Да при этом погладит ей морду, потреплет холку, шею снизу потрет и посмотрит, как она улыбается. А еще ведь лошадь и купают, и чистят, и хвост расчешут, и гриву косичками заплетут, и челку подправят. как-нибудь похоже обращаться с волом никому и в голову не приходит. Ну, бывает, иногда между рог почешут слегка, ему и это приятно, но смотрит он удивленно: с чего бы такая милость?
Вола ничем не балуют и ничем не украшают. Для него есть ярмо – две деревянные колоды, скрепленные железными штырями – занозами. Его к этому ярму надо только подвести, а уж голову он сам подставит. Даже люди, управляющие лошадьми и волами, по разному выглядят и называются. Лошадьми в давние времена правили кучера, ямщики в какихнибудь тоже расшитых камзолах, в расписных рукавицах, в шапках нарядных. Про них слагались песни заунывные («Степь да степь кругом»), романсы лирические («Ямщик, не гони лошадей»). У волов же никаких кучеров-ямщиков нет. У них – погонщик. В длинном зипуне, стоптанных чоботах, в драном каком нибудь малахае и с хворостиной в руке, сам по себе личность зачуханная и романсами не прославленная.
Преимущество у вола перед лошадью только одно – его никогда не бьют сильно. Не потому, что жалеют, а потому, что не нужно и бесполезно. Быстро он не побежит, хоть убей. А медленно идет без битья. Поэтому его лишь слегка постукивают палкой по костлявому хребту, давая понять, прямо идти или куда заворачивать.
Наблюдая этой скотины повседневную жизнь, видя ее бесконечную рабскую покорность судьбе и погонщику, трудно и даже невозможно себе представить, что это существо не всегда было таким, что оно было готово к сопротивлению и даже бунту.
Ведь волы – это и есть те самые непокорные, гордые, самолюбивые до спеси быки, которые на испанских и прочих корридах сражаются до конца, не имея ни малейшего шанса на победу. Превращаясь в волов, быки не только утрачивают какие то детали своего организма, но и лишаются некоторых свойств характера. И все же, даже оскопленные, они не сразу покоряются своим угнетателям. Они сопротивляются, они бунтуют, может быть, как никакое другое животное.
Бывает это обычно только раз в жизни, именно тогда, когда на вола впервые надевают ярмо. Не на одного вола, конечно, а сразу на двух. Их запрягают летом в сани потяжелее, на сани накладывают груз или садятся для потехи несколько отчаянных мужиков (перед тем для храбрости изрядно принявших). Садятся для того, чтобы увеличить нагрузку. И вот тут то как раз применяется не хилая хворостина, а кнут или, точнее, батог, длинный, туго сплетенный, тяжелый и смоченный водою, чтобы был еще тяжелее. Действуют воспитатели быстро, решительно и жестоко. Подвели волов к саням, надели обманом ярмо, волы сначала теряются, косят друг на друга недоверчивым глазом, топчутся на месте, а потом как задрожат да каак рванут! И вот тут самое время для их учебы, для обламывания рогов.
Волы, еще полные силы и ярости, несут эти сани, как легкую таратайку, кидаются из стороны в сторону, сметая, что под ноги попадется или под полоз. Тут то их и надо батогом, да покрепче, но без мата, а лишь со словами (чтоб только их и запомнили): «цоб» и «цобэ». Эти два слова, и никакие другие. Одного изо всей силы вдоль хребта батогом: «Цоб!» А другого тем же макаром: «Цобэ!» Звереют волы, не хотят терпеть ярма, пытаются его скинуть, мотают головами, шеи выворачивают, швыряют из стороны в сторону сани, несутся во весь опор, готовы растоптать, пропороть рогами все живое и неживое (кто навстречу попался, тот либо в сторону шарахается, либо на дерево влетает, как кошка), и кажется, сил у них столько, что никогда не успокоятся и никогда не остановятся. Но все-таки и воловья сила знает предел, уже вот бег замедлился, и дыхание шумное, и пена изо рта, а рука бьющего еще не устала. Шарах одного с захлестом промеж рог – «Цоб!», шарах другого с потягом по хребтине – «Цобэ!», и вдруг волы остановились, задергались, задрожали и оба разом рухнули на колени. А пар из ноздрей валит, а пена у губ пузырится, а глаза еще красные, но в них уже не гнев, а покорность.
И это все. Учеба закончена. Теперь только дайте волам отдохнуть, а потом подносите ярмо, а уж головы они сами подставят. Бить их больше не надо. Не стоят они того. Да и бесполезно. Бежать все равно не будут, а шагом потащат столько, сколько осилят. Идут себе тихо-мирно, только покрикивай «цоб» или «цобэ», или «цоб-цобэ», это смотря чего вы от них хотите.
А между прочим, самого главного я еще не сказал. Я не сказал того, что «цоб» и «цобэ» – это, во-первых, команды. Причем довольно простые. Если говоришь «цоб», волы поворачивают налево, «цобэ» – направо, «цоб-цобэ» – идут прямо. Во-вторых, Цоб и Цобэ – это не только команды, а еще имена. У всех волов есть только два имени: Цоб и Цобэ. Если опять же сравнить с лошадьми, то тех называют обычно как-нибудь ласково и по разному. Буран, Тюльпан, Русалка, Сагайдак, Пулька, Крылатка, Весенняя – вот имена из нашей колхозной конюшни. И еще мерин по имени Ворошилов.
Так вот у волов никаких таких Буранов, Русалок и Ворошиловых не бывает. У них только или Цоб, или Цобэ, третьего не дано. И к этому пора добавить, что Цоб и Цобэ – не только имена, а и как бы исполняемые ими функции. И положение, которое они всегда занимают. А именно: Цоб в упряжке всегда стоит справа, а Цобэ, наоборот, слева. В таком порядке все свое дело всегда понимают. Погонщик знает, что если надо повернуть налево, то следует стукнуть (несильно) стоящего справа Цоба и сказать ему: «Цоб!» Тогда Цоб напряжется и толкнет плечом стоящего от него слева Цобэ, тот подчинится, и волы повернут налево. А если направо, то Цобэ толкнет Цоба – и все получится наоборот. Точный, ясный, раз и навсегда заведенный порядок. Если его соблюдать, волы ведут себя безропотно и безупречно. А вот если нарушить порядок, то этого могут не потерпеть.
Именно такого нарушения я и оказался свидетелем и жертвой, когда однажды мы, ученики, собрались после школы домой. Кому-то из наших умных возниц пришло в голову ради шутки поменять перед дорогой Цобэ и Цоба местами. Сказано – сделано. Запрягли, поехали.
Уже когда мы садились в двуколку, было видно, что волы проявляют какое-то недовольство, нервозность. Смотрят друг на друга, перебирают ногами, мотают рогами, дрожат. Ну, сначала как-то двинулись и вроде бы ничего. Доехали до угла школы, а там как раз поворот направо. Тарас стукнул хворостиной левого быка и говорит ему: «Цобэ!» А тот не понимает, потому что он не Цобэ, а Цоб. Но его стукнули, и он пытается толкнуть того, кто стоит от него слева, а слева от него как раз никого нет. А Цобэ, слыша свое имя, пытается толкнуть того, кто стоит справа, но справа опять-таки никого. Потянули они друг друга туда-сюда, никакого поворота не получилось. Дмитро у Тараса хворостину выхватил, неправильно, говорит, управляешь, раз уж запрягли наоборот, значит, наоборот надо и говорить. Хочешь повернуть направо, говори «цоб!», хочешь – налево, кричи «цобэ!». Стукнул он опять Цоба по спине и говорит ему «цоб!», считая, что тот теперь вправо будет толкаться. Цоб направо не идет и опять толкает влево того, кого слева нет. А Цобэ хотя и упирается, но настоящего сопротивления оказать не может, он привык, чтобы его толкали, а не тянули. В результате двуколка наша поворачивает не направо, а как раз налево, как и полагается при команде «цоб», но при этом делает оборот градусов на триста шестьдесят с лишним. «Вот дурень! – рассердился Тарас. – Совсем скотину запутал. Дывысь, як треба». Стукнул он палкой Цобэ и сказал «цобэ»! Цобэ сначала подчинился, пошел вправо, а там никого нет, тогда нажал на Цоба, опять стали крутить налево. А направо – хоть так, хоть так – не идут. Дмитро соскочил на землю, уперся в шею Цоба двумя руками. «Цобэ! – говорит ему. – Твою мать, Цобэ!» А Цоб свое дело знает и имя. И знает, что не для того он поставлен, чтобы толкаться вправо, а для того, чтобы толкаться влево. А Дмитро все в шею его упирается. И тут Цоб не выдержал, мотнул башкой и зацепил рогом на Дмитро телогрейку. Дмитро хотел его кулаком по морде, а Цоб развернулся и, чуть Цобэ с ног не свалив, пошел на Дмитро на таран. Дмитро прыгнул в сторону, как кенгуру. Цоб хотел и дальше за ним гнаться, но тут его осилил Цобэ, и вся упряжка пошла направо. Волы двуколкой нашей чей-то плетень зацепили и частично его свалили, причем свалили с треском, и треска этого сами же испугались. А потом от всего происшедшего непорядка вовсе озверели и понеслись. Мне повезло, я был среди тех, кто за борт вылетел сразу. Но другие еще держались. А волы бежали по хутору не хуже самых резвых лошадей. Бежали, шарахаясь то вправо, то влево. При этом снесли угол школьной завалинки, растоптали попавшего под ноги индюка, потом повернули и устремились прямо к колхозной конторе. Бухгалтер по фамилии Рыба, как раз вышедший на крыльцо, кинулся обратно и захлопнул за собой дверь. Но испугался он зря – у самого крыльца волы крутанули вправо, перевернули брошенную посреди дороги сенокосилку, даже протащили ее немного с собой (потом она оторвалась), выскочили в степь и понеслись по ней зигзагами, разбрасывая в разные стороны своих пассажиров. Когда двуколка перевернулась, в ней уже никого, к счастью, не было. Волы в таком перевернутом виде, подняв тучу пыли, дотащили двуколку до соломенной скирды, в которую с ходу уперлись, и, не понимая, как развернуться, стали бодать солому рогами. Тарас и Дмитро, до смерти перепуганные, с трудом собрали раненых и ушибленных детей, а потом осторожно приблизились к волам. Те все еще проявляли признаки агрессивности, но наши переростки были переростки деревенские. Они в арифметике и грамматике разбирались не очень, но с животными управляться умели. Они волов кое-как перепрягли, и, удивительное дело, те опять стали тем, кем и были до этого: безропотной и покорной скотиной, которая, если не нарушать порядок, ведет себя тихо, мирно и смирно. Не без опаски мы заняли свои места в двуколке, Тарас стукнул палкой Цоба и сказал ему «цоб», а затем стукнул палкой Цобэ и сказал «цобэ». Волы поняли, что теперь все правильно, порядок восстановлен, каждый на своем месте, каждый при своем имени и – пошли вперед, напрягая свои натертые шеи, мерно перебирая ногами, передними, просто грязными, и задними, обляпанными во много слоев навозом.
Я умруО том, что я умру, я узнал там же, на хуторе.
Мне об этом сказала моя бабушка Евгения Петровна.
Бабушка вообще имела привычку говорить неприятное и пророчить наихудшие варианты. Я однажды нашел где-то ведро с зеленой масляной краской, опустил в него обе руки и получил две красивые зеленые перчатки. Увидев это, бабушка сказала, что масляная краска вообще не отмывается и мои руки придется отрезать. Я ужасно перепугался и даже заплакал, но потом подумал и сказал, что если руки нельзя отмыть, то зачем же их все-таки отрезать? Лучше я буду всю жизнь ходить с зелеными руками. Бабушка возразила, что это никак невозможно. Масляная краска перекрывает все поры, руки без доступа воздуха загниют, и без ампутации не обойтись. Когда я застудил уши, бабушка пророчила мне полную глухоту, и она же одну из своих сентенций начала словами: «Когда ты умрешь…»
Я ее перебил и спросил: а почему это я умру?
Она сказала: потому что все умирают, и ты тоже умрешь. Я сказал: нет, я не умру никогда. Она сказала: что за глупости? Почему это все умирают, а ты один не умрешь? Я сказал: потому что я не хочу. Но никто не хочет, сказала бабушка. Никто не хочет, а все умирают.
Я никак не мог ей поверить. То есть я уже знал, что время от времени где-то каких-то покойников везут в деревянных ящиках куда-то за город или за деревню и там закапывают в землю, такое случилось, например, с моим дедушкой, но я никогда не думал, что это обязательно должно случиться со всеми, и уж вовсе не думал, что может случиться со мной.
Теперь бабушка сказала, что может, и даже непременно случится.
Конечно, моя бабушка была фантазерка и часто рассказывала такое, во что поверить было попросту невозможно. Она даже утверждала, что в свое время была маленькой девочкой.
Я в девочку не верил и в то, что умру, не поверил тоже. Но потом стал думать и попробовал вообразить. Ну, с самой бабушкой все получилось более или менее легко. Она была маленькая, худая, желтая, с острым носиком. Если положить ее в гроб, закрыть глаза, украсить цветами, она там будет как раз на месте. В конце концов, напрягши все свое воображение, я представил себе, что могут умереть мои тетя, дядя, двоюродные братья, даже мама и папа.
Но я?
Было лето, был ясный и жаркий день. Я отошел от хутора подальше в степь и стал смотреть вдаль. В степи, от края до края, серебрился сухой ковыль и перетекал в дымное марево на горизонте. Черный коршун неподвижно висел под солнцем. Я закрыл один глаз и закрыл второй. Открыл глаза поочередно и увидел то же самое: ковыль серебрился, марево дымилось, коршун висел. Я закрыл и открыл глаза одновременно. Все оставалось там, где было, даже коршун не сдвинулся с места.
Я попытался представить, как это все может существовать без меня, но чем больше думал, чем сильнее напрягался, тем яснее понимал, что без меня это не может существовать никак.
Змея с кружочкамиПосле эксперимента с перепряжкой волов колхозное начальство их у нас отняло, решив, что мы не большие баре, можем в школу ходить и пешком. Семь километров туда, семь обратно – для городского мальчика расстояние серьезное.
Вышел я как-то из школы после обеда. Солнце еще высоко, погода теплая, путь далекий. Но зато по дороге колхозный баштан, или по-русски бахча. А там арбузы, или, потамошнему, кавуны. Не очень большие, величиной с человечью голову. Некоторые уже созрели, а иные еще нет. А как отличить спелые от неспелых, не знаю. Вот те же Тарас или Дмитро отличают. Приложат к арбузу ухо, постучат пальцем и только после этого сорвут или оставят. Я попробовал поступить так же. Выбрал арбуз покрупнее, постучал пальцем, вроде как раз то, что нужно. Вытащил арбуз на край баштана и о дорогу – она твердая – расколол. Арбуз внутри оказался белый. Вытащил второй. То же самое. Я их уже пару дюжин наколотил, когда раздался голос свыше: «Эй, малой! Ты шо тут робишь?»
Я поднял голову и увидел: на дороге рядом со мной стоит бидарка (двуколка), а в ней толстый, как бочка, бригадир Пупик с кнутом в руках. Его серая в яблоках лошадь, названная за резвость Пулькой, косит огненным глазом то на меня, то на бригадира, как бы спрашивая: «Ну что мы с ним будем делать?»
Я перепугался до смерти. Один извозчик еще в Ленинабаде меня однажды за то, что я сзади за его фаэтон цеплялся, протянул кнутом, и я запомнил, что это больно. Я смотрел снизу вверх на бригадира и молчал, не зная, что сказать, как оправдаться. Если бы я один арбуз разбил или два, а то наколотил их тут целую кучу. Бригадир, не дождавшись ответа на первый вопрос, задал второй: «Дэ идешь?» Не зная местного языка, я догадался, что «дэ» это значит «где», и сказал, что здесь иду, по дороге. Он подумал и спросил: «А ты чей?» Я понял вопрос буквально и буквально ответил: «Мамин и папин». Он снова задумался, но, видимо, понял, что тут без переводчика не обойтись, закричал лошади: «Ноо!» – и свистнул, не касаясь ее, кнутом. Пулька с места в карьер рванула и понесла бидарку вдаль, подняв за собой тучу пыли.
Оставшись один, я мог бы продолжить уничтожение баштанного урожая, но не решился и место преступления торопливо покинул.
Дорога была скучная, длинная и вилась, как река, поворачивая то туда, то сюда, сначала вдоль баштана, а потом втекла в поле, на котором только что скосили пшеницу. Мне не нравилось, что дорога виляет, это делало ее длиннее, чем она должна была быть. Если бы я был здесь начальником, я бы всем приказал ездить только прямо по линеечке. Но поскольку до начальника я еще не дорос, а вилять вместе с дорогой мне не хотелось, я покинул ее и пошел прямо через поле по колючей стерне между копнами пшеничной соломы, оставшимися после недавней жатвы. В других местах (это я видел потом) жали хлеб серпами, стебли связывали в снопы, снопы складывали стоймя в суслоны, а здесь протащенная через молотилку комбайна мятая солома была сбита в копны, разложенные ровными рядами по полю, словно большие, круглые, лохматые шапки. Я проголодался и в предвкушении ожидающего меня обеда шел чем дальше, тем быстрее. Сначала между копнами, а потом прямо через них, пиная их ногами и разбрасывая.
Раз! Махнул ногой, и копна разлетелась. Раз! – разлетелась вторая. Рааз! Я копну развалил, а она вдруг зашипела, как масло на сковороде, из нее вывернулась черная змея, которая, повернув ко мне маленькую головку с очень злобными глазками, высунула длинный язык и зашипела еще сильнее.
Приходилось мне до этого и потом испытывать страх в разных страшных случаях, но такого ужаса я не знавал никогда.
Я сначала оцепенел, потом заорал на всю степь «мама!» и кинулся бежать. Я бежал, стерня шелестела под ногами, мне казалось, что все змеи собрались, шипят, гонятся за мной и вотвот догонят. Я кричал, у меня иссякали силы, кричать я не мог и не кричать не мог. Я бежал неизвестно куда и очень долго, до тех пор пока не свалился без сил. А когда свалился, то подумал, что вот они, змеи, все сейчас ко мне подползут и все будут меня, маленького, несчастного, жалить и жалить, и я умру, как мне обещала бабушка. Но у меня уже не было сил бояться, и я решил, пусть ползут, пусть жалят, только скорее.
Пока я ждал смерти, солнце опустилось к горизонту, большое, красное, предвещавшее, по бабушкиным приметам, ветреную погоду. Я понял, что, раз я не умер, надо вставать и идти. Но я не знал, куда именно. Степь да степь кругом, дороги не видно и ничего, кроме бесконечного ряда копен, такого, чтоб выделялось: ни дерева, ни дома, ни дыма. Я пошел за солнцем, а оно от меня уходило быстро и равнодушно. Оно опустилось за горизонт, и степь потемнела, лишив меня всякого представления о том, куда я должен идти. Опять вернулся страх. Теперь я боялся змей, волков, шакалов, чертей и чего угодно.
Я шел и ревел монотонно, как дождь.
И было отчего. Городскому мальчику остаться одному ночью в степи, разве может быть что страшнее?
Я шел, ревел и вдруг заметил, что там, где-то впереди, очень далеко, чтото как будто светится. Я прибавил шагу, потом побежал и в конце концов с диким ревом вбежал на колхозный ток, где возле горы намолоченного зерна несколько комбайнов стояли почемуто на месте и светили всеми своими фарами. Там же я увидел бригадирскую бидарку и самого бригадира Пупика.
– Эй, малой! – закричал он, потрясенный моим появлением. – Звидкиля ж ты узявся?
Теперь я его понимал. И догадался, что «звидкиля» – это значит «откуда». Я ему сказал, что на меня напала змея. Он слушал меня с удивлением. А потом посадил рядом с собой в бидарку, и Пулька резво понесла нас в сторону хутора.
Там уже был, конечно, переполох. Были опрошены все вернувшиеся из школы ученики, но они ничего путного сказать не могли. Тетя Аня пыталась найти бригадира, чтобы организовать поиски, но не нашла, потому что бригадир уехал на ток.
Дома я рассказал, как шел, как змея выскочила, как завертелась, как зашипела. Я расписал ее самыми страшными словами, какие были в запасе. Пасть у змеи большая, язык длинный, глаза злые, сама она черная, а над глазами такие вот такие страшные оранжевые кружочки.
– Кружочки? – переспросил Сева. – Оранжевые?
И они с Витей оба покатились со смеху. И долго еще смеялись, прежде чем объяснили, что таким страшным показался мне обыкновенный и безобидный уж.
Что меня очень смутило и разочаровало. Когда все прошло, хотелось, чтобы змея была настоящая. Но какая б она ни была, тетя Аня решила в школу меня не пускать, и на этом образование мое прервалось.








