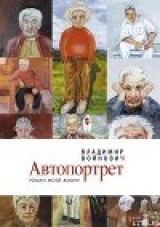
Текст книги "Автопортрет: Роман моей жизни"
Автор книги: Владимир Войнович
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 96 страниц) [доступный отрывок для чтения: 34 страниц]
С Сартром я встречался году в 63 м. Мне позвонили из «Нового мира» и сказали, что он приехал в Москву и хочет пообщаться с молодыми писателями. У «Нового мира» молодых писателей в активе было два – я и Владимов.
Прежде чем встретиться с Сартром, я захотел познакомиться с тем, что он пишет. Обратился к подруге Саца Инне Шкунаевой, писавшей учебники по французской литературе. Она дала мне кое-какие книги. Я почитал самого Сартра и коечто из Симоны де Бовуар. Понял, что такое экзистенциализм, и эта философия пришлась мне по душе. Но пьесы Сартра оказались из рук вон плохими и, к моему удивлению, слишком советскими или соцреалистическими. Одна из них называлась «Лизи Маккей», а другая «Некрасов». Никакого отношения к нашим Некрасовым – Николаю и Виктору – она не имела.
Мы с Владимовым приехали в редакцию, и Сартр явился туда вместе с Симоной и переводчицей Леной Зониной. Результатом сотрудничества Сартра с Леной стала их дочка Маша, живущая ныне в Париже.
Сама встреча была неинтересная. Он нас спросил: «О чем вы пишете? Можете ли вы критиковать власть?» Мы выражались осторожно, но не врали. Сказали, что власть мы не ругаем, но критикуем недостатки, которые мешают нам, советскому обществу, двигаться вперед. Как ни странно, наши ответы гостю понравились. Он сказал: «Вы выгодно отличаетесь от киевских писателей, с которыми я встречался. Они говорили пропагандистскими штампами, а вы, я вижу, люди свободные».
Через некоторое время после этой встречи мне привезли из Парижа журнал, который Сартр редактировал, Les Tempes Modernes, и там был напечатан мой рассказ «Хочу быть честным».
Булат и ГалинаИз тогдашних суждений обо мне я посчитал наиболее точным высказанное Галей Окуджавой.
– Ты, – сказала она, – похож на жука, которого время от времени засыпает песком. Засыпало, он поднял лапки кверху, готовый смириться с судьбой и умереть. Так лежит, а потом видит, что сразу не умер, и понимает, что можно выжить, если бороться. Начинает работать лапками, разгребает песок и снова оказывается на поверхности.
Меня поразила точность ее оценки моего характера. Я, в самом деле, когда меня настигает большая неприятность, скисаю, падаю духом и готов покориться обстоятельствам, но через некоторое время опомнюсь, воспряну духом и проявляю много энергии, чтобы эти обстоятельства преодолеть.
Мои с Галей отношения были поверхностнодружескими, и только, но она увидела во мне то, чего мои, казалось бы, более близкие друзья не видели.
Насколько я знаю, Булат Окуджава и Галя Смольянинова познакомились, когда оба работали учителями в Калуге. Вместе приехали в Москву и казались очень хорошей парой. Но с Булатом произошло то, что случилось с большинством писателей, достигших известности. Сначала они живут, преодолевая с помощью своих самоотверженных жен серьезные материальные трудности, невзгоды, недоедание и непризнание. А потом приходят известность и деньги, к ним начинают липнуть другие женщины – молодые, красивые, начитанные, не уставшие от тяжелой жизни, от кухни и стирки, знающие толк в белье и косметике, умеющие изящно польстить, поддакнуть, изобразить тонкость понимания и искушенные в интригах. Старые жены неизбежно проигрывают конкуренцию и выбраковываются, как отслужившие свое походные лошади. Такова была судьба жен Окуджавы, Балтера, Солженицына, Коржавина, Самойлова, Левитанского и многих других, включая мою Валентину. Браки на всю жизнь в писательской среде, как, например, союз Бенедикта и Славы Сарновых, бывают крайне редко и воспринимаются окружением как парадокс.
Распаду союза Булата и Гали я, к сожалению, частично способствовал. Имея собственное средство передвижения, я чаще других ездил в Москву. как-то, когда я садился на мотоцикл, Булат подошел ко мне, сунул в руки конверт и попросил опустить его в Москве в почтовый ящик. Перед тем как выполнить поручение, я взглянул на адрес и запомнил незнакомую мне до того фамилию Арцимович. Роль почтальона я исполнил несколько раз, и дело закончилось тем, к чему шло. Булат женился на племяннице известного физика Ольге Арцимович, а Галя вскоре в сорок два года умерла от сердечного приступа. Сын Булата и Гали Игорь смолоду пошел «по кривой дорожке», был алкоголиком, стал наркоманом, сидел в тюрьме, болел диабетом и остался без ноги. Он умер в начале девяностых годов, еще при жизни отца, примерно в том же возрасте, что и мать.
В Одессе не только шутятМы с Ирой, запутавшись в наших отношениях, решили их прекратить. Инициатором был я. Я сказал, что больше не могу обманывать друга и приходить к нему в дом с обманом. Ира не возражала. Я ей не звонил дня два. Но потом не выдержал и позвонил. Предложил еще раз встретиться, последний раз. Встретились на 5й Парковой. После нескольких «последних» разов я решил поставить между нами неодолимый барьер – уехал к родителям в Керчь. Хотел остыть, но не мог. Все время думал о ней. Сам себя пытался уверить, что все прошло. Почти убедил себя в этом, и вдруг – вызов на переговорный пункт.
Телефона у родителей, разумеется, не было. Тогда в провинции большинство людей вообще не представляли себе, что можно иметь в квартире свой собственный телефон. В другие города звонили с переговорных пунктов на почте, вызывая друг друга телеграммами. Трудно забыть долгое стояние в длинных потных очередях, нервные разговоры оттого, что плохо слышно, связь прерывается, а очередь торопит. Ира вызвала меня на переговорный пункт с новостью, что купила два билета на дизельэлектроход «Абхазия», идущий из Одессы в Сочи. На другой день, изумив ничего не понимавших родителей, я улетел в Одессу. Ира должна была приехать на следующий день на поезде. Я поехал на вокзал и там сдал свой чемодан в камеру хранения. Я думал, что одесский юмор – это миф, придуманный одесскими писателями. Но в камере хранения прочел объявление: «При сдаче вещей в камеру хранения часть вещей обратно не выдается». Я стал думать, что бы это реально значило, и не сразу догадался. Оказывается, нельзя взять чемодан, вынуть из него часть вещей и сдать обратно по той же квитанции. Можно взять его целиком, расплатиться и потом сдавать заново.
Сдав вещи, я поехал в город и снял номер в гостинице «Моряк» недалеко от порта. Вечером взял такси, поехал ужинать. И узнал, что в Одессе не только шутят, но и убивают. В ресторане, пока я там сидел, началась драка, потом послышались выстрелы, потом свистела милиция, потом гудела «Скорая помощь», а у входа в ресторан лежал застреленный в грудь один из его посетителей. После этого я пошел в гостиницу пешком через парк и увидел картину, знакомую мне с юношеских лет. Шайка хулиганов топтала ногами сбитого наземь человека, он кричал на весь парк, никто, конечно, на помощь не поспешил. К тому времени, когда я приблизился к месту драки, избивавшие уже разбежались, а избитый лежал в пыли и бился в предсмертных, очевидно, конвульсиях. Откуда-то издалека слышна была медленно приближающаяся трель милицейского свистка. У выхода из парка я увидел группу людей, окруживших чтото лежавшее на земле. Это был тоже труп. Я вышел из парка и, встретив какогото прохожего, спросил, как пройти к гостинице. Он сказал:
– Пойдете прямо, потом направо, пройдете под мостом – и там уже будет рядом.
Я пошел, как было сказано.
– Стойте! – прохожий догнал меня. – Под мостом не ходите. Там опасно. Лучше сейчас идите направо и там перейдете поверху.
На другое утро я вернулся на вокзал встречать Иру. Сюрприз: она приехала не одна, а с подругой Линой, которую взяла с собой для прикрытия.
В трюм наливает, из трубы выливаетНа пути в Сочи нас застал сильный шторм. И качка. Сильная, но не страшнее, чем швыряние в воздухе планера.
Корабль шел навстречу волнам, и нос его то высоко задирался, как у самолета взлетающего, то опускался, как у входящего в пике, а ощущение было, как на больших качелях.
– Сколько баллов? – спросил я у матроса, одного из двух, крутивших ручку какогото механизма.
– Около четырех, – сказал он.
– Та шо ты людэй дуришь! – возмутился другой. И объяснил мне, что четыре балла – это когда появляются барашки. – А зараз шестьсемь, не менее. Як у нас кажуть: штывает – в трюм наливает, из трубы выливает.
Палуба была безлюдна. По другим поверхностям корабля, цепляясь за поручни, передвигались редкие бледные пассажиры, напоминая осенних мух. где-то мы нашли и Лину, перебиравшуюся чуть ли не ползком. Она была зеленого цвета.
– Укачало? – спросил я.
Она хотела ответить, раскрыла рот и тут же схватилась одной рукой за горло, другой за живот.
Я отвернулся.
Все трапы и коридоры были облеваны. В ресторане не было никого, кроме двух игравших в карты официантов. Они ужасно нам удивились и даже обрадовались. И охотно принесли чтото холодное, сказав, что горячее во время шторма не подается.
Пропал КамилПо пути в Сочи мы заходили в Ялту и Новороссийск, но не видели ни того, ни другого. Потом было полторы недели счастья в Мацесте и обратный путь – в Феодосию на дизельэлектроходе «Аджария». В Феодосии было еще два дня – совершенно отравленных. Мы ходили на переговорный пункт, Ира звонила Икрамову, телефон не отвечал. Ни днем, ни ночью.
Я говорю:
– Может быть, он куда-то уехал?
– Нет, он мне сказал, что все время будет в Москве.
Ира пришла в состояние непреходящего испуга, вскакивала ночью и ходила по комнате, не находя себе места. Потом я узнал, что в подобное состояние она готова впасть по каждому поводу, и, когда это случалось, я, даже хорошо изучив ее, всегда сначала думал, что причин для серьезного беспокойства никаких нет, и объяснял ситуацию реалистическими причинами, но, в конце концов, она заражала паническим страхом и меня. Но тогда я еще не знал достаточно ее способности впадать в панику и поэтому счел правдоподобным найденное ею объяснение исчезновению мужа. Ему стало все известно, и, потрясенный изменой любимой жены и ближайшего друга, он покончил с собой. Признаться, я тоже поверил в это, и ужасные угрызения совести убили во мне все другие чувства. Мы побежали на вокзал – менять билеты. К кассам стояла ужасная очередь, и билетов на ближайшие дни, конечно не было. Я, потрясая своим писательским удостоверением, проник к начальнику вокзала. В результате Ира с Линой отправились в Москву, а я назад – к родителям. С мыслями, что если с Камилом действительно чтото случилось, то и нам вместе не жить.
Через день Ира вызвала меня на переговорный пункт и сообщила, что Икрамов живздоров, ни травиться, ни вешаться не собирался, а в ожидании жены провел несколько дней на даче у Тендряковых. Камень с души свалился, а решение прекратить отношения окрепло и продержалось ровно два дня. Через два дня я взял билет на отходивший поезд и отправился в Москву, проклиная себя за безвольность и желая видеть ее немедленно.
Камил ничего не замечаетКогда начался наш роман, она работала в школе в младших классах. У нее было несколько часов с утра, а Икрамов работал весь день. Но, насколько мне было известно, он, зная, когда она кончает работу, регулярно звонил ей домой не по делу, а просто так:
– Как дела, рыженький? Что делаешь? Как было в школе? – и вообще проявлял внимание.
Это обращение «рыженький» меня раздражало своей слащавостью и фальшивостью.
Я не знал, замечал ли он, что жена теперь после работы не сразу оказывается дома, интересовался ли, где она задерживается и как она на вопросы его отвечает. Несколько месяцев мы встречались с ней каждый день на моей нелегальной квартире, моя страсть к ней ничуть не ослабевала, и я представить себе не мог, что когданибудь ослабеет.
Была ли гармония в наших отношениях? Была. Я же любил ее не только плотски, но и как красивую и интеллигентную женщину, одухотворенную личность. Моя страсть не была бы столь необузданной, да и совсем никакой не была бы, если бы я не думал, что она любит меня, мою прозу, мои стихи, мои шутки, мои радости и страдания и вообще понимает меня с полуслова.
Я не знаю, верил ли Икрамов жене безгранично, помоему, все-таки нет, но вел он себя беспечно, уезжал надолго в командировки, и тогда наши встречи становились более разнообразны.
Я Икрамова попрежнему любил, и его же ненавидел. То жалел, то презирал, то готов был упасть на колени. Очередной раз сообщал Ире, что все, наши отношения кончились, не звонил, пытался выкинуть ее из головы, но, как только узнавал, что Икрамов выехал в командировку, тут же появлялся у нее и сам себя проклинал.
БезумстваЯ в жизни совершал много безумных поступков. И, как ни странно, всегда выходил сухим из воды. У меня есть теория, о которой я уже писал выше, что человек должен вести себя в соответствии со своим характером. Бывало, когда я вопреки характеру начинал осторожничать, я обязательно проигрывал.
Мои безумные поступки диктовались совершенно разными причинами.
Однажды, в декабре 1963 года, когда у меня был на взлете роман с Ирой, я решил приехать на день рождения к Тендрякову, поскольку знал, что Ира с Камилом у него. Сам я находился в это время в Малеевке, в ста километрах от Москвы.
Была зима, метель и гололед. Поздно вечером я отправился из Малеевки в Красную Пахру. Несся по обледенелой дороге с максимальной скоростью, какую мог выжать из «Запорожца». И вдруг у самой цели неожиданное препятствие: мост через речку, по которому я всегда ездил, разобран. Что делать? На берегу лежат какието доски – толстые, широкие, но обледенелые. Из темноты возник неизвестно для чего поставленный здесь сторож. «Как тут ездят?» – спросил я. «А я не знаю», – отвечает он равнодушно. «Ну, давай, помоги мне», – говорю. Ему, видимо, стало интересно, свалюсь я или нет. Мы положили две доски на какието перекрытия. Я сел в «Запорожец», а дверцы у него еще открывались, как у старых машин, вперед. Я открыл дверцу, и, заглядывая под колеса, медленномедленно переехал речку по доскам. Смертельный трюк. Даже сейчас, переезжая через эту речку по мосту, я иногда смотрю вниз, и мне становится страшно.
Я пришел к Тендрякову.
– А ты как приехал? – удивился он.
– Как? Обыкновенно, через мост.
– Так он же разобран.
– Ну, для кого разобран, а для кого не разобран…
Тендряков и гостивший у него его брат не поверили мне и говорят: «Пойдем смотреть». Я согласился. На недавно выпавшем снегу следы должны были быть видны.
Мы дошли до моста, я показал им следы машины, сказал, что, если они хотят, могут сверить с рисунком протектора. Брат Тендрякова встал на одно колено и снял шапку.
Еще один экстравагантный поступок я совершил лет через десять после этого. как-то зимним вечером мне позвонила жившая со мной в одном доме Белла Ахмадулина: «Володя, не хочешь зайти ко мне в гости? У меня интересный человек». Я зашел. У нее сидел прыщавый молодой человек, внук Леонида Андреева, но американский гражданин. Как мне сказали, он – гость американского посла. Посидели какое-то время. Хорошо выпили, закусили. Около двух ночи вышли из дома: Белла, ее тогдашний муж Эльдар Кулиев, этот американец и я – провожать его до такси. Идем по двору. Проходя мимо моего «Запорожца», Белла спросила:
– Володя, это же твоя машина?
– Не знаю, заведется ли она, – усомнился я.
К моему неудовольствию (мне ехать не очень хотелось), «Запорожец» завелся. Мы сели все и поехали. Доезжаем до резиденции американского посла в районе Арбата. Милиционер в будке, наверное, спит, а ворота открыты. Юный Андреев говорит: «Здесь остановите, спасибо». Я говорю: «Ну, зачем же здесь» – и въехал в ворота.
Тогда это было чудовищное преступление – переход границы. Да и сейчас за это по головке бы не погладили. Мы въехали, зажегся наружный свет, вышел какойто служитель, очень удивился, поздоровался по-русски. Я высадил молодого человека. А в это время милиционер проснулся, выскочил, встал в створе ворот – дальше он не имел права идти: территория иностранного государства. Встал и свистит в свисток. Я немного испугался и даже с испугу выключил фары. Но потом опять включил и, поскольку там было трудно развернуться, задним ходом поехал к воротам.
На ходу думаю, что бы мне сказать. Кого я мог привезти в два часа ночи? А тогда в Советский Союз приезжала Анджела Дэвис. Судя по советской прессе, легендарная личность. В Америке ее подозревали в какомто политическом убийстве, а наши писали, что ее преследуют как негритянку и коммунистку (она была членом ЦК Компартии США). Ее приезд приветствовали все советские центральные газеты, и, насколько мне помнится, все репортажи начинались с шаблонной фразы: «К нам приехала член Центрального Комитета Коммунистической партии Соединенных Штатов Америки Анджела Дэвис». Подъезжая задним ходом к воротам, я вспомнил эту фразу. Около милиционера остановился, опустил стекло. Услышал суровый вопрос:
– Кто вам разрешил сюда въезжать?
Ответил вопросом:
– А вы знаете, кого я привез?
– Меня не интересует, кого вы привезли. Я спрашиваю вас, кто вам разрешил сюда въезжать?
– А я вас спрашиваю, вы знаете, кого я привез?
– А я вас спрашиваю, кто вам разрешил сюда въезжать?
Я ледяным голосом говорю:
– Повторяю, я сюда привез члена Центрального Комитета Коммунистической партии Америки! Запишите номер – и до свидания!
Включил скорость и сорвался с места.
Утром проснулся, думал, интересно, куда меня вызовут – в КГБ или в ГАИ. Но меня не вызвали ни туда, ни сюда. Скорее всего, милиционер никуда не сообщил. Потому что не знаю, что было бы мне, но ему бы попало точно. Я все-таки был членом Союза писателей и уже довольно известным. Мне, вероятнее всего, ничего бы не было. Но если бы я оставался плотником, могли бы и посадить. Впрочем, будь я плотником, я на такое бы не решился.
Я же вам говорил…В 1963 году меня неожиданно пригласили на студию Горького к генеральному директору Бритикову. Удивленный, зачем и кому я там понадобился, я явился. Оказывается, приглашенных много. Кроме меня и Жоры Владимова, Пырьев, Ромм, Райзман, Марлен Хуциев, Отар Иоселиани. Пырьев схватил меня под руку и повел знакомить с Роммом и Райзманом, внеся в эту процедуру какойто, как мне увиделось, подтекст. Они вроде считались принадлежащими к разным лагерям. Пырьев показывал, что я в одном лагере с ним.
Выяснилось, что мы приглашены обсудить фильм Хуциева «Застава Ильича», что меня удивило. Только что картину непонятно за что разругал в пух и прах Хрущев. Обычно после такой «критики» никаких обсуждений уже не бывало. Но на дворе все же не сталинские времена, оказывается, вождь у нас отходчив и приговор его не окончательный.
Выступил работник ЦК КПСС Георгий Куницын. К моему удивлению, говорил о фильме мягко. Что в целом он очень хороший. Я сидел, удивлялся: как может партийный работник говорить, что фильм хороший, когда главный партийный вождь сказал, что он нехороший. Куницын настаивал: фильм хороший, но в нем надо коечто поправить. Вот как раз для поправки и пригласили нас с Владимовым.
Бритиков предложил немедленно заключить договор и сказал:
– Мы вам заплатим по тысяче рублей. – Сделал паузу. – Старыми конечно, деньгами.
– Старыми? – переспросил Хуциев. – Новыми.
– Ну, новыми, – согласился Бритиков (новыми – это в десять раз больше).
Мы с Владимовым не возражали. Не помню, подписали ли договор, но помню, что ничего не сделали. Я видел фильм, читал сценарий, я не понимал, что в нем не устроило Хрущева и что надо сделать такое, чтобы его устроило. На что рассчитывал Хуциев, я тоже не понял. Марлен каждый день приезжал ко мне, брал в руки гитару, которую я купил, наверное, в надежде когда-то научиться на ней играть. Но не помню, чтобы пытался научиться. Хуциев долго подбирал чтото на одной струне. Мы говорили о чем угодно, только не о фильме. Однажды заговорили о Ленине, которого Марлен еще считал гением. У меня была другая точка зрения, которую Хуциев выслушал с большим удивлением. За несколько недель моего и Владимова общения с Хуциевым мы много тем обсудили, но никаких попыток внести хоть чтото в фильм, насколько мне помнится, не сделали. Тем не менее фильм через некоторое время вышел на экраны, может быть, никак не исправленный, только назывался теперь иначе: «Мне двадцать лет».
Там же, на студии Горького, после обсуждения «Заставы Ильича» ко мне подошел режиссер Юлий Яковлевич Райзман, сказал, что у него есть ко мне очень серьезный разговор. Спросил, не могу ли я прийти ради этого к нему на «Мосфильм», где они вдвоем с Роммом руководили одним из творческих объединений. Райзман был очень известный, авторитетный и уважаемый режиссер кино, как говорили, «прогрессивного» направления, и снимал фильмы, которые считались очень смелыми. Разумеется, я немедленно к нему пришел.
Юлий Яковлевич нажал кнопку, велел секретарше принести чаю с сушками, начал разговор с того, что он уже пожилой человек, много лет работает в кино и несколько оторвался от жизни. А я, еще сравнительно молодой, судя по всему, от жизни не оторвался, так не соглашусь ли помочь ему осуществить его новый замысел. За пять лет до того он снял фильм «Коммунист» с Евгением Урбанским в главной роли, теперь думает о новой картине под условным названием «Сын коммуниста». Сын должен быть достойным продолжателем дела отца – крупным руководителем производства, настоящим коммунистом и безусловно честным человеком. «Бывают же в жизни такие люди?» – спросил меня Райзман. Мне не хотелось его разочаровывать, я испытывал неловкость и некоторую робость, но все же сказал, что быть условно честным такой человек еще может, но безусловно, пожалуй, нет. «Судите сами, – сказал я. – После всего, что случилось в нашей стране, после разорения крестьян, террора тридцатых годов, уничтожения высших командиров Красной Армии и много чего еще честным членом коммунистической партии может оставаться человек разве что очень наивный, то есть глупый. А как же может глупый человек быть крупным и толковым руководителем? Если он не совсем глуп, то не может быть согласен со всеми решениями партии. Если не согласен, но голосует «за», значит, нечестен. Если честен и хотя бы одно решение не одобрит, его исключат из партии, понизят в должности, и он перестанет быть и коммунистом, и крупным руководителем. Не говоря уже о том, что всякий руководитель в советской системе не может не лгать, не заниматься приписками, не брать на себя невыполнимых обязательств и не рапортовать о досрочном их выполнении. Значит, или крупный руководитель и коммунист умный, но не честный, или честный, но не руководитель и не коммунист».
Я говорил, маэстро морщился и мрачнел, ему, как я подумал, было жаль расставаться со своим замыслом.
Но он с ним и не расстался. Прошло несколько лет, и в подмосковном доме творчества кинематографистов «Болшево» я опять встретил Райзмана. Мы с ним довольно тесно и, несмотря на разницу в возрасте, дружески общались, играли в бильярд, которого он был большим любителем и мастером, и вдруг из Москвы привезли только что сделанный его фильм по тому самому замыслу, но с названием не «Сын коммуниста», а «Твой современник». Фильм был один из первых широкоформатных. Исполнитель главной роли Николай Плотников играл очень хорошо, но в обстоятельствах искусственных, имевших мало общего с реальной советской жизнью. После сеанса были бурные аплодисменты, коллеги Марк Донской, Сергей Юткевич и другие наперебой хвалили постановщика, поздравляли с большой творческой удачей. Я тихо вышел из кинозала и направился к себе в комнату, но Райзман догнал меня в коридоре. Он запомнил наш тот разговор, и сейчас для полного торжества ему не хватало моей безоговорочной капитуляции.
– Ну как вам мой фильм? – спросил он торжествующе.
Я никак не желал его огорчить, но я был молодой и хотел быть честным.
– Юлий Яковлевич, – сказал я ему, – я же вам говорил.
Прошло еще много лет, и, уже будучи эмигрантом, в СанФранциско я увидел объявление о фестивале советских фильмов. Я пошел туда и среди прочих попал на новый фильм Райзмана «Частная жизнь» о коммунисте третьего поколения (очевидно, по внутреннему замыслу герой фильма был внуком героя «Коммуниста»). И этот фильм, как и «Твой современник», был хорошо снят, Михаил Ульянов очень хорошо исполнял главную роль, и вообще в нем все было похоже на правду, но не было ею. Когда началось обсуждение публикой (вполне благожелательное), меня подмывало послать Райзману записку без подписи: «Юлий Яковлевич, я же вам говорил». Но я не сделал этого, пожалел старого человека.








