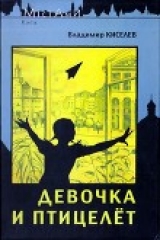
Текст книги "Только для девочек"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц)
А на военном кладбище, если бы ты даже не знал, что тут похоронены военные, можно сразу понять, что это могилы солдат и офицеров. Все плиты на одинаковом расстоянии друг от друга, так, как будто стоят в строю, на каждой золотом написаны фамилия и год, когда этот человек погиб.
А в центре – памятник. Чехословацкий генерал, дедушка, бабушка и все остальные положили возле памятника венок и букеты цветов, и пока они там стояли, я пошел по дорожкам, посыпанным красным песком, между могилами, рассматривая фамилии.
И вдруг на одной из плит я прочел надпись «Карасев». Я очень расстроился, потому что дедушка мой был жив. Это получилась какая-то ошибка. Очевидно, погиб какой-то другой человек, а его приняли за дедушку и тут похоронили. Но это очень неудобно, что получилась такая путаница.
Я подошел к дедушке, тихонько потянул его за рукав и повел к могиле с нашей фамилией. Дедушка посмотрел на надпись и сказал, что никакой путаницы тут не произошло, что тут похоронен однофамилец, а может быть, даже кто-нибудь из наших родственников. Очень много наших родственников пали в боях за честь и независимость нашей Родины.
Затем дедушка смахнул рукой несколько сухих листиков, которые упали на плиту с фамилией Карасев, и вдруг я заметил, что у дедушки как-то странно дергается шея и из глаз у него текут слезы. Я ни разу в жизни не видел, чтобы дедушка плакат.
Но я не умею плакать, как взрослые, без всякого звука. Я заревел во все горло. И когда я заревел, прибежали бабушка и генерал, и все остальные, и тоже стали вокруг этой плиты и начали плакать. Все они повынимали носовые платки, а у меня носового платка не было, и слезы текли мне прямо в рот, и от громкого плача у меня заболело горло. Тогда я замолчал и пошел рассматривать другие могилы, а они все еще стояли вокруг этой плиты и тихо плакали.
Вот примерно все, что рассказал Сережа о своей поездке в Прагу. Я почти ничего не прибавила. Ну, может быть, про сухие листочки на могильной плите. И про носовые платки. И про то, что Сережа не умеет плакать, как взрослые, без звука. Ну и еще кое-что. Но в целом он говорил так, как я написала.
– … Прагу я знаю, – сказала Юлька. – Про нее по телевизору показывали. А я бы хотела в такой город поехать… что по телевизору не увидишь. На остров. В океане. Которого никто не знает. На котором никто не был.
Таких островов не осталось, – возразила я. – Все показывают по телевизору. Даже космос.
– Что же было в «сюрпризе»? – спросила Юлька.
А я не сообразила сразу узнать об этом. Но Сережа не ответил, потому что в палату вошли два человека. Один из них высокий, тонкий в талии, широкоплечий парень с маленькой головой, с красивым горбоносым лицом. На вид он был десятиклассник, а может быть, уже и студент, как Володя или Фома. Рука и плечо у него были в гипсе. С ним был восьмиклассник Алик с невероятно толстой нижней губой и колючими голубоватыми глазками. Его подбородок поддерживал гипсовый воротник.
– Ты здесь почему болтаешься? – спросил Алик у Сережи.
И Сережа сразу же ушел. Даже не попрощался. Мне показалось, что он почему-то боится этого Алика.
Старшего парня звали Олег. Юлька его знала, по-видимому, он к ней уже приходил, но еще до того, как я попала в эту палату.
Они пришли к Юльке. Они принесли ей огурцов, которые вдруг сильно запахли весной, перебивая все больничные запахи.
– Покажи им, – предложил Олег Алику.
У Алика в руках появилась колода карт. Он быстро их стасовал, предложил Юльке снять часть колоды, положить под низ и снял сверху две карты.
– Двадцать одно, – показал он.
Там были десятка и туз. Алик снова стасовал колоду, снова Юлька сняла карты, и он опять показал три верхние карты. Шестерка, семерка и восьмерка.
– Двадцать одно, – сказал он. – Без проигрыша. Пока он показывал свои карточные фокусы, Олег подошел поближе к кровати Вики. С Викой он, казалось, был совсем не знаком. Он и не посмотрел на нее. Вика показала глазами на подушку. И Олег, незаметно для всех, по-моему, только я это заметила, вытащил у Вики из-под подушки маленький бумажный пакетик и положил его в карман. Я уверена, что это были деньги. Те самые, которые Вике дала ее мама.
Глава одиннадцатая
В папиной газете писали, что если всю водопроводную воду, которую употребляют киевляне, разделить на количество дней в году, а потом еще на количество жителей нашего города, то получится, что каждый человек у нас тратит в сутки 540 литров воды. И что это – очень много. И что потребление большого количества воды показывает высокий уровень цивилизации.
Ну, это средние цифры. Возможно, какие-нибудь неряшливые мальчишки потребляют всего, скажем, по сорок литров воды в сутки, а остальные пятьсот достаются другим, поднимая уровень их цивилизации еще выше.
Кроме того, воду потребляют неравномерно. По данным Центральной водопроводной диспетчерской, когда по телевизору показывают футбольный матч, воды уходит больше. Именно в это время многие женщины затевают стирку.
Но девочки из нашей палаты, и я в частности, теперь уже никогда не будут стирать во время футбола.
Ни моя мама, ни мой папа футболом не интересуются. И я дома, когда показывали по телевизору футбол, переключала программу. Теперь я поняла, что футбол – замечательная игра, благородная и загадочная. Если в шахматах, где всего 64 клетки и по 16 фигур у каждого игрока, возможно совершенно фантастическое количество вариантов, то что говорить о футболе, где перед игроками большое пространство, на котором каждый игрок проявляет свой характер и свое индивидуальное настроение, и свое мастерство, и где правила не так строги, как в шахматах.
Нужно только узнать эти правила, чтобы понимать, когда и почему свистит судья. Но мы их узнали. От Володи и Фомы.
Если прежде Володе и Фоме приходилось выдумывать какой-нибудь предлог, чтоб зайти в нашу палату, ну, например, говорить, что они пришли узнать, как мое здоровье, или передать Юльке конфет, то теперь они входят со словами о том, какая сегодня будет интересная передача.
Программу телевидения они, по-моему, знают наизусть. Свой маленький телевизор на батарейках они отдали нам. Поставили на подоконнике экраном к палате, для Юльки провели провод с дистанционным управлением, так что она может сама включать и выключать телевизор и регулировать силу звука.
До недавнего времени наши разгороженные окном палаты были во всем равны. Но теперь мы вступили в эпоху неравенства. Девочки из соседней палаты нам завидуют. И, конечно, если бы поступать по справедливости, то следовало бы один день держать телевизор в нашей палате, а другой – отдавать соседям. Но мы этого не сделаем. Оказалось, что мы больше не можем жить без телевизора.
Сегодня Володя и Фома пришли к семи часам. Смотреть вместе с нами принципиальный футбольный матч. Из Москвы. «Спартак» (Москва) – «Динамо» (Киев).
Фома в одну минуту нарушил три больничных правила. Во-первых, он сел на Юлькину кровать. Во-вторых, он принес в палату мороженое. А в-третьих, они с Юлькой ели мороженое столовыми ложками из одной глубокой тарелки. И Фома при этом, несмотря на принципиальный матч, все время отвлекался от экрана и жалобно повторял:
– Юленька, я не успеваю, ешь медленно! Я – ложку, и ты – ложку. Я – ложку, и ты – ложку.
Серьезный и задумчивый Володя сидел на стуле в проходе между кроватями и смотрел на экран, время от времени с досадой хлопая себя ладонями по коленям – ему не нравились решения судьи.
И тут вдруг произошло очень важное событие. Дверь в палату широко открылась, и вошел академик Деревянко, которого все в разговорах между собой называли Светило.
Ни я, ни девочки, ни Володя и Фома никогда прежде его не видели. На его халате не было таблички с именем и должностью.
Но мы все сразу поняли, что это – он. Что это – Светило. Может быть, потому, что был он огромным, похожим на медведя, человеком, с недовольно оттопыренной нижней губой и сердитым властным выражением на очень большом и красном лице, и от него одного в палате стало как бы теснее; а может быть, потому, что за ним вошли писатель Павел Романович Корнилов, тоже в белом халате и с портфелем в руке, Олимпиада Семеновна, а сзади заведующий нашим отделением Валентин Павлович Попов.
Фома ужасно испугался, вскочил с Юлькиной кровати, а ведь на коленях у него была тарелка с мороженым, тарелка брякнулась на пол, раскололась на куски, а мороженое потекло по линолеуму.
В жизни бывают фантастические совпадения, футбольный комментатор именно в это мгновение восторженно закричал: «Удар!»
Я фыркнула. Фома опустился на колени и начал вытирать пол носовым платком, еще больше размазывая мороженое. Володя бросился ему помогать, стремительно опустился на колени, и они так стукнулись лбами, что, как мне показалось, даже звон пошел, и у меня у самой заболела голова.
– Что это значит? – грозно спросил академик Деревянко, тяжело поворачиваясь к Валентину Павловичу.
Я никогда не думала, что Валентин Павлович может так растеряться. Вместо ответа он неловко мямлил:
– Я… Эти люди… я не ожидал.
– Кто вы такие? – раздраженно обратился академик Деревянко к Володе.
Но и Володя опешил и не отвечал. Я почувствовала, что мне нужно вмешаться. Однако язык меня совсем не слушался.
– Это я… Это ко мне… Это Володя Гавриленко и Фома Тенрейру… Это они сбили меня своей машиной. Познакомьтесь, пожалуйста.
Фома поднялся с колен, переложил мокрый платок из правой руки в левую и с готовностью протянул правую руку.
Но академик Деревянко будто не заметил этого его дружелюбного движения. А писатель Корнилов пожал сначала липкую руку Фомы, потом липкую руку Володи. При этом он явно сдерживал смех. Мне показалось, будто все, что здесь происходило, доставляло ему большое удовольствие.
Академик Деревянко снова сердито оглянулся на Валентина Павловича:
– Скажите – пусть уберут. И принесут стулья.
Олимпиада Семеновна выглянула в коридор, и тотчас же появилась уборщица, так, словно она с тряпкой и щеткой стояла за дверью. Уборщица вытерла пол и убрала осколки, санитарки принесли из холла стулья.
– Здравствуйте, Павел Романович, – только теперь догадалась я поздороваться с писателем Корниловым. – Как вы… Как вы сюда попали?
– Очень просто. Я – к тебе. Навестить.
– Но как вы узнали?
– Ты, Оля, теперь входишь в цех.
– Как это?
– Понимаешь… Вот парикмахеры. Или повара. Или другие специалисты. Они и теперь еще составляют как бы цеха. И знают друг о друге. Я почти полгода был во Франции, а затем в Англии. Читал лекции. Вернулся, зашел в Московский дом литераторов и первый же встреченный мной писатель сразу спросил: «Слышали – Оля Алексеева попала под машину?»
– Откуда же он узнал?
– Я ведь говорю, что ты теперь входишь в литературный цех. Твои стихи помнят.
«Гол!» – восторженно закричал футбольный комментатор.
Олимпиада Семеновна выключила телевизор. Стулья поставили в проходе между койками. На первых двух стульях сели академик Деревянко и писатель Корнилов, на следующих посадили Володю Гавриленко и Фому Тенрейру, а за всеми – Олимпиада Семеновна и Валентин Павлович.
Все молчали.
– Могу ли я узнать, – повернулся академик Деревянко к Володе и Фоме, но обращаясь через их головы к Валентину Павловичу, – почему эти молодые люди приняты на работу без меня? И что у них за должность – физикохимики? Что-то я не слышал о такой специальности в медицине.
– Они это… Они у нас вне штата. Добровольно, – виновато ответил Валентин Павлович. – Они переделывают и изготовляют скобы, крепления, стяжки… Они – студенты. Физикохимики.
– Понятно, – сказал академик Деревянко. – Они сначала добровольно ломают девочкам кости, а потом добровольно делают для этих девочек стяжки.
Он тяжело поднялся со стула, подошел к Юльке, приподнял ей голову и двумя пальцами сдавил ей сзади шею.
– Больно?
– Нет.
Юлька глядела на него во все глаза.
– Как тебе тут?
– Хорошо.
– Молодец. Ты у нас еще пойдешь. – Он повернулся к писателю Корнилову. – Вы найдете меня в кабинете, в центральном корпусе. Вас проводят. Пойдемте, коллеги физикохимики, – предложил он Володе и Фоме и направился к двери. А за ним Володя, Фома, Олимпиада Семеновна и Валентин Павлович.
По-видимому, кроме Юльки, академика Деревянко тут никто не интересовал.
Когда они ушли, писатель Корнилов раскрыл свой толстый портфель и достал оттуда несколько коробок яблочного мармелада. Я очень удивилась. Конечно, не вслух, а про себя. Почему все приносят мармелад? Может, считается, что он полезен при переломах? И решила, что нужно будет расспросить Олимпиаду Семеновну.
– Это вам гостинец.
Павел Романович дал по коробке мармелада Юльке, Вике и Наташе, а мне оставил три коробки. Возможно, до прихода сюда он считал, что нас в палате может оказаться шесть. Что-то такое особое есть в Павле Романовиче. Даже Вика взяла мармелад, хотя прежде говорила, что он ей не нравится.
Я все время улыбалась. Я не могла удержать улыбку. Мне все-таки было невозможно приятно, что ко мне пришел знаменитый писатель Корнилов и что он при Володе, и при Фоме, и при девочках, и при взрослых сказал, что я принадлежу к литературному цеху. И стихи мои чего-то стоят, если их помнят даже московские писатели.
– Ты, Оля, так увлеклась химией, а может, и физикохимией, что больше не пишешь стихов? – садясь на стул, спросил Павел Романович.
Мне больше не захотелось улыбаться.
– Наоборот. Я почти совсем оставила химию. А стихи пишу. Много.
Я рассказала Павлу Романовичу, что в последнее время у меня большие расходы, что такую же сумму какую я прежде тратила на конфеты, я теперь грачу на почтовые марки. Я посылала стихи во многие журналы и газеты. Мне не все ответили. Но в большинстве редакций работают люди обязательные, которые без задержки присылали мне письма, где говорилось, что стихи мои несовершенны, чтоб я читала таких классиков отечественной и советской литературы, как Пушкин, Лермонтов, Маяковский и Твардовский, и училась у них, как нужно хорошо писать стихи.
И еще я рассказала о том, что только тут поняла, на что похожа история с моими стихами. В травматологическом центре создана специальная библиотека. Юмористическая. Там держат только смешные книжки. Потому что у тех, кто смеется, травмы будто бы заживают быстрее. Смех значительно активизирует работу легких и ускоряет обмен веществ в организме. Три минуты смеха вполне заменяют 15-минутную зарядку. Из этой библиотечки медсестра Анечка принесла мне потрепанную, зачитанную книгу Ильфа и Петрова «Одноэтажная Америка». В одном месте там говорится, что в Голливуде снимают много фильмов про певцов и певиц. Поют они одинаково в начале и в конце фильма, но сюжет состоит в том, что вначале их никто не признает, но в конце, по неизвестным причинам, они пользуются огромным успехом.
А у меня все наоборот. Вначале мои стихи напечатали в «Литературной газете», и все их хвалили. А теперь такие же стихи, и даже лучшие, никто не признает.
Мои жалобы, как мне показалось, не вызвали у Павла Романовича никакого сочувствия.
– Тут все зависит от того, – сказал он, – для чего ты пишешь. Если для того, чтобы выразить то, что тебе очень нужно сказать, чего ты не можешь не сказать – это одно дело. А если для того, чтобы тебя напечатали, – совсем другое. Для того чтобы тебя напечатали, нужно лишь уметь соблюсти одно правило.
Он помолчал.
– Какое? – не выдержала я.
– Нужно писать, как все… только лучше. Начинающий литератор должен сразу писать лучше, чем маститый. Только маститым прощают небрежности, которые начинающим ни за что не извинят.
Это мне было понятно. Я и сама об этом думала. Или о чем-то похожем.
За большим нашим окном печально синел вечер, и тушью налились тонкие гибкие ветви на верхушках тополей.
– Прочти нам какое-нибудь новое стихотворение, – предложил Павел Романович. И сразу же обратился к девочкам: – Вы послушаете?
– С удовольствием, – ответила за всех Наташа.
Я прочла стихи о старом пароходе, о капитане, который «безбожно матерится», о четырех черных машинистах и о том, как я едва не утонула.
– Понравились вам эти стихи? – спросил писатель Корнилов у девочек.
– Понравились. Очень, – одобрила мое сочинение Юлька. – Складно. Как песня.
– А мне – не очень, – не сразу сказала Наташа.
– Почему?
– Непонятно, что хотел сказать автор этим произведением, – так, словно читала из учебника, ответила Наташа. – Зачем автор сравнивает себя с пароходом? Для чего здесь это грубое слово?
Павел Романович улыбнулся весело и как-то беспомощно.
– Что ж, в этом, наверное, есть свой резон. Может быть, редакторы, которым ты посылала стихи, рассуждали также, или примерно так же, как твоя подруга? Спасибо, – поблагодарил Наташу Павел Романович. – Я уже буду собираться. Но я обязательно еще приду. Здесь сейчас проходит пленум Союза писателей. Меня пригласили принять в нем участие. Так что я пробуду в Киеве еще с неделю и…
Он удивленно замолчал. В окне между палатами было видно, как семиклассница Даша Гришина повернулась к нам и показала свою любимую штуку – высунула язык и дотронулась ним до кончика носа.
Глава двенадцатая
Мне очень нравятся люди, которым нравятся мои стихи. Я понимаю, что это глупо, что нельзя хорошо относиться к человеку только потому, что ему пришлись по душе твои сочинения. А если он, например, дурак? Или грубиян? Но все равно, я ничего не могу с собой поделать.
Однако стихи – очень странная штука. Тут никогда нельзя заранее знать, что получится. Я думаю, что это так у всех поэтов. Даже у самых знаменитых. Даже у тех, которых изучают в школе.
Я недавно прочла папе свои новые стихи. Обычно он одобряет то, что я написала. Но тут он посмотрел на меня недовольно и сказал с возмущением:
– Нехорошо так думать о людях!
– О каких людях? Почему?
– О других поэтах.
От удивления я чуть не упала в обморок. Я ни разу в жизни не видела, как падают в обморок. Ни в нашей семье, ни в нашей школе этого никогда ни с кем не случаюсь. Но в книгах я часто читала о том, как герой или героиня после неожиданного известия или обиды, или узнав о чем-нибудь новом, полезном и интересном, теряют сознание, падают в обморок.
– О каких поэтах? Я писала о комарах!
– Вот-вот. Не следует все-таки писать о поэтах, как о комарах.
С ума сдуреть – как говорят здесь в травматологическом центре все, начиная с больных дошкольников и кончая старыми нянечками. Стихотворение, которое я прочла папе, не имело никакого отношения к поэтам. Просто наш новый дом возле леса, неподалеку Днепр, озера, луга, и у нас тут много комаров. Очень кусучих. Все мажутся диметилфтолатом или, что еще хуже, гвоздичным одеколоном. Даже на прекрасный цветок, на гвоздику я смотрю теперь с омерзением. А, кроме того, над нашим домом все время пролетают самолеты с аэродрома и на аэродром. Про это я и написала:
У комаров нелетная погода.
А нам совсем неплохо под дождем.
Неподалеку здесь аэродром,
И непривычно нам, что с небосвода
Пропеллеров не раздается гром
И рев турбин: нелетная погода.
Но дождь прошел, теплятся в небе звезды,
На берегу Днепра зажглись костры.
Не выпускают самолеты в воздух,
Зато вовсю летают комары.
И, честное же слово, когда я сочиняла это стихотворение, вовсе я не думала о том, что мои стихи никто не хочет опубликовать, а другие печатают.
Папа, в конце концов, поверил, что своими стихами я не имела в виду ничего плохого. А вот с папиным заведующим отделом в редакции Дмитрием Максимовичем и с его громогласной женой Верой Сергеевной все получилось значительно хуже.
Они были у нас в гостях. «Небольшой ужин», как выразилась мама, хотя в действительности по времени это был ужин, а по содержанию – большой обед. И папин заведующий отделом Дмитрий Максимович сказал с каким-то намеком. «Мы должны, конечно, исправлять ошибки прошлого, но делать это нужно так, чтобы не повредить нашему будущему».
Я подумала, что это он говорит о нашей семье, скажем, о том, что если прежде у меня часто бывали троечки и родители на это не обращали особого внимания, то теперь, когда я стала лучше учиться, не нужно на меня слишком давить, чтобы я снова не сорвалась.
Но вскоре я поняла, что Дмитрий Максимович имел в виду совсем не нашу семью, а исторический процесс в целом.
Раньше я не очень увлекалась историей. Но в последнее время мне стало интересно читать исторические книги. И особенно по русской истории. И больше всего про Ивана Грозного и его время.
Ох, и страшное же это было время. Я узнала, что при Иване Грозном в условиях постоянных поисков мнимых заговоров и воображаемых измен получили большое распространение доносы. Что царь эти доносы очень ценил и очень поощрял. Что при таком его настроении появилась масса доносчиков, которые за счет гибели других людей старались улучшить свое материальное и общественное положение. Тем более что доносы эти совсем не проверялись.
Было только одно доказательство вины: признание обвиняемого под пытками. А пытки научились проводить очень мастерски. Сам Иван Грозный изобрел для этого дела особый «жгучий состав». Он был действительно жгучий, выдержать его действие человек просто не мог. При такой пытке люди, понятное дело, не только признавали любую вину, какая им приписывалась, но еще и оговаривали других.
Для того чтобы полностью раскрыть эти воображаемые заговоры оговоренных людей, использовали провокации. Желая проверить преданность бояр, царь направлял им фальшивые письма будто бы от польского короля.
Количество убитых, замученных, казненных людей в царствование Ивана Грозного достигло десятков тысяч. Казнили не только осужденных, но даже их близких, их знакомых и родственников их слуг и малолетних детей. Многих ссылали в дальние места. Хотя и ссылка иногда не освобождала от последующей казни. Так было, например, с митрополитом Филиппом.
Такими были справедливость и государственная мудрость царя Ивана IV, которому уже после смерти поменяли имя. В летописи того времени сообщалось, что труп Ивана Грозного постригли в монахи и нарекли Ионой.
Ну, это так в летописи. А кто же его постриг в самом деле? Вероятно, парикмахер или, как выражались в те времена, цирюльник. Я написала про это стихи.
Недолго цирюльники царские жили:
Их ночью стрельцы на допрос уводили,
Вгоняли иголки под грязные ногти,
Дробили кувалдами руки и ноги.
– Царя отравить, иль зарезать хотели?
Где брали, собаки, бесовское зелье?..
Цирюльников крики сквозь ночь пробивались,
Они признавались, во всем признавались.
И слышали мрачное: – То-то же, черти!
И господа бога молили о смерти.
Зеваки на казнь равнодушно глядели:
Худые цирюльники плохо горели.
Комната от курений душиста и чуть туманна.
Молча стоит последний цирюльник царя Ивана,
Глаза у него большие, печальные: умер царь,
Но радость – в каждой морщине маленького лица.
Ему хорошо стоять здесь, смотреть на скорбные лица,
Ему не надо бояться, теперь его жизнь продлится.
Приятно ему в молчаньи, под колокольный зуд,
Бояр обжигать глазами и ждать, пока позовут,
Стоять в уголке и думать, лаская бритвы железо,
Что если б царь не умер, он сам бы его зарезал.
Папин заведующий отделом Дмитрий Максимович сам предложил мне прочесть какое-нибудь из моих новых стихотворений. Я прочла «Последний цирюльник». Дмитрий Максимович и его жена слушали стихи с обидой и огорчением, словно они были направлены против них, как некоторые люди слушают пародии и эпиграммы.
– Это непатриотические стихи, Оля Алексеева, – сказал Дмитрий Максимович. – Конечно, Иван Грозный, как это тебе известно из курса истории, допустил много ошибок. Но им было сделано и немало полезного. Он взял Казань. Он был выдающимся полководцем и талантливым писателем.
Я подумала, что можно было еще добавить: и великим химиком, раз он изобрел «жгучий состав», а в состав этот, несомненно, входили какие-то отравляющие химические вещества.
– Она у вас слишком много на себя берет, – обратилась жена папиного заведующего отделом Вера Сергеевна к моим родителям. – И мне кажется, что объясняется это не только влиянием школы. Мне кажется, что и влиянием семьи.
История, на мой взгляд, наука странная и не всегда понятная. Из истории следует, что и взятие Казани и даже опричнина были исторически неизбежны. Но из той же истории становится понятным, что царь Иван Грозный был одним из самых лицемерных, низких, мелких, отвратительных и отталкивающих существ на нашей планете. Трудно как-то при этом радоваться его историческим заслугам.
Папа мне подмигнул. Но я не стала спорить с Дмитрием Максимовичем и его женой. Я уже давно убедилась, что они не принадлежат к числу тех взрослых, которые поощряют дискуссии по поводу высказанных ими взглядов.
А стихи я послала в журнал. В «Рассвет». Мне долго не отвечали. Лишь совсем недавно, примерно за неделю до того, как я попала сначала под Володины «Жигули-Ладу», а потом в этот травматологический центр, мне прислали письмо, словно написанное папиным заведующим Дмитрием Максимовичем. Вот и сочиняй после этого стихи на исторические темы.
Хотя это письмо из редакции журнала помогло мне понять, зачем людям так нужна новая, красивая одежда. Особенно девочкам. Когда получишь такое письмо, и когда небо такое серое, что кажется, будто это не от туч, а оно вообще такое серое, и когда на улице холодно и все ежатся, и когда золотые осенние листья на деревьях кажутся просто заржавевшими, а листья, оставшиеся зелеными, – пыльными, вот тогда хорошо надеть новое модное платье и сразу почувствовать себя другим человеком. Веселым и удачливым.
И даже задача по математике, которая у тебя раньше не получалась, может получиться.
И ты уже не будешь так огорчаться и немножко пугаться из-за того, что твой папа больше не пишет фельетонов.
И ты не будешь завидовать, что у других девочек есть мальчики, с которыми они по-настоящему дружат, а у тебя – нет.
Но у меня не было нового платья. Да и зачем оно мне в больнице, под одеялом? Мне нужно было что-то другое, что действовало бы на человека, как новое платье, или как новые сережки действуют на тех, у кого в ушах проколоты дырочки. И я знала, что именно. Мне нужно, чтобы мои стихи читали другие люди.
В палату вошла медсестра Анечка со шприцем и всем остальным, что полагается дли укола.
– Оля, – объявила она, – к тебе гости.
Я напряглась.
– Мальчик. И женщина. Учительница. Я сказала, что сделаю Юльке инъекцию, а потом их пушу.
Вика сразу же выставила наружу свой крестик.
Анечка быстро и споро ввела Юльке в руку лекарство и выпорхнула из палаты.
Я подумала, что это, может быть, моя любимая учительница химии Евгения Лаврентьевна и Витя. Но в палату вошли совершенно незнакомые люди. Очень худая, очень высокая женщина, халат ей был короток и висел на ней, как на вешалке, голову ее украшала затейливая прическа, а на носу были огромные круглые очки с дымчатыми стеклами, и с нею плотный невысокий паренек, он учительнице этой был по плечо. У него был некрасивый маленький нос, круглый подбородок, румяные, налитые щеки и глаза, словно переклеенные с другого лица. Большие, темные, внимательные и необыкновенно умные.
– Кто здесь Оля Алексеева? – басом спросила учительница. – Вы? – обратилась она к Вике. Возможно, ее привлек крестик на шее.
Вика не ответила.
– Я – Оля Алексеева. Садитесь, пожалуйста. Берите стулья.
– Спасибо. Я твой классный руководитель. Зовут меня Мария Сергеевна. Я веду математику. А Юра Зайцев – твой соученик. Он лучший математик школы и круглый отличник. Он согласился помочь тебе догнать класс.
Хочу ли я с этим Юрой Зайцевым догонять класс, у меня не спросили. Но я все равно поблагодарила и сказала, что постараюсь не отставать от программы.
– Так вот, значит, как у вас – с интересом оглядывая палату, сказал Юра Зайцев. – Я больницу только в кино видел. Болит у тебя нога?
– Нет. Просто очень неудобно лежать все время на спине с ногой, к которой подвешен груз.
– Для чего же нужен этот груз?
Я, как умела, рассказала о том, как ортопеды сращивают поломанные кости.
Мария Сергеевна раскрыла увесистый портфель, который в палату внесла не она, а мой будущий соученик Юра Зайцев. Я с любопытством следила за ее действиями и приняла как можно более серьезный вид, чтоб не рассмеяться, когда она достанет коробки с яблочным мармеладом.
Но в портфеле был совсем не мармелад, а книги, учебники. И тетради.
– Куда это можно положить? – спросила Мария Сергеевна.
– Вот сюда. На тумбочку.
– В этих учебниках – закладки. В тех местах, до которых дошел класс. Тебе это нужно прочесть и по возможности выучить. Если что покажется непонятным – тебе поможет Юра.
– Постараюсь помочь, – сказал Юра и посмотрел на меня своими переклеенными с другого лица умными и проницательными глазами. – Я-то понимаю, что в больничной палате не очень хочется учиться. И все же постарайся. Опытные люди говорят, что наверстывать труднее. Ты математикой увлекаешься?
Я вспомнила, как в Сочи на пляже ко мне подошел новый мой знакомый первоклассник Славик. В руках у него была тетрадка и шариковая ручка. Я сидела на песке и смотрела на море. В голове у меня вертелись стихи.
«Ты умеешь складывать столбиком? – спросил Славик. – Когда скучно, это хорошо помогает».
И он дал мне свою тетрадку, где уже было много цифр, записанных столбиком, и ручку. Он был добрым человеком, этот первоклассник… Он не хотел, чтобы я скучала.
– Нет, не очень, – не сразу ответила я на вопрос Юры Зайцева.
– И я – не очень, – легко согласился со мной Юра Зайцев. – Но зато геометрия…
– Я и геометрию – не очень…
– Ну, это даром, – возразил мой новый соученик. – Геометрия увлекательная, загадочная и таинственная наука.
– Чем таинственная?
– Многим.
– Например?
– Например, аксиомами или… Ты знаешь, что такое в геометрии «золотое сечение»?
– Нет. Не помню.
Юра Зайцев посмотрел на меня как на недоразвитую. В глазах у него что-то погасло.
– Это… ну, как бы тебе объяснить?.. Если разделить отрезок прямой на две части так, чтобы длина этого отрезка относилась к большей части, как сама большая часть к меньшей, то получится «золотое сечение». Понимаешь?
Я кивнула головой, решив, что потом нарисую это на бумаге и тогда, может быть, пойму.
– Обе части будут пропорциональны двум числам, – продолжал Юра, – единице и одной целой шестьсот восемнадцати тысячных.
– Почему же оно «золотое»?
Юра Зайцев сначала равнодушно, а потом все более увлекаясь, рассказал о том, что Кеплер назвал это соотношение одним из сокровищ геометрии, что этим соотношением отличаются античный Парфенон и статуи Фидия, греческие вазы и этрусская керамика, египетские пирамиды и скрипки Страдивари, а великий художник Дюрер подметил «золотое сечение» в человеке.
Мария Сергеевна слушала своего ученика с таким выражением лица, словно ничего об этом не знала. Она им просто гордилась.







