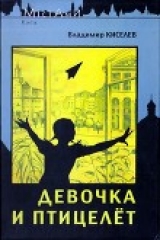
Текст книги "Только для девочек"
Автор книги: Владимир Киселев
Жанр:
Детская проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 15 страниц)
Глава шестнадцатая
Я думала, что медсестра Анечка должна знать наизусть все рассказы Конан Дойла про Шерлока Холмса. Но фактически оказалось, что она вообще не читала этого писателя. Она сказала, что любит только серьезную литературу, и больше всего ей нравится «Мадам Бовари» Флобера и «Сладкая женщина» Велембовской.
Но о каком бы событии ни шла речь, рассказ о нем Анечки всегда строится на тех же принципах, какие использовал в своих знаменитых сочинениях о Шерлоке Холмсе Конан Дойл. Сначала вдет сообщение о чем-нибудь загадочном и непонятном.
– Поля сказала – значит, вы считаете, что я ее умышленно отравила? Я готова отвечать хоть перед Верховным судом. Это – не я!
Слушатели не знают при этом ни кто такая Поля, ни кого она отравила. После такого, как правило, оглушительного сообщения Анечка сразу же заговаривает будто бы совсем о другом.
– К Маше пришел Алеша.
И снова слушатель не знает, кто такая Маша и кто Алеша. Но постепенно из Анечкиной скороговорки становится понятно, что Маша – это Анечкина соседка по общежитию и что Алеша – молодой математик-теоретик, который ходит к Маше в гости.
И только под конец Анечка рассказывает о том, как другая ее соседка по общежитию – Поля – пригласила Машу с Алешей к себе на чай, как коварный математик-теоретик стал ухаживать за Полей, как Маша съела пирожное с заварным кремом Полиного изготовления и сказала, что ее тошнит, и какой в результате получился скандал.
Рассказ Анечки о травматологическом центре и его создателе Светиле по содержанию, конечно, отличается от предыдущего, но по форме – ничуть.
– Я стояла и плакала. Вот такими слезами, – она показала кончик мизинца. – И тут он подходит ко мне. И говорит то, что он всегда говорит. «Отработаете год – семьдесят пять процентов, два – восемьдесят пять процентов, три года – девяносто пять процентов». – «А если и после третьего не удастся?» – «Тогда пойдете в гомеопаты».
Нет, не сразу я узнала, где, сто и почему подошел к Анечке. Дальше следовал серьезный рассказ о том, что никакая другая область медицины не требует такой строжайшей асептики, как ортопедия, что больные травматологических отделений, как правило, перенесли тяжелый шок и требуют особенно внимательного ухода, и что в большинстве современных больниц, как у нас, так и за границей, легче нанять на работу кандидата медицинских наук, чем санитарку.
По словам Анечки, объяснялось это тем, что при высоком уровне современной цивилизации люди считают унизительной для себя неквалифицированную работу. Им нужен стимул, и не только материальный. Так вот, академик Деревянко изобрел такой стимул. И вообще, как утверждала Анечка, Светило всерьез занимается только младшим и средним медицинским персоналом, а если этим заниматься всерьез, то все остальное уже получается само по себе, для этого не нужно затрачивать никаких усилий.
– А операции? – перебила я Анечку. – Ведь говорят, что он делает замечательные операции.
– Делает он операции, – не слишком охотно согласилась Анечка. – Только совсем не те, про какие его просят.
По ее словам получалось, что если бы в сутках было сорок восемь часов, и Светило не отходил бы от операционного стола ни для того, чтобы поспать, ни для того чтобы поесть, то и тогда бы он не успел провести тех операций, о которых его просят. Когда к нему обращаются родственники больных, их знакомые, всякие начальники, чтобы он сам сделал операцию, Светило никому не отказывает, всем обещает. Но фактически к операционному столу становятся просто хирурги, а все они ученики Светила и вполне справляются со своими обязанностями.
Дальше из слов Анечки становится известно, что академик Деревянко, Светило, заведует кафедрой ортопедии и травматологии в медицинском институте, но лекции он, как и операции, проводит сам не так уж часто. Лекции читают его помощники. А сам академик особенно помногу бывает в институте в период вступительных экзаменов. Он беседует с теми, кто провалился, кто не поступил, и предлагает им идти работать в травматологический центр. Санитарами и санитарками. Он обещает, что с ними там будут заниматься, и что через год или два, в крайнем случае, через три, они обязательно попадут в институт. Проценты, какие Анечка упоминала вначале, обозначают гарантии, которые дает академик. Ну, а если и через три года не удастся поступить в институт, то тогда останется только идти в гомеопаты.
Гомеопатов Светило не переносит, считает их мошенниками, знахарями, и часто приводит стихи Мицкевича:
Кто немного нездоров,
Приглашает докторов,
Кто ж серьезней захворает,
Тот знахарок приглашает.
А у них своя аптека —
Вмиг излечат человека, —
Ревматизм, чахотку, рожу,
Иль желудка несваренье.
Глухота иль глупость тоже
Поддаются излеченью…
Для санитарок и уборщиц, для медсестер и молодых врачей Светило на территории травматологического центра построил огромный двенадцатиэтажный корпус общежития гостиничного типа. Медсестрам и фельдшерам, санитарам и санитаркам разрешается вместе со студентами мединститута наблюдать сквозь специальные окна в потолке за операциями академика, для них он читает специальные лекции. Для них у него есть специальные часы приема. И этот суровый и, в общем, как говорят о нем, неприветливый человек входит во все их дела.
И еще в моей летописи обязательно найдет место рассказ Олимпиады Семеновны о том, как академик Деревянко осуществляет подбор и расстановку кадров.
Она в этом огромном травматологическом центре, может быть, единственный пожилой врач, все остальные моложе. Олимпиада Семеновна начала работу со Светилом сразу после войны, и с тех пор он ее всюду забирал с собой. Валентина Павловича она помнит еще студентом. Затем молодым врачом – скромным, тихим, безотказным. Человеком, который дежурил за всех, работал за всех. Никогда у него не хватало времени на себя. Даже на диссертацию. Он защитил ее недавно. И вдруг после этой защиты академик Деревянко объявил, что назначает Валентина Павловича заведующим «молодым» отделением больницы. В травматологическом центре академика Деревянко отделения построены по иному принципу, чем в других больницах, – здесь есть «молодое» отделение, «среднее» и «пожилое». При распределении больных учитывается, прежде всего, способность организма больных к регенерации, к восстановлению.
Валентин Павлович очень испугался, сказал, что не справится, что он не умеет разговаривать с детьми, руководить персоналом.
– Ничего, научитесь, – решил академик Деревянко и на этом закончил разговор.
И тут открылась интересная штука. У Валентина Павловича, оказывается, была своя теория. Он говорил, что в древности учителями считались только такие люди, которые по своему уму, знаниям, умению в тысячу раз превосходили учеников. Поэтому в древней Греции со всех концов приезжали ученики к Сократу, а потом к Платону. Таким же образом стремились ученики к Канту или к Гегелю, к Пирогову или к Менделееву. Это лишь в наше время почему-то считается: достаточно человеку иметь профессорское звание, и он уже может научить кого угодно и чему угодно.
Валентин Павлович еще школьником вымечтал и выбрал себе учителя. Вот почему он из Ленинграда приехал в Киев и поступил тут в медицинский институт. Чтоб учиться у академика Деревянко.
И теперь, после нового назначения, Валентин Павлович сразу же отправился в цирк, в дирекцию, чтобы выяснить там, кто теперь считается лучшим в стране фокусником. Ему ответили: Маркарьян, которому Всемирное общество магов и волшебников присудило звание первого мага и большую золотую медаль.
Валентин Павлович поехал в Москву, где Маркарьян выступал в это время, пришел к артисту и сказал, что хочет учиться у него фокусам.
Маркарьян очень удивился.
– Кто вы такой?
– Кандидат медицинских наук. Заведующий отделением травматологического центра в Киеве.
– Так для чего же вам фокусы?
Валентин Павлович рассказал, что он не женат, что у него нет своих детей, и с чужими он, возможно, поэтому не умеет обращаться. Но в его отделении детей много. Их сюда привозят с тяжелыми травмами, в состоянии шока. И физического, и психического. Разговорить их, заставить улыбнуться трудно даже людям, которые половчее, чем Валентин Павлович, умеют обращаться с детьми. Вот он и будет показывать детям фокусы. Скажем, вытащит из докторского своего колпака белого кролика.
– Но выступать в цирке или на эстраде вы не станете? – спросил осторожный Маркарьян.
– Ни в коем случае, – заверил его Валентин Павлович.
– Тогда у меня от вас не будет никаких секретов. Я вас научу всему, что сам знаю. Но учтите, это дело требует большого терпения, постоянной тренировки, разработки пальцев. Мы, фокусники-престидижитаторы, почти не пользуемся механическими и электронными приспособлениями или цирковыми машинами. У нас все построено на ловкости рук.
Валентин Павлович сказал в ответ, что он видел пьесу, где главный герой, хирург, играет на скрипке, чтобы тренировать пальцы. А фокусы, наверное, даже лучшая тренировка.
Еще в Сочи я знала, что Валентин Павлович умеет исполнять загадочные цирковые номера, но мне тогда и в голову не могло прийти, что фокусы его предназначены для такой возвышенной и благородной медицинской цели.
И еще в моей летописи обязательно будет о том, как Светило, как академик Деревянко побывал недавно в Лондоне и познакомился там с писателем Корниловым. Об этом мне рассказал сам Павел Романович.
В Лондоне было заседание Международной ассоциации травматологов и ортопедов. Академик Деревянко – действительный член этой ассоциации взял с собой в Лондон и Валентина Павловича. Но когда в чужую страну приезжают хирурги как выразился писатель Корнилов, ранга академика Деревянко, а таких людей во всем мире можно пересчитать по пальцам одной руки, им предлагают сделать операцию. Это считается почетно. Это вроде такой ритуал. Отказываться не принято. Как в тех случаях, когда встречают политических деятелей, и по аэродрому проходит маршем почетный караул.
В больницу привезли человека, англичанина, совсем расчлененного на части в авиационной катастрофе. Самолет взорвался при взлете. От бомбы. Ее везли экстремисты, только не для того, чтобы взорвать этот самолет, а для чего-то другого.
Операция продолжалась очень долго. Несколько часов. И всю операцию с учебной целью сняли на пленку. Затем часть этой пленки, такие сцены, где все выглядит не так уж страшно, где не видно, как хирург режет и сшивает мышцы и сосуды, а больше видно его мудрое лицо или красивые руки, показали в телевизионной программе.
Известный английский ученый, хирург, которого, возможно, в Англии тоже все называют Светилом, хотя при официальном обращении перед его именем обязательно добавляют слово «сэр», сэр Огест выступил с комментариями.
Он сказал, что в операции академика Деревянко, которую сейчас наблюдали зрители, не было ничего особенно нового, что такой методикой владеет любой высококвалифицированный хирург в любом цивилизованном государстве.
– Но вместе с тем, – сказал сэр Огест, – нет в мире и едва ли когда-нибудь будет хирург, который сумел бы повторить то, что на наших глазах сейчас сделал академик Деревянко. Много скрипачей исполняют «Крейцерову сонату» Бетховена. Ноты у них одни и те же, скрипки одинаковой конструкции, и темп вполне определенный – нельзя играть «Крейцерову сонату» в таком, скажем, темпе, как джигу. Но вот исполнить это произведение так, как его исполняет гениальный Иегуди Менухин, кроме него, не может никто и, вероятно, не сможет никто. Точно так обстоит дело с операцией, которую мы сейчас видели.
Телевизионный комментатор перебил ученого вполне уместным, по-моему, вопросом, остался ли жив человек, подвергшийся такой замечательной операции.
Сэр Огест ответил, что человек этот не только остался жив, но, как он совершенно уверен, сможет двигаться, работать, радоваться жизни. Затем немного подумал и честно добавил, что все-таки, если бы даже человек этот погиб вследствие собственных несовершенств, скажем, в результате перенесенного прежде инфаркта или инсульта, а так иногда бывает, то и в таком случае студенты-медики еще долгие годы изучали бы снятую пленку и любовались мастерством академика Деревянко.
Затем комментатор телевидения провел интервью с академиком Деревянко. Он спросил, доволен ли академик операцией.
– Нет, – лаконично ответил Светило.
– Почему?
– Я собираюсь возвращаться домой на самолете. И, посмотрев вашу передачу, невольно подумываю о том, что мне очень не хочется, чтоб со мной делали то, что я на ваших глазах делал с вашим соотечественником.
Писатель Корнилов рассказывал, что после этой телевизионной передачи имя академика Деревянко замелькало в газетах и журналах, даже очень далеких от медицины, его приглашали на дипломатические приемы, его узнавали на улицах.
– Но, – улыбнулся своей чуть суровой улыбкой Павел Романович, – когда древние римляне чествовали какого-нибудь полководца или политического деятеля, возле него обыкновенно находился раб, который без умолку твердил: «Не забывай, что ты всего лишь человек!» Я там состоял при академике Деревянко в роли этого раба.
Однако о том, почему и как академик Деревянко разыскал писателя Корнилова в Лондоне, почему он поспешил с ним познакомиться, Павел Романович ничего не знает.
Я могла бы сама рассказать ему об этом, но понимаю, что так нельзя. Все это стало мне известно от Валентина Павловича, который не только был вместе со Светилом на заседании международной ассоциации, но даже ассистировал ему при этой знаменитой, записанной на пленку хирургической операции.
Где бы академик Деревянко и Валентин Павлович ни появлялись – на приеме, устроенном в их честь ассоциацией травматологов и ортопедов, в Королевском хирургическом обществе, что там, в Англии, обозначает примерно то же, что у нас Академия медицинских наук, при частных встречах, – их всегда спрашивали, знакомы ли они с писателем Корниловым и виделись ли они с ним в Лондоне.
Академика Деревянко, вначале отвечавшего, что он лично с Корниловым не знаком, но знает некоторые из его книг, в конце концов, эти вопросы начали раздражать.
– Почему тут у вас в Лондоне я только и слышу о Корнилове? – спросил он в ответ. – У нас есть писатели и позначительнее Корнилова.
– Ну конечно, – вежливо согласились с ним. – И у вас и у нас имеется немало прославленных писателей. Но, насколько нам известно, ни у вас, ни у нас нет другого такого доброго, такого искреннего и такого бесхитростного человека.
После этого академик Деревянко не только разыскал писателя Корнилова, но и посетил его лекцию, вернулся и сказал Валентину Павловичу, что у него, у Светила, с писателем Корниловым совершенно одинаковые характеры.
– Очевидно, – припрятав улыбку, заметил Валентин Павлович, – академик Деревянко считает себя тоже добрым, искренним и бесхитростным.
«А почему, собственно, писателю можно быть добрым, искренним и бесхитростным, а хирургу – нельзя?» – подумала я и спросила об этом у Олимпиады Семеновны.
– Хирургу – можно, – ответила Олимпиада Семеновна, – но вот руководителю клиники, особенно травматологического центра, никак нельзя. Иначе у людей, перенесших операции, начнутся заболевания, вызванные инфекцией, – остеомиелит и даже сепсис.
Этим Олимпиада Семеновна и ограничилась. Ее вызвали в соседнюю палату.
Глава семнадцатая
Вот они и встретились, артистка Валя Костенко и Валентин Павлович. И навестили меня. Валя была в красном платье из особой шерсти, похожей на толстый крепдешин, шершавой и немнущейся. Платье выглядывало из-под белого свеженького халата, и сидел этот халат на Вале так, словно был специально для нее сшит и составлял один комплект с этим мягким шершавым платьем, и с Валиными черными блестящими туфельками, и с ее черной блестящей сумочкой, и с ее красивой прической, и милым, покрасневшим от волнения лицом. Я не удержалась:
– Где вы взяли такой красивый халат?
Валя смутилась и ответила чуть растерянно:
– Это мне внизу дали. В гардеробной. Как всем.
Всем таких халатов не дают. Халат этот, вероятно, ждал ее уже несколько дней. Наверное, его подобрал и приготовил для Вали сам Валентин Павлович.
Валентин Павлович все время улыбался не к месту и старался не смотреть на Валю, и говорил о том, что я молодец, что скоро они меня поставят на ноги, что я снова пойду в школу и буду кататься на коньках, хотя кататься на коньках я совсем не умею и вовсе не стремлюсь к этому.
И я поняла, что мне нужно быть очень активной, что все зависит от моей активности, что иначе они снова расстанутся, как тогда в Сочи. Они просто не умеют сказать друг другу то, что им так хочется и так нужно сказать. Ну, самую простую и обыкновенную вещь. Валентину Павловичу, я убеждена, очень хотелось спросить, какой у Вали номер телефона. И можно ли ему, Валентину Павловичу, время от времени звонить ей. А Вале вообще, наверное, не следовало хитрить, нужно было просто спросить:
– Когда я снова увижусь с вами?
Но они оба не могли и не умели об этом поговорить.
Поэтому я очень быстро и очень горячо стала рассказывать Вале, что детям здесь в больнице все-таки скучно, что они лишены культурных развлечений, что было бы хорошо, если бы Валя в свободное от репетиций и спектаклей время приходила сюда в больницу, посещала палаты и читала бы детям литературно-художественные произведения которые входят в школьную программу, а если ей захочется, то можно и такие, которые в программу не входят, для ходячих можно и в холле.
Валентин Павлович вдруг вообразил себя страшным хитрецом и тоже стал говорить, что мне пришла в голову правильная идея, что это просто Валин долг, что если Вале это нужно, то администрация больницы может договориться с администрацией театра о том, чтобы ей для этой благородной цели выделяли специальное время.
Тут, я думаю, он уже намного переборщил. Цель у него, конечно, тоже была благородная: снова увидеться с Валей. Но стоило ли для этого обращаться к двум администрациям? Очевидно, это же почувствовала и Валя, потому что сказала, что администрация ей не указ, что она сама будет приходить. Что ей это даже полезно, потому что она сейчас готовит роль Тома Сойера и будет читать ребятам эту книжку.
Как живет Валя, что она делает на работе и дома, я себе представляла. По ее же рассказам в Сочи. Я себе даже представляла ее однокомнатную квартиру в хорошем районе, на Печерске, против сада, нишу-спальную, которая отделяется от основной комнаты занавеской из алюминированной ткани, и синий ковер без ворса. Очень красивый. Похожий на покрашенный в синее мешок.
А вот как живет Валентин Павлович, я себе совершенно не представляла. Поэтому я стала выдумывать.
Ну вот, почему он, например, не имеет собственных детей и вообще не женат? Наверное, потому, что жениться у него не было времени. Ведь не может, наверное, мужчина, даже если он очень мужественный человек, подойти к какой-нибудь женщине и сказать: будьте моей женой. Она все равно откажется. Сначала нужно, чтобы они хорошо узнали и полюбили друг друга, чтоб они не могли друг без друга, как мой папа и моя мама.
И еще мне кажется, что я понимаю, почему у него нет собственных детей. Всю свою душу и все свое сердце он отдает чужим детям. При таком характере, где бы он взял их для собственных.
Но зато Валентин Павлович, по-моему, достиг самого большого, чего может достичь человек на земле: у детей, у чужих детей с переломами и травмами только при взгляде на него светлеют лица и блестят глаза.
Хорошо бы поставить кинофильм о Валентине Павловиче. Даже не о нем конкретно, а о таком человеке, как он.
Выходит обыкновенный человек утром из дому. А на улице весна, солнце, из каштановых почек вылазят тоненькие бледные ручки – будущие каштановые листья. И на тротуаре от человека тень, длинная и худая, утренняя.
Спешит человек по улице, но сворачивает в гастроном, в кондитерский отдел, хочет купить торт или коробку конфет. Он решился, наконец, вечером пойти в гости к женщине, которая ему очень нравится.
Но в кондитерском отделе очередь. И тень тянет его за руку из гастронома. Вышел человек за своей тенью на улицу, пошел дальше. Свернул на почту, хотел послать поздравительную телеграмму. В другой город. Скажем, в Ленинград. Мама – именинница. Но к окну, где принимают телеграммы, тоже очередь. И снова тень вытащила человека на улицу.
Приблизился человек к троллейбусной остановке и увидел: впереди идет та самая милая и приятная женщина, к которой он собирался вечером в гости. Человек посмотрел на часы и остался на троллейбусной остановке, не стал догонять женщину, окликать ее.
Только тень вдруг оторвалась от человека, побежала по тротуару, подхватила женщину под руку, наклонилась к ней и стала ей что-то весело рассказывать.
А человек вздохнул ей вслед и сел в троллейбус. У окна. И увидел, что его тень с этой хорошенькой женщиной сидит на скамейке, за которой голые еще тополя, и весело разговаривает.
Но тут к человеку подошла строгая, неприветливая и громкоголосая тетя-контролер и спросила: «Ваш билет». Человек стал рыться во всех карманах и объяснять, что ему кажется, будто он брал билет, вернее, не билет, а талончик он пробил компостером, но, может быть, он и ошибается, может быть, ему это только показалось.
Неприветливая контролер стала кричать, что стыдно ездить зайцем, экономить деньги за счет государства, и все в троллейбусе смотрели на человека неодобрительно и тоже говорили, что это некрасиво и что это даже неправдоподобно, что вот они, например, всегда помнят, брали они билет или не брали.
Очень грубо эта тетя-контролер выговаривала человеку и взяла с него штраф. Вышел он из троллейбуса расстроенный, к нему вдруг присоединилась его тень и зашагала за ним быстро и деловито.
Вошел человек в какое-то здание, и тут все сразу переменилось. Только что это был ничем не примечательный человек среднего роста, а тут он в одно мгновение стал гигантом, титаном, к которому простирают руки обыкновенные люди с молящими глазами. И говорят они только одно слово: «Доктор…»
Но человек в ответ строю говорит: «Сделаю все, что смогу. Но я – не бог».
А затем операционная, стол, над ним колокол бестеневой лампы. Никаких теней. Просто человек трудится, работает. Мы даже не видим, что он делает, лучше этого не видеть, потому что смотреть на это, наверное, все-таки страшно. Мы только видим, как операционная сестра время от времени вытирает ему потный лоб марлевой операционной салфеткой.
И так продолжается много часов. В операционной на стене висят такие особые круглые часы, у них есть даже большая секундная стрелка, и можно в фильме с помощью этих часов показать, как долго трудится человек. Целый рабочий день или даже больше.
Потом человек переодевается в тот же самый серый костюм, в каком вы видели его вначале, и спускается в вестибюль. А там те же самые люди – взволнованные, измученные. Это родственники, друзья, сотрудники того, кому человек сделал операцию. И снова они говорят: «Доктор…»
«Будет жить», – просто отвечает человек, и тут нужна очень хорошая музыка. Самая лучшая в мире! Бетховен! И чтоб люди в вестибюле смотрели на этого человека с обожанием, со слезами благодарности на глазах.
Потом человек выходит на улицу. Он так устал, что еле плетется, а за ним устало и неохотно тащится его тень. Человек снова садится в троллейбус, где в это время дня много людей, и снова забывает пробить талончик компостером, но вдруг вспоминает об утреннем происшествии и торопится это сделать.
Затем он заходит на этот раз сначала на почту, потому что теперь все происходит в обратном порядке, но и сейчас на почте у окна телеграфа теснятся люди, и усталая тень с ее заплетающимися ногами снова вытаскивает человека на улицу. И в гастрономе очередь в кондитерский отдел.
И шагает человек вместе со своей тенью к дому, и никто из встречных даже не догадывается, какая музыка только что играла в его честь.
Вечером пришел писатель Корнилов. Я ему очень обрадовалась. По-моему, только он всерьез относится к тому, что я делаю. А остальные… даже папа… как бы это сказать… Ну, ждут от меня большего. Павел Романович расспрашивал о том, что я пишу и что бы мне хотелось написать, и я рассказала об этом моем замысле, о киносценарии.
– Я в кино не понимаю, – беспомощно и несколько удивленно сказал писатель. – Сам я не написал ни одного сценария и удивляюсь этой способности в других людях. Я просто восхищаюсь кино. Мне достаточно, если на экране люди двигаются, разговаривают, ведут себя, как в жизни. Мне это всегда интересно, и поэтому я, наверно, не очень умею отличить хороший кинофильм от плохого. Таким образом, мое мнение не может иметь большой цены. Но мне твой киносценарий понравился. Однако следовало бы поговорить об этом с настоящим киносценаристом, а еще лучше – с режиссером.
Мы еще долго разговаривали, Павел Романович рассказал мне и нашим девочкам о своем новом замысле. Он сейчас пишет как бы новые «Три мушкетера». Д’Артаньян у него приезжает из Гаскони в Париж на обшарпанной, потрепанной автомашине, а не на старом коне странной масти, и, в конце концов, эту машину прокурорша пытается подарить Портосу. Было в его рассказе много смешных деталей из жизни современной Франции. Книга эта, как мне кажется, будет очерком о настоящей Франции, но для занимательности она как бы пародирует «Три мушкетера».
Минуло несколько дней. Я не сомневалась, что Павел Романович, конечно, забыл о моей выдумке. Про хирурга. И про его тень. Но вдруг Олимпиада Семеновна привела к нам в палату лысоватого, едва прихрамывающего дяденьку, показала ему на меня и сказала:
– Вот Оля Алексеева.
– Александр Сельский, – назвал себя дяденька. – Кинорежиссер. Давайте свой сценарий. Писатель Корнилов очень его хвалил.
Я ужасно испугалась.
– У меня нет сценария.
– Тогда либретто. Или заявку. Что там у вас?!!
Он протянул руку так, словно я могла взять в тумбочке и отдать ему либретто или заявку, хотя я и не знаю толком, что это такое. Я никогда не видела ни либретто, ни заявки.
– У меня их тоже нет.
– Есть у вас еще одна Алексеева, девочка, которая сочиняет сценарии? – чуть раздраженно спросил кинорежиссер у Олимпиады Семеновны.
– Нет.
– Ничего не понимаю. Вы писателю Корнилову читали сценарий?
– Нет. Я только рассказывала, что можно было бы поставить такой фильм. Про хирурга. Про настоящего, про живого человека.
– Документальный? – с сомнением спросил Александр Сельский. – Тогда вам следует обратиться на другую студию. Я документальных фильмов не снимаю.
Сказал он это так, словно сама мысль о документальном фильме показалась ему оскорбительной.
Режиссер ушел.
«Язык твой – враг твой», – не раз говорила мне Елизавета Карловна, чуть изменив известную пословицу.
Я до слез покраснела, когда представила себе, во что могла вылиться эта история со сценарием фильма. Документального. Про Валентина Павловича. С каким негодованием и обидой отверг бы эту мою выдумку сам Валентин Павлович.
Нет, писателю Корнилову нельзя просто так рассказывать то, что тебе пришло в голову. Беседа с ним – дело ответственное.







