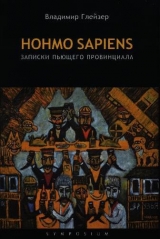
Текст книги "Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала"
Автор книги: Владимир Глейзер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 21 страниц)
КОМЭСК СОРОКИН
Заместитель секретаря партийного комитета Саратовского университета Юрий Иванович Денисов был настоящим русским барином – русоволосым, толстомордым и добродушным алкоголиком. Барином он был наследственным по отцовской линии: папаша до самой своей смерти от пьянства служил партии и народу в должности первого секретаря горкома. В доме делами партячейки общества управляла мама Юрия Ивановича, добрая женщина, барыня по мужу, а не призванию. Юрий Иванович был баловнем судьбы, но во лбу его не насчитывалось семи пядей; он знал об этом и, надувая щеки на публике, с друзьями был самим собой – открытым и безудержным пьяницей. В партком он попал не случайно – руководство университета просто не нашло столь хорошему человеку такого происхождения и с совершенно лишним дипломом общего физика другого достойного места.
Но генетическая номенклатурность давала о себе знать и в застолье: предупреждая треволнения маменьки от задержки «на работе» (а пьянствовали, как правило, в самом безопасном месте – в парткоме), он всегда звонил ей по телефону:
– Мама, Юрий Иванович беспокоит. Не волнуйтесь. Я на работе!
Примерно четыре звонка до двух часов ночи. Маменька не удивлялась – при Сталине папенька «работал» до шести утра.
Юрий Иванович любил себя, друзей и народ с молодости, когда у него была полуторная бобровая шуба, а многочисленные дворники с рассвета убирали снег с тротуаров в огромные придорожные сугробы. Причем за зиму стены этих пешеходных траншей достигали двухметровой высоты. Пьяненький юноша Юрий Иванович, входя под утро в зону действия знакомых дворников, распахивал жаркую шубу, ложился в белоснежный сугроб и тонким отчетливым голосом взывал:
– Люди, отнесите меня домой. Маменька заплатит!
И несли! Взявшись вчетвером за углы шубы. И получали свой целковый!
Я был примерно на шесть-семь лет моложе Юрия Ивановича, но знал его еще по школе, а как выяснилось впоследствии, в русском пьянстве не было и нет возрастной дискриминации. Познакомился близко я с Юрием Ивановичем по его второй, смежной с пьянством, специальности – партийной работе.
История нашего знакомства такова.
Я рос в замечательной семье «советских технических интеллигентов», которые были слугами народа и жили как слуги, соответственно категории, в заводской коммунальной квартире. Москвичи, эвакуированные в Саратов в начале войны, родители двадцать лет сидели на чемоданах в двух комнатах с пронумерованной управдомом Ван Ванычем мебелью и, как три сестры, мечтали о столице. Где, между прочим, за ними сохранялась «забронированная служебная жилплощадь» в виде пятнадцатиметровой комнаты на Автозаводской. Отец, как бы сейчас сказали, крупный хозяйственник, был замдиректора по науке и производству большого оборонного завода и, как и сам директор, бодро и с огоньком воплощал и перевоплощал все идиотские решения любимой партии и родного правительства.
В результате должность потерял, перевоплотился в другую, с нее был снят, из партии исключен, а комнату в Москве «разбронировали» (то есть отобрали). Но в этой пиковой ситуации, как ни странно, был награжден приглашением в крупный подмосковный НИИ главным конструктором (кем он и был от Бога) с предоставлением жилплощади в виде отдельной трехкомнатной квартиры площадью тридцать шесть квадратных метров в лесном поселке Лоза.
Если вы думаете, что название происходит от некоего неизвестного вам вида лесного винограда, то вы заблуждаетесь. «Лоза» – это аббревиатура: «лаборатория опытного завода». Туда родители и уехали с семьей моего старшего брата.
Мне было двадцать лет, я был студентом третьего курса, уже достаточно подышал хрущевской оттепелью под капель собственной молодости, и шанс пожить без родителей, да что там в коммуналке – в общежитии! – я не упустил.
Однако в деле было одно отягощающее обстоятельство – няня Саня.
Няня Саня Перфилова – горбатая мордовская девушка шестидесяти лет от роду – почти три десятилетия добросовестно служила в нашей семье домработницей. Жила она все эти годы у нас, другого жилья у нее никогда не было, и в условиях проживания в двух комнатах папы с мамой, меня, брата с женой и ребенком в квартире с соседями ей всегда находилось место равноправного члена семьи.
Правда, в некоторых вопросах она была даже чуть-чуть равноправней – дети ее видели намного чаще родителей, и мама ревновала. Обиды, однако, всегда кончались одинаково. Мама делала из нижней губы сковородник и горько говорила: «Шура, если на вашем месте была бы другая женщина, то ее бы уже не было!»
Так вот, няню Саню в Лозе НЕ ПРОПИСЫВАЛИ!
Прописка! В нашем милицейском государстве она до сих пор заменяет всенародную дактилоскопию. Когда горячо любимой советской властью я был на всякий случай препровожден в места не столь отдаленные в виде тюремного изолятора, я осознал всю унизительность этой процедуры. Дело в том, что родимые остроги являются точной математической моделью всей советской системы, где вещи называют своими именами. И битье оловянными ложками голой жопы новоприбывшего молодого по возрасту арестанта называется – «прописка»!
Что делать? Вслед за великими предтечами Николаем Гавриловичем и Владимиром Ильичом я задавался этим сакраментальным вопросом и не нашел ничего умнее, как подать в районный суд гражданский иск на секретный оборонный завод о нарушении конституционного права на жилище.
Тираны мира, трепещите, а ты, Европейский суд по правам человека, молчи в тряпочку! Я подмял под себя этот районный ареопаг!
Ну-ну, многочлены Хельсинкской группы, утрите слезы умиления и не ходите сдаваться в ГБ. Через неделю суд областной отменил благородное определение первой инстанции, исходя из тех же весомых аргументов.
Но тут явился карающий меч в образе ржавой шашки комэска Сорокина!
Зайдя однажды в разоряемый секретным заводом отчий дом, я застал картиночку, достойную пера! За обеденным столом, застеленным белоснежной парадной скатертью, перед бутылью портвейна «Кавказ» под закусочку сидел малюсенький дряхлый орел в слинявшей до дыр гимнастерке с орденом Красного Знамени на птичьей груди. Он непрерывно верещал на каком-то каркающем (впоследствии оказавшемся командирским) языке, а непьющая старая девушка, зардевшись от счастья, влюбленно глядела в его пуговичные глаза!
Это был комэск Сорокин!
Уроженец села Стемас Симбирской губернии Ваня Сорокин, деревенский шалопай, сбежал от надвигающейся вместе с пузом невесты женитьбы в скакавшую мимо Чапаевскую дивизию, где сделал головокружительную карьеру. Когда легендарный комдив нырнул в бессмертные анекдоты, Ваня уже командовал эскадроном (то есть был комэском) и состоял кандидатом в члены Российской Коммунистической партии (большевиков). Правда, это был пик Коммунизма его равнинного социального статуса.
Нынче поутру боевой пенсионер встретил на рынке свою горбатенькую землячку Шурку, узнал ее, был узнан взаимно, что не удивительно – я никогда не встречал (кроме как на картинках к сказкам Андерсена) такого игрушечного солдатика.
Не упустив возможности прильнуть к бьющему ключом первоисточнику идиотизма истории Родины, я сбегал еще за двумя «огнетушителями». Через час мы были с комэском старыми боевыми друзьями.
Конечно, няня Саня уже поведала Ванечке все свои несчастья, и комэск, не выбирая выражений, честил троцкистов, продавших интересы простого народа за американские портки джинсы. Я поддержал боевого друга и предложил кровью написать письмо лично наркому юстиции Крыленке (правда, уже покойному), но так же, как и я, боевому другу комэска. В абстрактном гуманистическом порыве я заменил чернила революции на красную тушь. Чушь, надиктованную мною, комэск подписал четырехзначным номером своего партбилета, и я тотчас отправил эту белиберду заказным письмом в Верховный суд СССР.
Пока я, как живого оловянного солдатика, водил комэска по местам своей боевой славы – многочисленным пивным и рюмочным, – революционная целесообразность вновь победила правосудие, и мы получили ответ на наш кровный донос. В общем, законное решение облсуда было отменено, а оборонному заводу было окончательно и бесповоротно приказано предоставить жилплощадь по норме со всеми удобствами «заслуженному ветерану партии (?!) и труда рабочей Перфиловой Александре Степановне».
Так комэском Сорокиным был нанесен предпоследний решительный удар по всем фомам, не верующим в направляющую и руководящую роль Коммунистической партии большевиков!
Для нанесения последнего удара комэск замахнулся на святое.
– Володька, – прокаркал он мне, сидя за портвейном с селедочкой на новоселье у заслуженного ветерана няни Сани, – а чего тебе в партию не податься?
– Ты что, ополоумел, дядя Ваня? Во-первых, меня туда никто не возьмет, а во-вторых, ты же сам говоришь, что там одни говнюки и приспособленцы.
– Троцкистско-зиновьевская банда двурушников, – уточнил дядя Ваня. – Тылы их надо громить, тылы и штабы! Вот ты и пойдешь в самый гадюшник по моему личному заданию в разведку боем как проверенный беспартийный товарищ. Я тебе такую рекомендацию дам, что эти бухаринцы и рыковцы перед тобой в струнку вытянутся!
Уникальная перспектива вытягивания передо мной в струнку партайгеноссенов захватила меня не на шутку. Ведь дядя Ваня не озоровал – рекомендация старого большевика приравнивалась в этом партдурдоме к рекомендации обкома партии! Вот с этой самой индульгенцией я и явился на прием к камераду Юрию Ивановичу.
Комэск в защитной гимнастерке в это время окончательно сводил с ума в предбаннике уже с первой минуты потерявшую рассудок секретаршу, на деле просто прикрывая плановый прорыв авангарда.
Я изложил свой ультиматум по незамедлительному членству в КПСС с предельной четкостью, держа в вытянутой руке сорокинский мандат, как Ленин – кепчонку.
Погрязший в трехмерном пространстве «ум, честь и совесть нашей эпохи» партийный физик явно недооценил четвертую координату комэска и, исходя из аксиомы, что я – известный баламут, покрутил пальцем у виска и выслал меня на три буквы. Я повторил свои требования громко, так, чтобы услышал в засаде комэск.
И он ворвался! Для полной иллюзии победной кавалерийской атаки не хватало только вороного коня. Что творил дядя Ваня, описать в рамках нормативной лексики невозможно. Это была фанфарная музыка боя!
Забитый холодным оружием матерного слова партийный интеллигент Юрий Иванович стал терять сознание прямо на рабочем месте. Одной рукой легко удерживая маленького комэска, другой я вытащил из-за пазухи бутылку водки и истошно возопил:
– Юра! – Я первый и последний раз назвал Юрия Ивановича забытым именем его детства. – Юрий Иванович! Это шутка! Я не хочу в партию! Я просто хотел тебя познакомить с настоящим, живым героем Гражданской войны! И выпить за перекличку поколений!
Дальше все было хорошо. А потом все герои повествования, кроме меня, умерли. Комэск Сорокин и няня Саня от старости и болезней, а Юрий Иванович – в расцвете лет. Его ослабленное алкоголем большое и доброе сердце разорвалось утром, когда он, как обычно, достал из потаенного места заначенную чекушку, трясущейся рукой перелил содержимое в стакан, залпом выпил… и упал замертво.
Любящая супруга, спасая Юрия Ивановича от беспробудного пьянства, без оповещения потребителя вылила из бутылочки водку и наполнила ее чистой водой!
Привычный мир разорвался, и трещина прошла через его сердце. К переменам Юрий Иванович не был готов.
БЫЛИ СБОРЫ НЕДОЛГИ
Военная кафедра университета шесть семестров готовила из студентов – математиков и физиков – офицеров радиолокационных средств разведки наземной артиллерии. Большей профанацией я занимался, только читая пятисеместровый курс высшей математики в Энгельсском филиале Политехнического института. Клянусь Царь-пушкой, что кроме причитания «конденсатор Ц-1 заряжается, а конденсатор Ц-2 разряжается», я не усвоил за три года обучения ничего. Подозреваю, что отличники боевой и политической подготовки из моих коллег знали, что в электрической цепи происходит и с конденсатором Ц-3, но я, хоть и окончил вуз с «красным» дипломом, до таких безымянных высот наземной разведки артиллерии не доходил.
Государственному экзамену по этой трухе предшествовали месячные выездные сборы. Наш курс поехал осваивать дагестанские горы и ущелья в царских еще казармах города Буйнакска. Партийные тупонимисты, переименовавшие в эту чертовщину экзотичную Темир-Хан-Шуру, не предполагали, что веселые студенты прежде всего отправят письма с фронта мамам, указав обратный адрес: Дагестанская АССР, г. Хуйнакск, до востребования. И мамы писали по этому адресу. И мы получали их письма, телеграммы и даже почтовые денежные переводы!
Казармы действительно были царские не только по происхождению, но и по комфорту. На двухъярусных железных шконках было прохладно при сорокаградусной жаре снаружи за счет полутораметровой толщины каменных стен, непробиваемых для пушек имама Шамиля. И так хотелось в них укрыться от положенной по программе шагистики на раскаленном плацу, что мы и укрывались.
Дело это носило индивидуальный характер, связанный со степенью наглости дезертира. Болезни, не известные полковому фельдшеру Аббасу, так и косили «курсантов». Я лично страдал «деформирующим спондилезом четвертого позвонка» и страшно боялся, как бы разрушающее весь мой молодой организм заболевание не проникло в пока еще здоровый пятый. Аббас небескорыстно делал мне ежедневный массаж, норовя слегка полапать крепкую белую задницу. Я бесстыдно соглашался на это однополое извращение, будучи уверен, что за месяц не обращу легкую привычку в тяжкий порок.
Многие добровольно шли на понос, достичь которого способствовало местное арычное водоснабжение. Гарантию давал всего один стакан некипяченой воды из крана. Для некоторых городских неженок упражнение закончилось настоящей дизентерией, но объявлять эпидемию полковые начальники не стали, изолировав десяток дристунов в карантинной брезентовой палатке, где зной и духота высушивали опасную инфекцию за сорок восемь часов.
Досуг нам скрашивали два наших ровесника срочной службы – завкаптеркой старшина Иоэль Рыбкин и и. о. командира взвода старший сержант Олег Гончаров. Отпетыми уголовниками были оба. Первый крал со склада простыни, разрезал их на полоски нужной ширины и продавал личному составу на подворотнички одноразового пользования: тридцать жарких дней умножить на сто пятьдесят потных рыл, умножить на двадцать копеек равняется девяноста целковым, что полностью совпадало с зарплатой школьного учителя химии И. Рывкина на гражданке без подоходного налога. Вдобавок старшина приторговывал из-под полы спиртными напитками – курсантам за наличные, господам офицерам – в долг. А как известно, долг платежом красен! Рывкин порхал над законом и уставом гарнизонной службы, как птица Гамаюн.
Сержант Гончаров рисковал свободой: он в открытую торговал анашой местного изготовления. Цена была более чем доступной – тридцать копеек «баш». Это ровно такое количество зеленой травки, чтобы набить полноценный «косяк» в гильзу беломорины. Так как подкуривали косяк коллективно три-четыре курсанта, то этот вид восточного досуга был весьма распространен. Специфическая сладкая вонь стояла в казарме как в китайском опиумном притоне, и беспощадному проветриванию по указанию старших офицеров не поддавалась. Тем более, что сами они гашиш частенько курили, когда им было нечем опохмелиться.
Нарядили нас в полуистлевшие солдатские гимнастерки неясного происхождения с черными суконными погонами. Тщедушный и любознательный курсант Мартышев (очки – минус шесть диоптрий), изучая от безделья свою робу, обнаружил на спине ровно напротив сердца аккуратно заштопанную дырку. После чего небезосновательно предположил, что форма снята с убитого бойцами заградотряда СМЕРШ труса или паникера. Уже изучив повадки супостата Рывкина, каждый манекен проверил личное обмундирование – и что же? Версия происхождения униформы с раскопок безымянного солдатского кладбища на фоне заштопанных дыр и сытой рожи старшины казалась достоверной. Оттуда же были, по видимости, и гнилые ремни с ржавыми пряжками. Эти ремни лопались от физического напряжения в сортире при избавлении распухшего пуза от буйволятины с перловой кашей – нашего ежедневного обеда. Как известно, сапоги на Руси с покойников снимали, поэтому наша кирзуха, хоть и была стоптанной, оказалась сносной. Особенно в офицерских фланелевых портянках из подпольного рывкинского военторга.
И о буйволах как о еде. Вообще-то, всеядный Рыбкин, совмещавший к тому же ответственную должность начпищеблока, выдавал обеденное мясо за быкоговяжье. Действительно, если эту подошву из миски облизать или пожевать, вкус бифштекса на машинном масле можно было представить. Кусанию она не подлежала, поэтому для насыщения мы резали ее отточенными перочинными ножами на мелкие кусочки и, давясь, глотали без смазки. Эффект описан выше. На высококалорийную свинину, сетовал Рыбкин, не рассчитывайте – в полку полно мусульман, а партия уважает национальные особенности местных национальных большинств военнослужащих. Выгораживая партию, Рыбкин врал: по сходной цене просроченную хрюшечью тушенку в металлических банках он продавал в неограниченном количестве.
Я подружился с Рыбкиным как раз на национальных особенностях – Иоэль, как и я, был евреем, не скрывавшим очевидного происхождения. Чтобы быть таким евреем, вещал старшина, на гражданке надо быть Дантом, а в армии – интендантом. Или не быть евреем нигде. Должен сказать, что теория мне понравилась. Горские евреи, преподавал мне основы кавказской этнографии учитель химии, они ничем не отличаются от аварцев, даргинцев, лезгинов и лакцев, ходят с кинжалами, торгуют невестами, признают кровную месть, но обладают одной немусульманской особенностью – уважают «европейцев» (ашкеназских евреев) и даже выдают за них своих дочерей без калыма!
– Пойдем в город, – сказал Иоэль, – у меня там друг Мордехай Ханукаев, хороший парень, десять лет отсидел за убийство в драке, у него сестра на выданье, конечно уродка, но я тебя представлю как «европейского» жениха – погуляем на халяву!
Увольнительной в компании со столь значительным лицом не требовалось. Мы вышли из казармы на свободу. Через дорогу от КПП был подвальчик, куда мы спустились на минутку. В подвальчике аксакал торговал сухим вином (двадцать копеек чайник) под замечательной вывеской в стиле Пиросмани: усатый горец в черкеске и папахе грозил пальцем и говорил: «Бэз дэла нэ стоять!»
Мордехая по-уличному звали Апашка, был он росту метр с кепкой, но бугристо мышечен, из-под мохнатой шерсти на широкой груди, как из кустов чертополоха, проглядывали чеканные профили Ленина и Сталина с синей шестиконечной звездой посередине. Уродки-невесты, на жениховское счастье, в доме не оказалось, поэтому решено было смотаться на пляж. В город Махачкалу, за сорок километров серпантина от Хуйнакска. В сапогах, гимнастерке и пилотке без документов в недемилитаризованной зоне путешествовать было опасно. Иоэль держал у Апашки маркитантский схрон, из которого тотчас извлек новый трикотажный тренировочный костюм и сандалии. На меня там ничего подходящего не оказалось. Посему я к солдатским штанам с бечевками приодел сходившуюся на груди, но доходящую лишь до пупа Апашкину рубашку, а на голову от солнцепека прилепил маленькую бархатную тюбетейку с полочки в прихожей, оказавшуюся на самом деле ритуальной иудейской шапочкой – кипой. К шевелюре она крепилась стальной скрепкой. Обули меня в домашние тапки-шлепанцы «ни шагу назад» на босу ногу. Для местного городского пейзажа в этом наряде огородного пугала ничего необычного не было: жили бедно, одевались и похуже.
Через два часа пути на дребезжащем общественном тарантасе мы очутились на Каспийском побережье. Море смеялось. По пляжу бегали черномазые детишки, кучковались небритые джигиты в кепках-аэродромах и семейных трусах. По законам адата и шариата посетителей женского пола не было, кроме развеселой крашеной русской бабищи в мокром сером нижнем белье с кавалером моложе ее лет на двадцать. Увидев нас, точнее Иоэля, он обрадовался как манне небесной.
– Старшина, дай пятеру до завтра, а то, сам знаешь, поиздержался с Любашкой, вторые сутки гужу! – лучезарно обратился к Рывкину ловелас, не обращая на меня никакого внимания.
– Есть, товарищ гвардии капитан! – по-военному вытянулся интендант и вытащил из заднего кармана трико пятерку.
С воздушным поцелуем капитан Шимчук из нашего гарнизона, а это был именно он, побежал к одинокой пассии. Мы же, поплавав и позагорав, поели в чебуречной жирных пирожков без буйволятины, вдосталь попили дома у Апашки хорошего еврейского вина, принесенного женой Хавой из синагоги, где Апашкин тесть был старостой, переоделись и вернулись в казарму.
Капитан Шимчук узнал меня в лицо, но чуть позже.
Однажды вечером мы с курсантом Дядей-Вадей перелезли в намеченном месте через высокий царский каменный забор с невинной целью попить пивка и водочки в каком-нибудь шинке с закуской и привычно заправить набедренные солдатские фляжки из чайника напротив казармы. Вообще, из страха перед кишечной инфекцией воду мы не пили, а использовали оную лишь для обливания войлока этой самой фляжки, так что питьевое вино при нас всегда было в меру холодным. Возвращались затемно тем же путем: взобрались на стену – лепота! – безлунная южная ночь с нежным ветерком. Дядя-Вадя и говорит с выражением:
– Лучше нет красоты, чем поссать с высоты! – расстегивает ширинку и, дождавшись меня, в две струи окропляет внутренний дворик. Пива выпили много, процесс занял не меньше двух минут. Оправившись, оправились и спрыгнули вниз. Прямо в объятия обмишуренного от фуражки до сапог дежурного по части гвардии капитана Шимчука.
– Предъявите документы, – говорит и показывает кулачину влажный Шимчук, – щас на губу пойдем, зассыхи, за грубое нарушение устава!
И освещает нас фонариком.
– Это не тебя ли я в Махачкале с Рыбкиным в самоволке позавчера видел? – напрягает память гвардии капитан.
– Меня, меня, – радостно отвечаю я взаимностью, – вы тогда с Любашкой вторые сутки гудели.
Настоящий гвардеец всегда скор на ум и решителен в действиях.
– Не буду я вам на первый раз биографию портить, шпаки. Идите на хуй и знайте, что Петро Шимчук такой в части один!
Капитан оказался прав – кроме него, ни один курсант за месяц формального и неформального общения никого больше не обоссал.
Кульминацией сборов были практические стрельбы.
Колонна грузовиков вывезла поутру всю нашу бригаду «Ух» высоко в горы, на Машкин Пуп, где внизу, в долине, были установлены мишени. Батарея стадвадцатидвухмиллиметровых гаубиц находилась в другой долине, за горою сзади нас, и мы ее не видели. Мишенями же были плоские фанерные макеты танков. Они на тросе передвигались по монорельсу посредством электромотора с примитивным дистанционным управлением, который располагался в жестяной будке чуть справа.
Боевая задача сводилась к тому, что при помощи каких-то буссолей и астролябий мы определяли координаты цели, вычисляли упреждение ее движения, передавали все это по рации на батарею и просили огня. Пока кто-то из произвольно вызываемых офицером курсантов осуществлял радиолокационную разведку, остальные валялись на траве и, глядя в небо, наблюдали за полетом прямо над нами огромных снарядов-болванок, которые иногда даже сбивали раскрашенную под «королевскую пантеру» фанеру. Стояли визг и грохот, но все же это было какое-то развлечение в сравнении с казарменными буднями, тем более что наши фляжки уже с вечера были заправлены до упора, а на сухой паек Рыбкин выдал воблу.
Отличник боевой и поллитрической подготовки курсант Салтыков, до университета служивший именно в этом роде войск, взрослый по сравнению с нами мужик, как малое дитя клянчил у начальника стрельб от военной кафедры подполковника Антонова право на наводку:
– Антонов, дай бабахнуть, я тебе в Саратове бутылку поставлю, соскучился я по армейской службе! Дай, а!
Скуластый, прочерневший, как алкоголик, но абсолютно не пьющий Антонов, хорошо знавший Гошку Салтыкова по общему увлечению радиолюбительством, опешил:
– Коша, – Антонов не выговаривал звонких согласных, – ты чеко сатумал? Ничеко? Ну, ити к пуссоли, папахни салпом.
«Коша» пошел к «пуссоли», выдал по рации координаты, раздался «салп», и стадвадцатидвухмиллиметровая болванка прямым попаданием снесла ко всем ебеням будку с мотором!
Стрельбы, а с ними и наши сборы, окончились во славу русского оружия.








