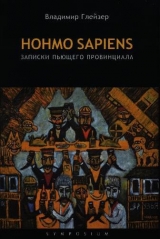
Текст книги "Hohmo sapiens. Записки пьющего провинциала"
Автор книги: Владимир Глейзер
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 21 страниц)
Нравы не менялись, но времена – да! Мои товарищи по бизнесу, в который я ушел окончательно, бесповоротно покончив с утопиями Песталоцци, просто купили мне у главврача на одного двухместный номер-палату с сортиром и разрешением курить и принимать гостей. Все они, тогда еще живые и дружные, навещали меня постоянно, таскали новую русскую экзотическую еду, подсовывали под подушку невиданные доселе водки, смеялись, дымили и галдели. Мне было хорошо, я шел на поправку.
Молодые, красивые, белые докторши Катя, Таня, Ира и их начальница доктор Солун, красавица из предыдущего поколения, убеждали меня вместе и по отдельности, что диабет – это не болезнь, а образ жизни. Так и называлась американская переводная книжка, ксерокопию которой мне подсунули красивые докторши. Книга была глупой и нудной и описывала в подробностях размеренную жизнь простого американского идиота-диабетика, образ которой заключался в ежесекундном подсчете сахара путем изучения своей мочи под микроскопом, подсчета калорий (от переизбытка которых он должен был отказываться путем сравнения взвешиванием принимаемой пищи и говна, ею образуемого). И колоть, и колоть инсулин, величайшее изобретение двадцатого века, спасшее человечество.
Я только было собрался выбросить глупую книжонку, как обратил внимание на отсутствие в ней нескольких страниц подряд. Книга была усечена в том самом месте, где как раз рассказывалось о спасении человечества. Что если бы не нобелевские лауреаты-изобретатели, все диабетики уже давно бы умерли, но… В этом месте повествование разрывалось. От нечего делать я задумался. Диабетом неспасенное человечество болело со времен неандертальцев. Так почему оно не дало дуба с баобабом миллион лет назад? Чем оно лечилось до инсулиновых мессий? Ответа в книге не было, и он в книге был! И какой! Доктор Катя после настойчивого глазкостроительства с моей стороны принесла с риском для карьеры выдранные листы. Умирали добропорядочные люди, а выживали… алкоголики!!!
Водка – вот чем обрело спасение не просвещенное лауреатами человечество!
Но в советской медицине она числилась ядом и стоила существенно дешевле дефицитного инсулина. Факт этот скрывался от состоятельных пациентов, так как докторши уже были аффилированы с западными инсулинопроизводящими фирмами и дилерствовали напропалую.
Так я узнал, какой образ жизни у диабетика, и болезнь мне понравилась. С тех пор я колю инсулин только из глубокого уважения к Нобелевскому комитету, а лечусь от сахарного диабета старинным проверенным способом: пьянством.
Подвергшись за долгое время приятного безделья в дамском заповеднике необходимым стандартным обследованиям, я оказался носителем еще двух анатомических излишеств, требующих оперативного выковыривания. Без доктора Боровского пришлось проделать это в чужом городе Москве с расчетом на кошелек, а не на знакомства. Москва не верила слезам, но цветущим зеленью банкнотам доверяла.
Рекламная пауза: ни Первая Советская с мрачными проплесневелыми казематами, ни девятая горбольница с прекрасными гейшами, ни даже сауны г. Саратова с интимным массажем ни в какое сравнение со столичным платным медицинским обслуживанием не шли. За баксы в столице были готовы пересадить все твои органы в новую кожу, сменив пол, национальность и художественный вкус!
Несколько лет назад, в туманно-альбионный декабрьский день (на улице плюс девять, в доме вовсю шпарит отопление) мы сидели на кухне питерской квартиры и квасили с хозяином – другом с пятидесятилетним стажем, бородатым и смешливым художником Сенечкой Белым. Жена художника Заяц беззлобно заливала постным маслом очередную порцию овощного салата. Зимняя жара уже раздела обоих пьянчуг до пояса, и в ожидании закуски мы любовались потными и немолодыми телами друг друга. Похабных, в хорошем смысле этого слова, чувств они не вызывали.
– Вовка, – задумчиво произнес ваятель, тыча перстом в мой некогда могучий торс, – тебя что, земляки-чапаевцы порубали?
Я аккуратно, чтобы напарника не начало тошнить вареной картошкой с помидорами, описал происхождение каждого из многочисленных шрамов, избороздивших натурщика. Бутылки на анамнез хватило.
Но тут совершенно случайно в дом ввалился Питер, сын художника и сам художник, только не местный, а лондонский. Английский верзила, сияя свежим питерским фонарем под глазом, забежал к фазер-мазер попрощаться после ночной попойки перед творческим путешествием из Лондона через Петербург в Москву и Тбилиси.
– Петя, – умиленный богемным видом веселого чилда, спросил фазер. – Ты узнаешь дядю Вову?
– Ноу, – на чистом языке своей новой родины сказал гуляка. – А что?
– Как же, как же, – запричитал Сенечка, – это же знаменитый дядя Вова Глейзер из Саратова!
Я начал, как индюк, раздувать сопли, рассчитывая на международную рекламу.
– А чем он знаменит, папа? – поинтересовался шестифутовый крошка-сын.
– Как чем? – обнимая мое потное зашрамленное тело, поразился отец Белому-эмигранту, окончательно потерявшему связь с родиной. – У дяди Вовы, Петя, внутри – НИЧЕГО НЕТ!
СКРИЖАЛЬ
Народный артист СССР Иосиф Кобзон, вне всякого сомнения, кандидат в депутаты Книги рекордов Гиннесса. Он помнит наизусть тысячу пятьсот песен со словами, три тысячи анекдотов и пять тысяч случаев из собственной жизни. В этом я убедился на праздновании юбилея народного артиста РСФСР Льва Горелика (саратовского Райкина, согласно провинциальным рецензиям недалекого прошлого), старого друга Иосифа и нового – моего. Причем такого, что именинник счел нужным ввести меня в ближний круг.
Круг этот состоял из вездесущего во языцех саратовского губернатора Аяцкова и равного ему по влиянию думского певца-патриота. Политические тяжеловесы вполне демократично приняли в объятия неожиданного собутыльника и бодро распили с ним разного спиртного под десяток тостов в честь юбиляра. Кобзон был душкой и побеждал в тестировании. Когда отношения приблизились к теплым, я перешел в атаку.
– Иосиф Давидович! – обратился я к новому другу. – А как насчет автографа?
– О чем речь, Владимир Вениаминович, давайте ручку.
Я тотчас вынул из кармана огромный фломастер, носимый мной для подобающих случаев, и, расстегнув пиджак, выпятил живот.
– Вот здесь, на рубашке, пожалуйста!
Для Кобзона сие предложение выпадало из запрограммированных пяти тысяч случаев из собственной жизни, и он неожиданно для себя растерялся.
– Не буду! – решительно сказал он.
– Почему? На моей рубашке, не на вашей.
– Не буду! Рубашку жалко, – нашел он аргумент.
– Да не беспокойтесь, Иосиф Давидович, я специально самую говенную надел!
– Охрана! Ко мне! – вмиг закончил спор певец под довольное чмоканье губернатора и сердечный приступ юбиляра.
Но вы не знаете великого Кобзона! (См. нач. повествования.) Как не знал и я.
Прошла пара лет. Я как деревенский деятель культуры по линии городской еврейской автономии был кооптирован делегатом на Российский еврейский конгресс. Иначе его называли просто: Конгресс Гусинского. Как монопольные «Чай Высоцкого» и «Сахар Бродского» до революции. В честь основателей и содержателей этих влиятельных организаций.
Приехал туда я вдвоем со старым другом по другой линии – азартным картежником и прожигателем состояний Мишелем Эпштейном. Выдающимся человеком несколько иных орбит постоянного вращения. Он дико озирался по сторонам и охал:
– Смотри-ка! Хазанов! О! Юлий Гусман, кавээнщик! А Юрий Щекочихин тоже еврей?
– Даже дворник Еремей потихонечку еврей! Евреи, евреи, кругом одни евреи, – пропел я на ухо другу частушку.
Вдруг балетным шагом с профессионально застывшей улыбкой на лице к нам подходит Кобзон и неожиданно для нас обоих говорит:
– Здравствуйте, Владимир Вениаминович! Очень рад вас видеть. А ведь я был неправ тогда, у Горелика. Как-то растерялся. Спасибо за шутку и урок. Есть возможность исправиться. Послезавтра свадьба моей дочери Натальи. Приходите с вашим другом. Вот вам кипы.
Вручает две белоснежные ритуальные шапочки вместе с текстом приглашения, жмет нам руки, откланивается и семенит дальше.
– Володичка! Ты что, Кобзона знаешь?
– Конечно, Мишель, я с ним знаешь, сколько водки выпил? – поддерживаю неожиданно возникший авторитет, не уточняя количества выпитого. – Теперь я пять тыщ первый случай из его жизни!
Мишель только пожал плечами.
Открытие мероприятия затягивалось. На глазах переполненного зала из президиума конгресса по-английски исчез главевреи Гусинский – явно встречать некую сверхзначительную персону. Мы с ополоумевшим Мишелем вышли из зала в фойе покурить. А может быть, и выпить. Этого добра в московском «Президент-отеле» хватало. Стоим в размышлении. Вдруг появляется стайка джентльменообразных. В центре депутации похохатывает в обнимку с медиамагнатом сам Черномырдин Виктор Степанович – премьер-министр и, как выясняется, жидомасон. Ну, думаю, Эпштейн, настал мой час!
– Замри, Мишель! – сквозь зубы шепчу земеле. – Сейчас нам обоим будет хорошо!
И походкой пеликана отчаливаю навстречу VIPaM, приветственно растопырив руки.
– Виктор Степаныч, дорогой, сколько лет, сколько зим!
Должен заметить, что мы с премьером не только почти ровесники, одеты прилично, но и пузами схожи. Происходит то, чего не могло не произойти. В. С. зеркально растопыривает свои руки, отрывается от протокольной и добровольной охраны, подходит ко мне с юношеским ускорением, прищуриваясь, быстро читает на моем бейдже ФИО и говорит замечательным баритоном (Помните – «Здравствуй, Басаев»?):
– Глейзер, Володька? А ты-то здесь какими судьбами?
– Укрепляю союз родного Оренбурга с родными эренбургами! – острю я.
– Да, где только не встретишь старого друга! – говорит счастливый премьер подошедшей свите. – Ладно, звони-заходи. У меня здесь всего полчаса. Договорились?
– Договорились, я тебе звякну! И расстаемся друзьями.
Сигарета вместе с фильтром тлела во рту остекленевшего Эпштейна.
– Володичка! Ты что, и Черномырдина знаешь?
– А кто его не знает, Мишель? Это он меня впервые видит!
Праздник нерушимой советско-еврейской дружбы продолжился на Поклонной горе, куда на автобусах-«мерседесах» с затемненными стеклами нас доставили от «Президент-отеля». Там торжественно открыли мемориальную синагогу в память жертвам Катастрофы. Событие – из ряда и вон выходящее.
Рассадили нас на свежем воздухе на разноцветные пластмассовые стульчики из-под Батуриной перед столом президиума под голубыми полотнищами с Давидовым шестиконечником за спинами сидящих и выступающих. Они состояли из всех наших: магната Гусинского, сидельца Щаранского, Кобзона в парике, Лужкова в кепке, Ельцина пока еще в форме, американского посла, взвода раввинов и роты богатырей из президентской охраны. За минусом последних, каждый толкнул подобающую речь, и все строем последовали в новостройку. Сначала мне все понравилось, а потом понравилось еще больше.
По обе стороны молельного зала были возведены стелы, на которых золотыми буквами величиной в аршин (слева – слева направо по-русски, а справа – справа налево на иврите) были написаны до боли знакомые слова. Я подошел к близстоящему раввину и подергал его за пуговицу.
– Учитель, – вежливо спросил я, – а кто автор этих щемящих слов?
– Об этом знают только двое, – национально затемнил ответ ребе.
– Кто же это, учитель?
– Автор и Господь! – опять же национально вывернулся раввин и достал серебряный портсигар в каменьях, намекая собеседнику на окончание разговора, и удалился в курилку.
Тут я увидел бывшего офицера конвойных войск МВД М. А. Эпштейна, громко спорящего в нецензурных выражениях со знаменитым адвокатом Генри Резником о прозрачности границы добра и зла. Я пожалел либерального присяжного поверенного, а когда-то моего пионервожатого, которого на его седую голову еще в буфете отеля познакомил с новым русским Эпштейном, ярым приверженцем ночных допросов с пристрастием типа конкурентов по бизнесу, и поманил экс-конвоира к себе.
– Мишель, хочешь быть третьим? – задушевно спросил я старого собутыльника и преферансиста.
– Это смотря какая компания, – обнаглев от близкого соседства с высокоуважаемыми членами президиума, проворчал спорщик.
– Не дай дуба, дружище! – задрал я нос. – Ты, я… и Господь Бог!
– Не понял? – сказал Мишка.
– А я тебя «на понял» и не беру. Ты без темных очков золотые буквы прочитать можешь?
– Ну и что, – прочитал по слогам короткий текст Эпштейн, – что особенного-то?
– Да это мой собственноручный шедевр, сравнимый только с аналогичной надписью на кремлевской стене. Между прочим, тоже авторский – Ольга Берггольц сочинила. Помнишь, коротко и ясно: «Никто не забыт, ничто не забыто»? А здесь то же самое, только вид сбоку и про евреев.
– Володичка, не парь мозги! А где подпись под ксивой?
– Ты что, кент-мент, мне не веришь?
– Докажи, поверю! Я тебе не премьер-шлимазл из Керогаза.
– Звони нашей секретарше в Саратов!
– Зачем?
– И спроси ее, что коллега Глейзер отправлял полгода назад факсом Гусинскому!
Вышел неверующий Фома на улицу, достал дефицитный в ту пору сотовый телефон величиной с транзисторный приемник «Спидола», позвонил в родную фирму «Рим», а секретарша ему факс и зачитала – слово в слово с золотой надписью!
– Ну, ты, Володичка, даешь! В один день – Кобзонова свадьба, пьяный пионервожатый Резник, Черномырдин в дружеских объятиях, Ельцин в синагоге. Мне хватит глюков со вчерашнего бодуна. Идем в кабак за мой счет, похмелимся. Нет базара – заслужил!
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ. ФАМИЛИЯ И ОТЧЕСТВО
Мой дедушка Мирон умер, когда мне было пять лет, но мне кажется, что я помню его огромные усы с торчащими концами, которыми он щекотал меня, держа на сильных руках. То, что дед был человек с биографией, я узнал значительно позже и порциями. Дурное общество, в котором дедушка прожил последние тридцать лет жизни, не позволяло гулять по его анкете из соображений безопасности движения по многократно пересеченной местности. А житие полусвятого Мирона было весьма поучительным.
Начнем с того, что среднестатистический киевский мещанин Меер Давидович Глейзер был русским патриотом, добровольно, без отеческого благословения, пошедшим на русско-японскую войну и в рядах 19-го Сибирского стрелкового полка в звании старшего унтер-офицера «участвовалъ въ сраженiях противъ непрiятеля и былъ награжденъ знакомъ отличiя Военнаго Ордена 4-й степени за № 3960». С 1913 года эта награда стала называться Георгиевским крестом.
Странные они все-таки типы – царские жиды города Киева! Отец семейства в соответствии с фамилией («глейзер» на идише – стекольщик) торговал стеклом и фаянсом. Старший сын окончил консерваторию в Вене по классу скрипки. Младший, выпускник коммерческого училища, почему-то основал вместе с поляком Мицкявичюсом-Капсукасом компартию Литвы, за что и стал председателем Центробанка Украины. Дочь – выпускница Женевского университета. А средний, Меер-Мирон, продолжал оставаться великодержавным патриотом и опять же добровольцем участвовал в войне русско-германской, получил там первый обер-офицерский чин и второй крест, после чего угодил в плен.
Но офицерский плен времен Первой мировой войны кое в чем отличался от плена в следующую войну: прапорщик Глейзер, будучи в заточении, получил очное высшее агротехническое образование и вернулся на сильно изменившуюся родину дипломированным агрономом. Со своим другом и однокашником по германскому политехникуму поручиком Арамом Варжапетовым он купил в крымском поселке Саки землю и организовал сельхозколонию, которая к Году Великого Перелома через сталинское колено снабжала своей продукцией десяток городов.
Кто был умней, еврей или армянин, история умалчивает, но после «головокружения от успехов» оба с полуострова бежали, да так, что органы их даже не покарали за преступное тайное явное самораскулачивание.
В Москве благодаря протекции сестрички, доктора медицины и главного акушера Кремлевской больницы Мириам Давыдовны (в семье все называли ее Мирамидочкой), беглый агроном устроился незаметным экспедитором в Минздрав. И через год в Заветах Ильича (подмосковном поселке с явно недопонятым далеким от ленинизма дедушкой названием) на выкопанные из скудной крымской земли золотые червонцы построил дачу, на которой до финской кампании с ранней весны до глубокой осени проживали многочисленные дедовы родственники.
В роковом сороковом он, приехав на электричке в заснеженный дачный поселок, обнаружил вокруг своего детища огромный зеленый забор, на котором сияла свежей белой краской надпись: «Военный объект. Вход строго запрещен!» Мирный Мирон, герой двух войн, в сражениях с невидимым неприятелем не участвовал и с очевидными бандитами в аннексии и контрибуции не играл, поэтому, смахнув прощальную мужскую слезу, покорно ретировался в глубокий тыл своего же врага. Да разве докажешь красным, что черное – это не белое!
Так двухэтажная дедушкина избушка на крымских ножках с пятьюдесятью сотками волшебного леса стала госдачей наркома Клима Ворошилова, почти беззаветного борца с антисоветской линией Маннергейма. Почти – потому, что главный завет Ильича: грабь награбленное, чтобы «кто был с ничем, тот станет со всем», – был припевом известной партийной песни, из которой не только слова, но и полслова не выкинешь!
В качестве достойной своего времени и строя компенсации за неполную конфискацию, бывшего царского прапорщика и советского нэпмана, дважды георгиевского кавалера и дипломированного австро-германского агронома дедушку Меера-Мирона Давидовича Глейзера опять не арестовали.
Так он и жил еще десять лет счастливым и нерепрессированным со всепонимающей бабушкой-кулинаркой Цилей в их крошечной коммунальной минздравовской квартирке на улице Неглинной, дверь в дверь напротив Сандуновских бань. Бывало, съездит на электричке к зеленому заборчику, нарубит свежих березовых веточек, свяжет веничек, купит по пути шкалик – ив баньку, усы парить! Что еще незаметному старичку нужно?
А вот мужа сестрички Мирамидочки Александра Григорьевича Будневича репрессировали дважды. Когда его непосредственного начальника Серго Орджоникидзе, на которого дядя Саша работал замнаркомом по черной металлургии, застрелили товарищи по партии и борьбе прямо в служебном кабинете, старый большевик и подпольщик Будневич, не дожидаясь очевидной мясорубки, по беспартийной дедушкиной наводке смылся в отдаленный от краткого курса истории ВКП(б) город Саки, где и устроился на зятевой явке сборщиком черного вторсырья.
Его нашли через два года и дали десятку по нетяжелому обвинению: за дискредитацию звания бывшего замнаркома, – которую он честно отработал в Озерлаге от звонка до звонка.
Как настоящий верующий коммунист он поверил в свое освобождение. И был взят тепленьким на Ленинградском вокзале столицы непосредственно в момент объятий с женой и детьми. Тут же, чуть ли не на перроне, мнимый освобожденец получил повторную десятку по более тяжелому обвинению: за недачу показаний по бесконечному делу все того же укокошенного сталинского пса и стального наркома тов. Г. К. Орджоникидзе.
Вернули из Магадана бывшего замнаркома в первую же кампанию по показательной реабилитации самых глупых врагов народа в 1954-м, еще почти культоличностном году. И я долго слушал от несгибаемого орджоникидзевца занимательные истории о его собственном «чудесном грузине»:
– Однажды на личном поезде наркома мы ехали с инспекцией в Ростов-на-Дону. И поссорились всерьез по одному сугубо производственному вопросу. Горячий Серго стоп-краном остановил поезд, выбросил меня за шкирку из вагона и помчался на юг. Вокруг была заснеженная и безлюдная Сальская степь, и единственным путем, который куда-нибудь вел, был железнодорожный. По нему-то я и шагал часа два в пиджаке, пока не послышался паровозный гудок и поезд наркома задним ходом не поравнялся со мной. Григорий Константинович спрыгнул с площадки с буркой в руках, смеясь, завернул меня в теплую овчину и сказал: «Ну, остыл, спорщик? Пойдем ко мне в купе, чайку горячего выпьем, коньячком закусим!» А был бы на его месте паскуда Гришка Зиновьев – не вернулся бы, сволочь!
Писателю Рыбакову дядя Саша, наверное, нарассказывал значительно больше, поэтому в знаменитых «Детях Арбата» я признал в замнаркоме Будягине не по эпохе наивного прототипа.
Мой папаша Веничка правила азартной игры не на жизнь, а на смерть с партией и правительством усвоил со счастливого детства. И честная запись в трудовой книжке, что с четырнадцати лет он работал трактористом в сельхозкоммуне «Арамир» (Арам + Мирон), позволила ему поступить сначала на рабфак, а потом закончить Высшее техническое училище им. Баумана.
Когда в 1937 году большевики громили Первый московский подшипниковый завод, где папенька в двадцать пять лет уже был начальником производства, его вовсе не расстреляли заодно с директором Юсимом и двумя десятками других врагов народа. А как человека с безупречной трудовой биографией и племянника мирно умиравшего в Доме ветеранов революции основателя компартии Литвы только разок (и на всю оставшуюся жизнь) загорбоносили об рабочий стол следователя и поставили в таком виде на вид за связь с врагами народа. Беспартийный и более родственный агроном в аккуратной папашиной биографии не очень проглядывался.
Эвакуировав в первые месяцы войны родной завод в тыл для фронта, в город Саратов, папенька дважды уходил воевать лицом к лицу с настоящими врагами народа – фашистами и столько же раз возвращался укреплять оборону, что придавало ему жизненных сил. И окончилось моим внеплановым зачатием под грохот канонады: в ночь любви немцы бомбили местоположение брачного ложа безбожно.
Аборты были уголовно запрещены, и мама тайно травила меня хиной и выпаривала в горячей ванной. Бесполезно – еще в утробе я бился не на смерть, а на жизнь, и первую победу одержал в родовой схватке. Мамуля горько раскаивалась в несовершенном преступлении и платила сыну десятикратной любовью до самой кончины у меня на руках.
Первое поражение у папеньки также имело медицинский характер: его вместе с остальными руководящими евреями выкинули с работы по «Делу врачей», которые зачем-то умертвили членов политбюро тт. Жданова и Щербакова по заданию американской разведки «Джойнт». То, что руководящие евреи из папашиного окружения были пациентами, а не врачами, рассматривалось как отягчающее обстоятельство.
И хотя меньше чем через полгода лучший друг всех оставшихся врачей и подшипниковцев, главный сценарист этого и других политических детективов сдох, как паршивая собака, запертый в бронированном чулане своего госпоместья, а дело уцелевших медработников-вредителей закрыли, папашу не восстановили на прежней должности главного инженера, а отправили искупать вину малой кровью – тоже главным инженером, но уже машинно-тракторной станции в село Галахово Екатериновского района Саратовской области.
Остроумный папаша, что-то помнящий с допетлюровского детства об основах иудаизма, говорил, что теперь он Дважды Еврей Советского Союза – по паспорту и по Галахе («Галаха» – это жесточайшие законы, расписывающие всю жизнь религиозных евреев от рождения до смерти).
Но по жизни отец был атеистом и пьяницей-застолыциком, компании с которым не чурался никто. Иудей-дедушка пил, потому что был русским солдатом, а папаня имел на это другие и веские основания: во время очередного петлюровского погрома добросердечные хохлы-соседи окрестили голубоглазого отпрыска героя империалистической войны аж в самом Софийском соборе! Когда в Крыму дедушка узнал о папашином прозелитстве, то он еще раз перекрестил его – ремнем по заду. Но назад хода не было! Так что пьяницей крымский папа был нашим, коренным, православным!
Пчеловод Арсентий, который почти бескорыстно пользовал папашу медовухой (самогоном убойной силы, пить который можно с удовольствием до самого упаду), приговаривал:
– Что за имечко – Винамин? Наверно, правильно – Витамин, Витя по-нашему! А с Витем – все путем: выпьем за родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальем!
Пьянство у Лжевитька находилось в непримиримом противоречии с чадолюбием, поэтому мама приняла единственно правильное решение – чтобы не прерывать свой рабочий стаж, она отправила на деревню к Веничке двух детей с няней, оставив за муженьком право свободного выбора: или позорить своей пьяной рожей ухоженных няней сынков-отличников, или умерить свой порочный пыл!
Щуряток бросили в реку!
Завидуйте, Тема и Никита! Мое детство было лучше вашего! Может, и у вас был свой конь, но мой, с не случайной для недоделанного колхозного кастрата кличкой Однококий, был моим другом утром и вечером. А днем у меня, десятилетнего шалопая, был еще один друг – железный конь, ржавый эмтээсовский американский мотоцикл с коляской «Харлей-Дэвидсон». Пятьдесят миль в час по спидометру по галаховскому бездорожью и распиздяйству на залатанном резиновом ходу! Пыльный и одинокий участковый приветствовал бесправного малолетку под козырек напутственными словами «Физкульт-кювет!», чего в результате и дождался без серьезных последствий для юного мотогонщика.
Однококого коня я поил и мыл мочалкой на собственном озере, которое пряталось в камышах в ста шагах от нашего просторного бревенчатого дома, а мой старший брат Юра там же обе зорьки промышленно отстреливал дикую водоплавающую курицу лысуху, повышенная яйценоскость которой предотвращала занесение в Красную книгу. И как-то в утреннем тумане этот Соколиный Глаз, стреляя на шум, засандалил заряд мелкой дроби в мокрые крупы Однококому и мне.
Наше дикое совместное ржанье эхом растеклось по оврагу, когда разузданный Сивка-бурка (он же Конь – В Жопе Огонь) вынес на мелко дрожавшем крупе непривязанного седока на равнину, взбрыкнув, сбросил его через голову оземь и встал передо мною, как лист перед травою, сохранив мне жизнь.
Няня Саня обожженной иголкой выковыряла из моих пыльных ягодиц восемнадцать дробинок. К лоснящейся здоровьем, несмотря на шрапнельное ранение, подхвостовой части Однококого никто подойти не осмелился. Большой Белый Брат лишился после мокрого дела главного атрибута вольной жизни – тульской двустволки и был сослан в Москву, учиться на академика. Но страсть к лишению жизни диких рыб и животных осталась у него на всю жизнь. И сейчас, в далеких Северо-Американских Соединенных Штатах, Ричмонд, штат Вирджиния, он тратит все свои пенсионные капиталы на лицензированный отстрел живности и рыбную ловлю, с умилением вспоминая бесплатную Родину, где безнаказанно можно было палить в лысух и жопу родного брата!
Вечера на хуторе близ Диканьки я проводил в сельском клубе, куда меня пропускали по блату как сына Мироныча (не путать с убиенным питерским вождем!), за что был галаховским Миронычем неоднократно бит – папаша не любил халяву и давал детям хорошее воспитание. Кинопередвижка потчевала невзыскательную деревенскую публику трофейными шедеврами кино, и я по десять раз смотрел и «Мост Ватерлоо», и «Королевских пиратов», и «Рюи Блаз», и «Путешествие будет опасным»! К счастью, папаня с ремнем в трясущейся от жалости руке заставлял меня читать хорошие книжки все не занятое столь приятным досугом время. Книжки папаня, поступаясь принципами, доставал по блату.
Но это личное, а с общественной стороны папаня был в авторитете. Конечно, в железках он разбирался знатно, конечно, руководить он мог и значительно большим коллективом бездельников и пьяниц, чем десяток механизаторов. Но главное, он везде был – своим! Не мешали ни фамилия, ни шнобель, торчавший нерусской возвышенностью над среднекурносой равниной. Быть может, именно этими особенностями он и запомнился окружающим?
Как известно, земля круглая. Женится мой сын Илюша на красавице-однокурснице Тане Шалышкиной. И справляют они свадьбу в кафе «Чебуречная». Со стороны жениха – пара дружков да я с женой. Со стороны невесты – бабы и мужики в неимоверном количестве, отличающиеся друг от друга только челюстями: у зажиточных – золотые, у остальных – железные. Народ простой, веселый, пьющий. С традициями: надо под занавес кого-нибудь отпиздить. Не со зла, а на память. Нутром чую – меня отобрали! Вступаю с шафером в переговоры. Мол, откуда понаехали? А он мне и говорит:
– Тебе-то не все равно, галаховские мы!
– Галаховские? – переспросил я в надежде на уникальность топонимики. – Которая на речке Белгазе в Екатериновском районе, напротив Свищевки, Поповки и Кинь-Николаевки?
– А ты откуда нашу географию знаешь? – напрягся шафер.
– Да это – родина моя! – приврал я во спасение. – Жил там с отцом в пятидесятые, он главным инженером МТС был. Глейзер его фамилия.
– Мужики! – заорал шафер. – Да сват – земляк наш, он самого Мироныча сын родной, а жених – внук! Ура!
Так что все хорошо, что хорошо кончается.
В случае с моим детством было наоборот. Убедившись в устойчивости симбиоза пьющего папаши и непьющего пока еще сынка, мамка настучала маме, и та под угрозой неминуемого развода отозвала главного инженера МТС с вверенного ему партией и правительством поста. Но партия не могла не бороться с нарушителями своего устава и исключила в первый раз верного ленинца Глейзера В. М. из своих рядов «за развал Галаховской МТС», которая уже два года занимала первое место в социалистическом соревновании этих колхозных уебищ.
Обрадованный неправедной формулировкой лишенец нагло поехал в ЦК, как-то пробился в комитет партийного контроля, и сам тов. Шверник Н. М. заменил ему на первый раз изгнание из рядов на строгий выговор с предупреждением. О чем предупреждение, в копии протокола не было, и обнадеженный сын конфискованного агронома расслабился!
Оттепель-то прошла, да озимые еще не взопрели! Чудом протоптав дорожку к тов. Швернику, он не замел ее, как и положено неуловимому ковбою Джо, а через неделю приперся в Комитет партийного контроля с наглым заявлением о «возвращении ему на законных основаниях отцовой дачи, реквизированной с нарушениями в военное время финской войны».
Вот тут скверного ленинца выкинули из ордена меченосцев второй раз и окончательно с бесповоротной формулировкой «за аморальность в быту и попытку хозяйственного обрастания»!
Несостоявшийся наследник всех своих родных крепко запил и получил первый инфаркт.
Лежа недвижно в постели, неунывающий остроумец шутил:
– Коммунизм – это советская власть плюс конфискация всей страны!
Инфаркт номер два имел производственную подоплеку. Работая беспартийным главным конструктором в оборонном подмосковном НИИ, отец состоял членом закупочной комиссии своего министерства. И использовал служебное положение в корыстных целях: обеспечивал валютные поставки современного оборудования на родное предприятие.
Доллар стоил шестьдесят копеек, денег оборонщики не считали вовсе, за небольшие взятки в виде западного ширпотреба отечественные чиновники не покупались только что за дерьмо. Без упаковки. Поэтому привоз из заграницы японского обрабатывающего центра (а именно его выбил для НИИ беспартийный коммунист) стоимостью в пять миллионов долларов был для отца событием эпохальным. Чем он и гордился в кабинете директора в то время, когда в заводском дворе, прямо под окнами шла разгрузка. Как только он закончил восторженный автопанегирик и выглянул в окно, его и хватил удар.








